Текст книги "Трусаки и субботники (сборник)"
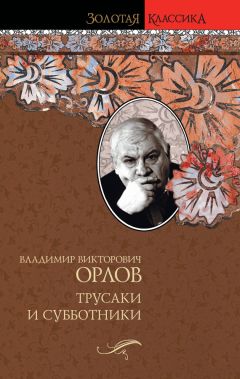
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 39 (всего у книги 46 страниц)
56
А тогда мы с Федором Дулей впервые сошлись на поле. Я давно не был столь доволен своей игрой. Я хотел играть, и хотел хорошо играть. И вовсе не потому, что на меня глазели сотни или тысячи глаз. И не потому, что меня раззадорил (задор был, злости не было) сильный или даже классный соперник. Причина моего воодушевления была иная. И я не сразу ее понял. Или назвал ее себе. Мне хотелось, чтобы игра не прекращалась вовсе. Или продолжалась еще хотя бы два тайма. Чувство было – из желаний остановить мгновение. Но именно и не остановить, мое-то мгновение останавливать было бессмысленно, оно ведь воплощалось в движениях, и его следовало растянуть, чтобы до услады, допьяна им насытиться. Пафосное, со взбитыми сливками объяснение тогдашнему моему воодушевлению (восторгу – еще взобью сливки, полагаю, что восторги случаются не только в поэзии, но и в иных людских проявлениях) явилось позже. И состояло оно в том, что я играл вблизи стен Гостиного двора, играл перед этими стенами, и не вблизи собственно Гостиного двора, а вблизи собрания Сибирских бумаг, то есть Сибирской истории. Посторонний человек посмеется над взбиванием мной сливок или посыпанием печеного яблока сахарной пудрой, и справедливо поступит. Но я тогда был убежден и теперь убежден (хотя пафос растаял, а пудра осыпалась), что сетка спорткалендаря не зря вынудила меня оказаться у Гостиного двора, одарив меня знаком судьбы, и это нечаянное приближение моей натуры к кладовой истории и вызвало известное воодушевление. Красиво, скажете, но так оно и было. Иногда подобное случается… Я вроде бы начинаю оправдываться… Заехал… Ну ладно.
Время до отъезда в Турпас у меня имелось, я со спортивной сумкой на плече спустился в нижний город. При подъеме обратно в Кремль Софийским взвозом в каменное ущелье подпорных стен инженера елизаветинских времен Якова Укусникова на булыжнике взвоза я повстречался со Степаном Леонидовичем Корзинкиным, упомянутым главами раньше. Степан Леонидович Корзинкин, «отпетый краевед» (его слова), ветеран здешнего театра, был моим Вергилием в прошлых прогулках по Тобольску.
– Ба! Чрезвычайно рад вас видеть, Василий… – Степан Леонидович раскинул руки, никак не мог, видимо, вспомнить мое отчество, ему и неизвестное, и оттого шаг навстречу мне не производил.
– И я рад вам, Степан Леонидович, и не надо отчества…
Мы обнялись.
– И все же для удобства бесед надо было бы знать, Василий…
– Николаевич, – подсказал я.
– Василий Николаевич, позвольте вас познакомить, – сказал Корзинкин, – с нашим хранителем древностей Виктором Ильичом Сушниковым.
– Куделин, – протянул я руку.
Жаркая погода позволила Корзинкину прогуливаться в ковбойке, легких брюках и сандалиях. Спутник же его вызывал мысли о чеховском Беликове – зонтик в руке, брезентовая куртка, соломенная шляпа, курортная легкость не была ей свойственна.
– Виктор Ильич, – произнес Корзинкин, будто подарок вручая, – а ведь Василий Николаевич – автор той самой наделавшей шуму статьи о Тобольске.
– Соавтор, – сказал я. – Соавтор Марьина.
– Да, да, – подтвердил Корзинкин. – Того самого Марьина.
– Очень рад, очень рад, – закивал Виктор Ильич. В глазах его выявилось удивление. – Милости просим к нам в гости…
– Непременно посетите ведомство Виктора Ильича, – еще более обрадовался Корзинкин. – Вы уж там бывали. Но в отсутствие хозяина…
И Корзинкин назвал должность Виктора Ильича. Из скороговорки Корзинкина я не понял: то ли Виктор Ильич заведующий архивом, то ли исполняющий обязанности заведующего. Словом, хозяин-распорядитель.
– Вы снова у нас в командировке? – поинтересовался Корзинкин.
– Нет, – сказал я. – Я здесь уже полгода. Плотничаю на трассе. А сегодня вот пригнали играть в футбол как раз перед вашим домом.
– Так это были вы, Василий! – воскликнул Корзинкин. – И мы сидели с Виктором Ильичом на южной трибуне и восхищались… Я думал, «десятка» похож на одного знакомого, но мне и в голову не могло прийти…
– Такой поворот судьбы, – попытался улыбнуться я.
– Да… такой поворот судьбы… – протянул Корзинкин, видимо осознавая странность поворота.
Видно было, что собеседники мои озабочены, в особенности обескураженным выглядел Виктор Ильич Сушников.
– Причины самые земные, – сказал я. – И увлечение москвича Сибирью…
– Василий Николаевич – историк по образованию, – шумно поспешил поддержать мою репутацию добрейший Корзинкин. – Он окончил МГУ. Сибирский архив его удивил и восхитил.
– Да, – согласился я. – И меня, не скрою, обрадовало, Виктор Ильич, приглашение побывать в ваших стенах.
Повтора приглашения не последовало.
– Василий Николаевич проявлял интерес к Крижаничу, – отчего-то вспомнил Корзинкин.
– К Крижаничу? – еще более удивился Виктор Ильич.
– Да, и к Крижаничу, – сухо сказал я.
– Но ведь Крижанич… – Виктор Ильич подбирал слова. – Но ведь Крижанич… во многих отношениях… фигура сомнительная…
И было очевидно, что я становлюсь для Виктора Ильича еще более сомнительной фигурой, нежели опальный хорват Крижанич.
– Но он же наш, тобольский! – воскликнул Корзинкин.
– Какой же он тобольский? – возразил Виктор Ильич.
– Все-таки почти шестнадцать лет у нас… Считай, что почти четверть жизни, – не мог удержаться энтузиаст Корзинкин, но уже утихомиривал себя.
– Да мне бы просто побывать у вас, посидеть, юность студенческую вспомнить, – сказал я. – И вовсе не из-за Крижанича… На бумаги Ремезова взглянуть, Ивана Никитина, к основанию городов сибирских интерес есть, в особенности в связи с нашей трассой…
Я говорил искательно, мне стало противно.
– Что же… Заходите, заходите… – вяло сказал Виктор Ильич, – примем уважительно, раз вы историк и имеете интерес… Заходите.
А Степан Леонидович Корзинкин, загорелый, с чуть седоватыми кудрями художника-передвижника, опять оживился:
– Василий Николаевич, а не продолжить ли нам беседу у меня в доме?
– Спасибо, Степан Леонидович, – ответствовал я. – Но мне уже надо в Турпас.
– Жаль! Очень жаль! Вот мой адрес, это внизу, недалеко от театра. И вот телефон театра, – Степан Леонидович вручил мне листочек, вырванный из блокнота. – Завезут вас еще в Тобольск, не забудьте про старика.
И Виктор Ильич Сушников произнес или, скорее, пробормотал какие-то подобающие вежливости расставания слова, суть которых я воспринял легко, но и степень недоверия ко мне человека с зонтиком ощутил: «Да такого хлыща и на порог в архив допускать нельзя».
«Ну уж нет, – пообещал я себе. – Через порог Гостиного двора я перешагну! И не на полчаса!»
В октябре мы ставили в Турпасе восьмиквартирный дом для семейных. Я уже был не только плотником-инструктором, но и в случае нужды заменял бригадира. В ту пору в моду вошли комплексные строительные бригады. В них, скажем, плотники обязаны были овладеть умениями столяров, каменщиков, штукатуров, отделочников и т. д. Это оговаривалось условиями всяческих соцсоревнований и учитывалось при распределении переходных знамен, вымпелов, грамот и денежных удовольствий. Помнится, мы столярничали на втором этаже, к нам поднялся Паша Макушин, первый мой наставник в Турпасе, ныне замначальника участка, поехидничал, ценные указания обнародовал, а потом объявил:
– А тебя, Николаич, человек из Москвы разыскивает… корреспондент вроде бы… И с ним начальство…
– Найдет, коли разыскивает, – сказал я, не останавливая руку с рубанком. Но тут же поднял голову: – Мужчина или женщина?
– А ты женщину, что ли, ожидаешь? – рассмеялся Макушин.
– Нет, – я смутился. – Женщину я как раз не ожидаю… Просто корреспондентом может быть и женщина, и мужчина…
– Этот – мужик, – успокоил меня Макушин.
Мужиком, естественно, оказался Марьин. Хотя на мужика, худенький, глазастый, остроносый, разве только с тяжелым подбородком, тогда он не был похож. С ним приехали Юрий Аверьянович Горяинов и Дима Константинов, те сразу отправились по объектам.
Сидели мы с Сергеем в одной из гостевых комнат общежития. Уважены мы были (столичный визитер первым делом) угощениями и закусками. Словам они, понятно, не мешали. Ради меня Марьин остановился в Турпасе часов на семь, а так заботы ждали его в Нефтеюганске, Самотлоре и в Мегионе. Человек он не менее, нежели я, сдержанный в проявлениях чувств, и все же мы находили выражения приязни друг к другу.
– Чувства чувствами, – сказал Марьин, – а ждем-то мы новостей. Я про тебя, будто бы схоронившегося в месте тихоньком, кое-что знаю, а кое о чем и догадываюсь. Тебе же иные вести будут и в новинку. Самое смешное, что движется дело с квартирой, не знаю, о чем писали тебе старики…
– О квартире ничего не писали, – сказал я.
– Впрочем, ничего смешного в протекании дела нет, – поправил себя Марьин, – так оно и должно было происходить, если бы соблюдались правила и законы, однако не соблюдаются… Но тут линейный корабль нашей государственной газеты наехал на дредноут райисполкома, и всех засвистали наверх, заскрипели перья, застучали машинки, и, глядишь, через год уважаемый Николай Захарович Куделин получит ключи от квартиры, и не в рухляди, а в новом доме…
– Через год… – протянул я как будто бы разочарованно.
– Ты меня веселишь, Куделин, – удивился Марьин. – Что у нас делается в момент? Случай с Ахметьевым особенный. Он – и не с нами, а – в надпространстве. А тут главное – возникла неизбежность выдачи ключей ветерану Куделину.
Удальцом или заядлым артельщиком проявил себя Башкатов. Его, бедолагу, как и прочих журналистов, окончательно не допустили в покорители космоса, он осердился. Осердился и на нашу Главную редакцию, не отважившуюся выйти с его делом на Брежнева и добыть газете выгоду и славу. Затея с квартирой для Башкатова – нескрываемый способ досадить Главным, в частности и К. В. – Башкатов, конечно, передавал тебе привет, – сказал Марьин. – И просил напомнить – в резкой форме! – о каких-то двух солонках и какой-то картонке, якобы ему принадлежащих. Они ему крайне необходимы.
– Перебьется! – сказал я. – Без меня их в Москве никто не отыщет. Будешь передавать привет от меня этому самому Башкатову, поинтересуйся, не объявилась ли моя солонка № 57. Она пропала перед моим отъездом. Не вернул ли ее какой-нибудь шутник?
– Поинтересуюсь, – кивнул Марьин. – Но что-то я не слышал о ее чудесном явлении.
– Мне без нее отчего-то скучно, – признался я. – И тревожно… Кому она понадобилась? И зачем?
– Ты такую Анкудину, – помолчав, спросил Марьин, – вроде бы знал?
– Знал… То есть и теперь знаю.
– Ее арестовали…
– Во второй раз?
– Во второй раз…
– А Миханчишина? – вырвалось у меня.
– Что Миханчишина? – удивился Марьин. – При чем тут Миханчишин?
– В прошлый-то раз… – пробормотал я.
– Нет, Анкудину якобы забрали еще с двумя якобы распространительницами чего-то, нам неизвестного… Но при чем здесь Миханчишин?
В интонации Марьина ощущалось чуть ли не требование дать разъяснение моего внезапного интереса к личности Миханчишина. Я сгоряча готов был просветить Марьина, при чем здесь возможен Миханчишин. Но вспомнил о том, как однажды уже погорячился.
– Нет… Конечно, ни при чем, – заспешил я. – Это я так… сам не знаю почему…
– Если у тебя на уме Миханчишин, – сказал Марьин, – то могу кое-что сообщить о нем…
Много ездит, много печатается. Поощрили поездкой в Грецию на молодежный форум. Тоже остались довольны. Стало быть, теперь выездной. В продолжение поощрений собрались его послать на два года собкором в Румынию. И тут выяснилось, что наш пострел не во всем успел. Очки-то он прикупил нормальные, а вот женой не разжился… И пришлось неустроенному хлопцу, воителю с куркулями и всеми, кто надевает носки без дыр, по срочности отъездного дела просить руки… Марьин разу лыбался, но вспомнил, с кем беседует, и поскучнел.
– Говори, говори, – сказал я, – меня ты вряд ли опечалишь…
– Все это на уровне сплетни, – поморщился Марьин. – Ято с Миханчишиным ближе не стал… Предложение он делал Юлии Ивановне Цыганковой. Отказ получил в чрезвычайно вежливой, сострадательной, добавлю, форме.
«Валерия Борисовна слезки небось вытирала со щек юноши с порушенной любовью, – пришло мне в голову, – слова утешения рекла…»
– Но именно из-за срочности дела, посчитаем государственного, тут же сыскалась иная подруга жизни, эта, кажется, дочь секретаря ВЦСПС…
– Да, Денис Павлович Миханчишин в Москву не шнурки ботиночные добывать прибыл, – сказал я. – Но хватит о нем. Ахметьев как?
– На Ахметьева я и собираюсь перейти, – выразил недовольство мной Марьин. – Потому как Ахметьев тоже, если верить молве, сделал предложение Юлии Ивановне Цыганковой. В этом случае – пока думают.
Все кончится будильником, предположил я. И мне стало жалко Глеба Аскольдовича. Но раз в осуществлении своих чувств (а из нескольких разновременных реплик Ахметьева я понял, что он Юлией Ивановной увлечен, серьезный человек, стало быть, всерьез) Глеб Аскольдович, соблюдая приличия, приблизился к семейству Ивана Григорьевича Корабельникова, можно было вывести, что его духовно-творческое пребывание среди аристократов духа и мудрецов дивана происходит наилучшим образом. И нечего о его делах справляться.
Марьин нечто уловил в моем молчании и более о Юлии Ивановне не упоминал.
Из перечислений им всяческих редакционных событий, казусов, будничных случаев, мне не безразличных, выходило, что за семь месяцев моего отсутствия ничего ошеломительного не произошло. Все привычное. Кого-то приютили в штате из дипломников журфака, кого-то из серых перьев, напротив, попросили уйти, у Топилиных родился второй сын, Нинуля по-прежнему хворает, но на службу ходит, Капустин в трауре, команда наша заняла седьмое место, маэстро Бодолин брюзжит, но по ночам пишет нетленку, К. В. во французском посольстве разрешили приобрести списанный «шевроле», он с месяц попижонил, но вынужден был продать игрушку, нет запчастей. И т. д. и т. д. «Еще тебе передавали приветы Зинаида Евстафиевна и буфетчица Тамара, – добавил Марьин. – Тамара добавила со мной два слова: „Она приближается“. Или: „Она приблизилась“, что ли?» Возможно, вопреки ожиданиям Марьина, я не стал интересоваться, кто «она» и к чему приближается. А спросил о его издательских делах. Только что улыбавшийся Марьин помрачнел и налил себе чуть ли не полный стакан. Я посчитал необходимым поддержать его, но налил полдозы.
– Все-таки замечательны в Сибири соленые грузди, – заключил Марьин, опуская на стол освобожденную от гриба вилку.
Я не мог не согласиться с ним.
Сказал мне Марьин немного. Говорил он нервно, порой вскрикивал и бранился. Ему стыдно было привезти в Тюмень книжку, стыдно! Второй роман его после публикации в «Юности» вышел в «Советском писателе». В журнале цензура произвела выстриг газона, ей бы и успокоиться. Ан нет! Марьин взял в руки сигнальный издательский экземпляр и обомлел. Роман словно бы приболел стригущим лишаем, а с ним, автором, о вымарках и разговора десятиминутного в издательстве никто не заводил. Марьин поспешил к чинам, под собой и вперед смотрящим, выражать негодования. И вышел скандал, к чему Марьин по натуре своей не был расположен. «Вот, вот! – заявили ему обрадованно. – Вся эта ваша журнальная компания при „Юности“ склонна к скандалам, свои таланты вы преувеличиваете, себялюбцы, таращитесь на Запад, еще неизвестно, где завтра будут эти ваши Аксеновы, Гладилины и Кузнецовы, пока лишь один из вас, поколобродив, пообезьянничав, походив Хемингуэем, Семенов Юлиан, опомнился и суть понял, хемингуэева борода пусть при нем остается, но он знает, что следует делать для народа, и будет народом оценен». Напоследок, при утихшем уже звуке и даже будто бы с доброжелательным растяжением губ, Марьину посоветовали поскорее покончить с младозасранчеством (выражение это употреблял и Борис Николаевич Полевой, но словно бы весело-уважительной насмешкой, а здесь оно просвистело утончающимся кожаным кончиком бича). Покончить и творить народу полезное. Готовый к примирению, Марьин взял и нагрубил собеседникам. И теперь у него плохие предчувствия. (Предчувствия скоро стали протекать на Марьина холодными капелями, лет восемь или более того его сочинения не публиковали, семьей они жили впроголодь, Марьин ушел из газеты, поездки даже и в Болгарию стали для него невозможны и пр. Но это – потом…)
– Они дураки и трусы, – устало сказал Марьин. – Они вредят не только идеалам, но и самим себе… И все же именно они допустили явление «Мастера и Маргариты»… А это уже – новое летосчисление…
«И у Марьина – свое летосчисление!» – подумал я. И чтобы сбить пафос Марьина, выговорил отчего-то: «А „Битлы“ закончили выступать в концертах. Все уготованное им исполнили…» – «Битлы»? – Марьин с удивлением взглянул на меня. – Ты же не слушаешь Голоса, то есть не слушал…» – «Я и теперь не слушаю, – сказал я. – У нас на трассе из каждой форточки рычит Высоцкий и печалится Ободзинский, но у многих есть и транзисторы. От наших турпасских я и узнал, что „Битлы“ свое предназначение совершили…» Марьин молчал, шевелил губами, потом вернулся к своему: «Явление „Мастера“ тем замечательно, что вечный, неистребимый и несдвигаемый пласт („Фу-ты, слово-то какое геологическое“, – проворчал Марьин) ценностей романа стал опорой порядочных людей в ежебудничных соприкосновениях с напором фальши, вранья и цинизма. „Мастер“ уже растворен в душах. А подвешенные над публикой на чиновничьих гвоздиках властители душ, то есть узурпаторы душ, этого не понимают. Одни – в заблуждениях о целостностях общества, другие – бессильны что-либо изменить и оттого трусят. Вот и лепет ребятишек из анкудинского „кружка“ они посчитали чуть ли не подрывом строя, слава Богу, случился казус, нам с тобой известный. А в Ленинграде, ходит молва, недавно арестовали человек сто, и там страхи посерьезнее. „Беда, нас ждет беда…“ – заключил Марьин и снова плеснул жидкость в стакан.
– Слушай, Сергей, – встал я. – Я все не хотел говорить тебе об этом. А теперь скажу… Поосторожнее будь в общениях с Миханчишиным… Есть и другие люди, ты, возможно, догадываешься какие… Но с Миханчишиным поостерегись в особенности… Марьин поднял голову, смотрел на меня долго.
– Твой отъезд из Москвы связан с Миханчишиным? – спросил он.
Я молчал. Потом произнес:
– Я тебе ничего не говорил. Ты от меня ничего не слышал.
После моих слов о Миханчишине Марьин поутих и, похоже, свои литературные переживания отослал в Москву. Мне же он сообщил, что в Тобольске встречался с персонажами нашей с ним статьи, они чуть ли не обижаются, что я у них не объявляюсь. А если я о чем-либо намерен писать в газету, наставлял меня разомлевший Марьин, то уж лучше – не о строительных коллизиях, этого добра в газете хватает, а именно – о Сибири исторической, ее энтузиастах – музейщиках, краеведах, реставраторах, архивистах. «Посиди в архиве, ты же им восхищался, о нем напиши, я тебе Поручение в Тюмени изготовлю как вне штатнику…» Поводов спорить с Марьиным у меня не было.
– И вот еще напоследок. А то сейчас придут за мной… – тут Марьин разулыбался лукаво. – У меня к тебе есть сообщение деликатного свойства… Я колебался… Но после того как прочувствовал твое отношение к рассказам об ухажерах Юлии Ивановны Цыганковой, посчитал возможным выложить его тебе…
Деликатность сообщения состояла вот в чем. Речь должна была пойти об особе женского пола. Эта особа чрезвычайно интересуется мной и моим месторасположением. Она вышла на Марьина (трижды разговаривала, сказалась среди прочего и студенческой знакомой его жены). Марьину она понравилась, стало быть, он посчитал ее человеком хорошим и не опасным, и в жизненную озабоченность ее он поверил. Имени ее называть он не имеет права, потому как особа никакими полномочиями его не снабжала. Ей известно, что Куделин В. Н. проживает в Тюменской области, адрес его она может раздобыть и сама. Хотя и с затруднениями. Так не стоит ли уберечь ее от затруднений?
– Нет, – строго сказал я. – Не стоит.
Тут явились Горяинов и Константинов, дела праведные заставили их присесть за стол, меня они оделили комплиментами: «Ударник!.. Наша золотая бутса!» – «Ну уж и золотая, – проворчал я. – В лучшем случае бронзовая…» А через час трое укатили в Нефтеюганск. А потом и на Самотлор.
57
На обратной дороге из Самотлора в Москву Марьин заскочить ко мне не успел. Передали мне от него записку: «Поручение тебе (для архива) я выправил. Оно лежит у Горяинова. Не тужи. Авось все образуется».
Что я вывел из разговора с Марьиным?
В Москве ничего хорошего для меня не произошло. Скорее наоборот (если учесть собственные литературные сетования Марьина). Даже и намека обнадеживающего, мол, недолго тебе еще остается посибирничать, я не услышал. И писать, мне сказано, «можешь под псевдонимом». А понимать следует: «Лучше бы (и для нас, и для тебя) – под псевдонимом». Тут уж и разъяснения не требовались.
Не скрою. Я опять не прочь был бы услышать от Марьина одобрения своих «эссеистских» текстов. Мол, Василий, ты литературно способный, здесь не прокисай, не теряй время, пиши, пиши, сколько тут характеров и судеб тебе открывается! Нет, указательной палкой мне ткнули в историю и в архив. Причем сутьевыми словами Марьина следовало посчитать не «пиши об архиве», а «посиди в архиве». И Поручение с печатями выправлено для этого сидения.
В отношениях последних лет Марьина ко мне проступал из лохмотьев подробностей наших общений некий смысловой столб. Марьин выталкивал меня в командировки особенных свойств – в Тобольск, в Соли Камские, в Верхотурье. Теперь он подгонял меня усесться на бывший в употреблениях стул Гостиного двора Тобольского Кремля. А я и сам желал этого. Марьин о чем-то во мне догадывался. Что-то хотел проверить и утвердить. Но не производил ли при этом он, автор романов, и некий интересный ему, а вовсе не мне, опыт?
В этой связи требовалось с сомнением отнестись к марьинскому поручительству (проверено, мин нет) «напоследок». Об особе женского пола, а ей посвящалось деликатное сообщение, Марьин высказался: «Она мне понравилась», да еще и сослался на жену, бывшую для него несомненным авторитетом. Особой, понятно, не могла быть ни Юлия Ивановна Цыганкова, ни сладко-смуглая Тамара («А что если это – Лена Модильяни? – ударило вдруг меня. – Нет, исключено…»). Кстати, в персонажи деликатного сообщения могла угодить Валерия Борисовна, она уж точно сумела бы расположить к себе Марьина и уверить его в своих жизненных необходимостях. Но Валерия Борисовна знала, что я на нее в обиде и что обида моя несмываемая и неразменная, она не стала бы докучать Марьину. Оставалась одна таинственная незнакомка. «Она приближается», – передано мне Тамарой. Ее дело…
Должен заметить, что ночью, попрощавшись с Марьиным, я ощутил, как соскучился я по своим московским знакомцам («слезы умиления потекли по его щекам», это, конечно, не про меня, возможно, я вздохнул раза два глубже обычного и крепко выразился…). Но я соскучился! Не по всем, естественно, не по всем! Но и Тамару мне хотелось бы видеть. Даже и с Анкудиной я согласился бы сейчас тихо переговорить. А уж якобы приближающаяся ко мне особа ощутимо находилась среди людей мне дорогих. Следовало истребить в себе умиление и вспомнить о понятиях самодержавности своей натуры. Однако если особа и намеревалась приблизиться, то сделать это ей не удалось.
В конце ноября нашу бригаду назначили в зимний десант. Аврально высоковольтники стали гнать на север линию электропередачи, и наших подрядили рубщиками просеки для нее. Моей же бригаде надо было на одной из прииртышских высот срочно ставить два дома. Мы на высоту, или в обиходе – на гору Лохматую, и отправились. Везли нас на Лохматую на щите трелевочного, три других трейлера волокли блоки строений. Полагали поднять вагончик для жилья. Сугробы (молодые ели вокруг – в белых шубах) не позволили это сделать. В азарте согласились (пожарный случай) на брезентовую палатку с печкой-буржуйкой. Зря согласились. Случай и впрямь оказался пожарным. Дней десять работали нормально, мороз нас не жаловал, но по вечерам в палатке мы отогревались. С Большой землей связывались по армейскому радиотелефону, в те дни у одного из наших парней, Саши Хомякова, в Уватской больнице родился сын. Но потом мы погорели. Причем бездарно, днем. Бригада была на стройке, а оставшийся в палатке дежурным Коля Чеботарев, видимо, придремал, чугунный бок буржуйки раскалился, что-то бумажное свалилось на него, и пошло. Чеботарев выскочил из пожарища в шапке, трусах и валенках. Мы остались без крова, жилья, провизии, уцелело лишь несколько консервных банок. Остались при нас радиотелефон и шесть фонарей. Охотники наши хваленые дичи добыть не сумели. Грелись мы у костров. Четыре дня нас не могли снять с Лохматой и заменить бригадой Алеушкина. Пуржило. Везли с горы опять же на ледяном щите трелевочного, стрясывая то одного, то другого в снег и на елки. А уже были промерзшие, оголодавшие, и девятнадцать километров шутки отпускали исключительно дурного вкуса. Нагоняя мы не получили, без вагончика с обогревом людей не имели права оставлять десантом, про брезентовую палатку было велено молчать. И естественно, нас сейчас же окрестили погорельцами.
Я нисколько не жалел о четырех днях пурги, морозов, нывших щек, пальцев ног и рук, молчаливых сидений у костра в темени дикой и пустынной Сибири. Да, и теперь еще дикой и пустынной. Хотел побывать в шкуре землепроходцев, Н. И. Костомаров называл основательнее – землеустроителей, вот дрожи и голодай в ней! Но за нами-то вот-вот должны были явиться, и нас никак нельзя было сравнить с лихими мужиками, скажем, Елисея Юрьева, отправившегося из Енисейска на поиски диковинного озера Байкал, Леной он выплыл в ледовитое море, зазимовал там и добыл ясак на реке Яне. Не мною сказано: «Да, были люди…» и т. д. И все же полезно было выколачивать из себя романтически-подростковые ахи и взвешивать пусть пока и граммы лиха…
Нас откармливали в турпасской столовой, возили в деревню греться в банях по-черному, но воодушевление снятых со льдины скоро прошло, и мы ощутили себя именно погорельцами.
Два дня я ходил на стройку восьмиквартирного с бинтами на ногах, меня познабливало. В обед, разбитый, я вяло тыкал вилкой в макароны, и тут мне объявили, что в конторе Куделина кто-то ожидает, и опять из Москвы. В кабинете Паши Макушина, Павла Алексеевича, ожидала меня Виктория Ивановна Пантелеева.
– Вот, Василий Николаевич, – заулыбался ехидина Макушин, – к вам из Москвы с инспекцией. Но я уже успел сообщить, что комсомолец Куделин у нас передовик и душа общества.
– Здравствуй, Василий, – сказала Виктория, не вставая со стула, и сразу же объявила себя владелицей времени. – Я здесь на два дня.
Я стоял растерянный. И вовсе не от неожиданности. Просто сидевшая передо мной роскошная дама совершенно была здесь не к месту. – Здравствуй… – пробормотал я.
Виктория встала, сказала:
– Мог бы и поцеловать меня при встрече по старой дружбе… в щечку…
Без всякой радости я чмокнул ее в щеку.
– На два дня, – раздумывал Макушин. – У нас есть гостевые комнаты, но в них живут теперь одни мужики… Вот если Василий Николаевич проявит понимание и приютит вас в своем жилище? Он человек высокой нравственности и, полагаю, не причинит вам досад…
Лицо ехидны Макушина стало чрезвычайно серьезным.
К тому времени мне, уже передовику – физиономия моя гнусно взглядывала на Божий свет с Доски почета, – дали койку в двухместном «номере» семейного общежития, там удобство было в коридоре и на этаже имелась душевая.
– А как же Петя Шутов? – спросил я.
– А что Шутов? – махнул рукой Макушин. – С Шутовым мы решим.
– Так вы, Василий Николаевич, проявите понимание? – поинтересовалась Виктория.
– Проявлю, – угрюмо сказал я.
– Ну вот и ладно! – обрадовался Макушин. – Виктория Ивановна, вы с дороги небось голодная, у нас хорошо кормят в столовой, я бы советовал вам подкрепиться.
– Спасибо, Павел Алексеевич, но сначала мне по делам надо переговорить с Василием Николаевичем.
– Понимаю, понимаю, разговор сытней обеда, – согласился Макушин. – Добавлю только, что вечером у нас в столовой фильм «Кавказская пленница», фильм свежий, но я смотрел его шесть раз и сегодня пойду, а после фильма – танцы, милостиво просим.
– Это уж обязательно, – произнес я опять же хмуро, давая повод Макушину посчитать, что отношения у нас с гостьей вражеские. – Виктория Ивановна покажет на танцах европейский класс и обучит аборигенов шейку…
Чемодан Виктории оказался тяжеленным, сама Виктория была в шубе («манто, что ли?»), когда встала, я увидел, что шуба – короткая, выше колен, шубенка, сказала бы моя матушка, если бы не поняла, что шубенка сотворена из шкуры зверя ценного да и замечательной выделки. Я посоветовал Виктории надеть шапку, но она сказала, что обойдется и без шапки, густые волосы ее были теперь крашеные, темно-медные, они спадали или опадали на воротник шубы (позже выяснилось – из канадского песца). Составными наряда Виктории были еще расклешенные брюки и теплые, надо полагать, ботинки (а может, и полусапожки) на каблуке.
Турпасской перспективой, похрустывая снежком, мы прошествовали от конторы до моего общежития, вызывая ротозейство прохожих. Мне бы взять женщину под руку, но я на метр отставал от нее, будто бы припадая на левую ногу из-за тяжести чемодана.
– Куделин, – обернулась ко мне Виктория, – ты стесняешься, что ли, меня? Или стыдишься?
– Ну скажем помягче, – признался я, – испытываю чувство неловкости…
– Отчего же?
– Ты здесь выглядишь…
– Неуместной, что ли?
– Ну, и неуместной. Или – недостоверной. Таких здесь быть не может… И ты это понимаешь…
– Если я «понимаю», значит, ты считаешь, что я одета нынче с умыслом?..
– Именно… На голове у тебя хоть парик? Сейчас градусов двадцать пять.
– Нет, – сказала Виктория. – Последний мой парик был от Анджелы Дэвис. И ты знаешь, зачем он мне понадобился…
– И чемодан у тебя такой, будто ты собралась в Давос или Шамони, а тут Турпас…
– Ты, Василий, тихо раздражен. Ворчишь, будто ты мой муж. Хотя бы бывший… Если ты указал, что тут Турпас, а не Давос, мне что, не заходя в твой приют, сразу отправиться в Давос?
– Сейчас мы это и решим, – сурово пообещал я.
Петя Шутов был дома, но одетый в дорогу. С Викторией Ивановной он познакомился с удовольствием, мне же принялся шептать на ушко, но так, чтобы не показаться невежливым и не обидеть гостью турпасскими секретами. Он должен был лететь на вездеходе Шаровницына зимником за Иртыш в районную столицу Уват, где у него на диком бреге в высоком терему жила отрада. Меня просил объясниться с панами (начальством), если он в понедельник не вернется до обеда из Увата (на Иртыше, мол, предновогодний ледоход и пр.). И уж с совершенно секретным шепотом мне был оставлен ключ от душевой. Сунув ключ, адский водитель КРАЗа привскочил и посоветовал мне взять у коменданта, пока тот не утек на выходные в деревню, комплект постельного белья, подплыл к Виктории и целовал на прощанье даме ручку, мне же послал салют – будь готов, разлепив над головой пальцы, и исчез.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































