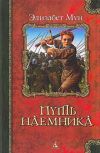Текст книги "Две королевы"

Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Успокаивало его одно то, что Елизавета до сих пор, по причине болезни старого короля, ела одна, отдельно, и хотя муж, который должен был составлять ей компанию, показывался редко, но подчашии и кравчии, подавая еду, пробовали.
Он рекомендовал Холзелиновне бдительно следить за столом и не разрешала принимать никаких подарков от королевы.
Впрочем, сама достойная воспитательница, увидев, что она окружена неприятелями, бдила денно и нощно над своим любимым ребёнком, не в состоянии прийти в себя от той силы духа, с какой мученица всё сносила, даже врагам не давая порадоваться выражению боли, потому что чудесно притворялась весёлой и спокойной.
– Это ангел! – восклицала старая Кэтхен. – Не знаю, сносила ли это когда-нибудь женщина с таким геройством. Нужно вставать на колени перед моей пани!
Среди этой борьбы, которую Марсупин вёл с упорством своего итальянского темперамента, неожиданный оборот ей придали события, казалось бы не имеющие никакой с ней связи.
* * *
В деревянном старом доме на Околе уже много веков был бондарский постоялый двор. Этой состоятельной гильдии давно бы следовало выбрать себе более презентабельный дом, потому что здание было наполовину погружено в землю, с тыльной стороны его подпёрли, а высокая и тяжёлая крыша на нём сгорбилась и выгнулась, но общество там удерживал старая привычка. Из-за какого-то почти суеверного страха, из привязанности к старине оно не хотело покидать эти пороги, которые вытоптали ноги многих поколений.
В огромной нижней комнате, низкой и тёмной, размещались: так называемый стол, общественная казна и алкогольные напитки. Там собирались на совещания, на выборы, для приёма челяди, освобождения её. Там останавливались попутчики, чтобы их приняли согласно обычаю.
А кто требовал «обычийно» (то есть согласно обычаям и формам), тому «предоставляли обычай».
Рядом с комнатой совещаний в каморке жила вдова бон-даря, Рачкова, которую называли Матерью, и она выполняла обязанности хозяйки. Уже немолодая, сгорбленная радикулитом, она ходила с палкой, стуча ей и коваными ботинками, но двигалась живо, а ответ на её языке был всегда, и то, что ей принадлежало, держала под ключом и внимательно стерегла.
В первой комнате главное место занимал стол, он стоял у передней стены между окнами, над ним висели крест Христов и большой образ патрона гильдии, но по причине старости на доске, кроме позолоты, мало что можно было различить.
Кроме стола, за котором не всем было разрешено сидеть, в углу были отдельные лавки для трибовных, даклов и юношей. У стен стояли и простые шкафы, в которых хранились разные вещи и знаки, был и окованный сундук с замком для привилеев, книг и денег, а на полках стояли несколько покрытых пылью искусно выполненных мелких поделок – те шедевры, которыми гильдия могла гордиться, хотя бы перед иностранцами.
А на них стоило посмотреть, потому что бочечки и бутыли, хоть и деревянные, были такими хрупкими, точно ювелир делал их из чистого золота, и обручи так на них заплетались, словно были из льняных кос, не из деревянных веточек.
В бондарской гильдии, как в те времена также в других ремёслах, сложился уже товарищеский обычай, некоторые формы, которые, уже освящённые традцией, каждый должен был знать, выучить их и через них проходить.
Новый товарищ там, так же как странствующий, узнавал, кого должен почитать и уважать: сначала Господа Бога со всеми святыми, Богородицу с ангелами Божьими, далее отца этого дома с матерью, детьми и подмастерьями, также приходящих и уходящих гостей. Тут он учился, что приходящих следовало приветствовать полными, а уходящих добрыми словами, что в местах у стола один не должен был занимать место другого (под страхом вины), стен у пана отца не подпирать (под страхом вины), (потому что у отца был хороший плотник, который сделал ему хорошие стены); столов стаканами не заставлять, крестов на подножки не класть (под страхом вины), потому что у пана отца был хороший столяр, который делал ему хорошие столы, также долбить было нельзя, входить за первый порог без шапки, в фартуках с оружием садиться за стол.
Тут учили не разговаривать за столом ни по-латыни, ни по-венгерски; обещали в гильдии лучшее правосудие, потому что дело у войта разбиралось до недели, у бургомистра до двух недель, а у товарищей до захода солнца. Предостерегали, чтобы, возвращаясь домой после весёлого ужина, в ворота не долбили (потому что рука в том), сквозь стены дорожек не делать (потому что горло в этом), по брусчатке ни саблей, ни подковами не бить (потому что за это наказание), венков, которые висят над вином и пивом не срезать, бочкам, которые стоят на месте для городских нужд, ободки не резать и т. п. Для таких, что ходили по ночам, находились ангелы-хранители, которые, отобрав у них оружие, прятали в тёмный рай, и т. п.
Наконец тут припоминали, как нужно было действовать при обвалки углов, шпонтовании, фразовании, беровании, отбивании, бочками…
Наступал вечер, комната советов была довольно полна, а гомон из неё долетал прямо на улицу. Несколько старых отцов, несколько товарищей помоложе и любопытная челядь в углу составляли собрание.
Посередине перед столом недавно прибывший путник как раз проходил официальное испытание, которое предваряло приём в гильдию.
Его фигура, лицо, кожа среди румяных, упитанных, сильных и плечистых стариков, рядом с товарищами, на щеках которых цвели здоровые румянцы, выделялись удивительно грустно.
Высокий, сильно обросший молодой путник, который после освобождения возвращался в Краков, стоял удручённый, как виновник, очень бледный, тяжело дыша, хватаясь за грудь и за голову, и слабым, сломленным, больным голосом отвечал на вопросы.
Эту бледность и изнурение нельзя было приписать этому испытанию, через какое теперь проходил товарищ. По его худобе было видно, что принёс с собой болезнь, с которой боролся всей силой воли и молодости.
Хотя некоторым из старших отцов, может, жаль было бедного товарища, вынужденного проходить обременительный обряд приёма, избавить его от этого не могли.
Силы бедного путника, казалось, всё больше исчерпываются, так что он едва мог держаться на ногах. Значительнейшая часть вопросов и ответом была преодолена, но оставались ещё некоторые.
Отец задавал вопросы, товарищи и мать слушали ответы, получаемые всё более слабым голосом, когда в те минуты, когда его собирались, «взяв за Божью шкуру, посадить в ванну», у бедного путника сразу не хватило дыхания и силы. Его ноги затряслись и он закачался, как пьяный, хотя знали, что во рту у него ничего не было. Двое дацлов подбежали схватить его за руки.
Испытания прервали, потому что было уже некому отвечать. Этот бледный путник, когда его хотели отвести на скамью, тяжело упал на пол всем телом и начал стонать.
– Паны! Отцы! Ксендза прошу! Чтобы поручить Богу душу. Жизнь из меня уходит. Муки дальше не выдержу. Я шёл, шёл, покуда хватало сил, через силу тащился, чтобы умереть не где-нибудь, только здесь, где лежат отец и мать, и где я хочу упокоиться, на своей земле… на своей! Здесь моя колыбель, хочу, чтобы здесь была моя могила. Я убегал от мора, но негодная эпидемия догнала меня, потому что, видать, такова Божья воля, которой ничто противостоять не может.
Он говорил медленно, тихо, стоня, а начальство с товарищами, вскочив с лавок, обступили его, заламывая руки, потому что никогда подобное там не случалось.
Но когда услышали из уст путника зловещие слова: мор, эпидемия, – о которых уже доходили вести с разных сторон, все стали боязливо отходить, смешались и испугались. Товарищ Сильвек, схватив другого под руку, бросился сразу к францисканцам за ксендзем, а один из старших подумал о лекаре, рассчитывая, к какому было ближе. Все же они разместились около замка, ближе к Вавелю и при Св. Анне и Академии.
Хоть согласно уставу и традиции гильдии, без шапки было запрещено выходить за первый порог, это не принял во внимание старший Скальский, который с растрёпанными волосами, ломая руки, оказался на улице напротив гостиницы.
Потом, точно его послал туда сам Господь Бог, появился тот славный доктор Струсь, возвращающийся от больного. А он на всё обращал внимание. Поэтому он прибежал со своей серьёзностью и отвагой доктора, хватая за плечо Скальского.
– Человече! Что с вами?
Скальский, как старший в гильдии, был может, даже в такие критичные минуты запротестовал бы, что его так просто называли человеком, но он узнал Струся, а этому много было разрешено.
– Отец мой, у нас на постоялом дворе случилось великое несчастье! Мы принимали товарища путника, который возвращался из Великопольши. Он наш, краковянин, дитя гильдии. На приёме он занемог, ослабел, упал и признался, что убегал от мора, поэтому мог его принести с собой.
Ничего не отвечая, Струсь, как стоял, отодвинув Скальского в сторону, не смотрел уже и бежал живо к дверям гостиницы, у которых стояла целая громада челяди и дацлов. Он растолкал их и смело вбежал в комнату совещаний.
Как раз луч заходящего солнца, показавшись из-за туч, проник в окно и осветил лежащего на полу, извивающегося от боли, посиневшего путника. Он один лежал посередине, потому что никто не смел к нему подойти.
Струсь поглядел, подошёл, опустился на колени перед больным и принялся внимательно его рассматривать.
Догорающим голосом умирающий воскликнул:
– Воды!
Струсь велел подать ему кубок с водой, потому что был уверен, что природа лучше лекаря знает, чего ей нужно.
Молча, долго он всматривался в это посиневшее лицо, на которое приближающаяся смерть уже накладывала свой отпечаток; наконец заломил руки. Он встал и присел на ближайшую лавку, точно и ему не хватало сил. Вокруг стояли товарищи, рыдая, шепча, стоня, поднимая руки к небу.
Через мгновение Струсь поднялся. Он вспомнил, что у Францисканцев есть аптека, и, нацарапав что-то на бумаге, велел сбегать за лекарством. Но по его лицу было видно, что он не очень верил, чтобы оно пришло вовремя и помогло. У больного из уст вырывались ещё тяжело отрывистые слова:
– На своей земле умирать… на своей земле лежать.
Потом начал взывать к опеке святых и Божьей Матери, а бессильной рукой хотел себя в грудь ударить.
Прежде чем принесли из аптеки лекарство, челядь привела из францисканского монастыря ксендза. Он спешно шёл с причастием, предшествуемый колокольчиком, а все по дороге вставали на колени и склоняли головы. До него тоже дошло это страшное слово – мор, а Краков хорошо знал и помнил, что это означало, ибо эта кошмарная трагедия уже несколько раз его навещала и опустошала. Но капеллану так же как лекарю, бояться не пристало; потому что один из них есть рыцарем Христа, а другой – солдатом людского милосердия.
Капеллан опустился на колени у бока умирающего и, взглянув на лицо, догорающее последней дрожью жизни, поспешил с отпущением грехов и причастием.
Чумной немного ожил, его глаза поднялись, и затем их словно застелила туманная пелена. В эти минуты в этом последнем вздохе ушла жизнь, а голова камнем упала на пол.
Струсь подошёл к трупу. Признаки чумы были слишком явные, чтобы он мог в ней сомневаться. Он требовательно повернулся к старшим.
– Старшие отцы, спасайте себя и город. Останки не должны долго лежать, чтобы дома, улицы, а может, упаси Боже, всей столицы не заразили. Пошлите как можно скорее за гробом, за повозкой, и вывезите его на самое отдалённое кладбище и закопайте как можно глубже… одежду и вещи с ним.
Под впечатлением страха, какой вызвала чума, товарищество и челядь быстро забегали, спеша исполнить приказ доктора. Мать гостиницы уже несла в дрожащих руках зажжённое кадило, очищая им жилище, отворяли двери и окна.
Более боязливые выезжали, только ксендз ещё молился при останках и Струсь остался на минуту, грустным, задумчивым взглядом всматриваясь в умершего. Потом он повернулся к городу.
Тут весть о случившемся в бондарской гостинице молнией обежала уже всюду, неся с собой панику. Вечером принесли её в замок к епископу Самуэлю и в дом епископа Гамрата.
Однако никто с этим не побежал ни к королю, ни к старой королеве. По лицам двора, по тихому шёпоту и тревожным собраниям придворных можно было понять, что умы были беспокойны, а люди не могли справиться.
Встревожанные мещане встречались с одним словом на устах: «Чума! Чума! Куда от неё спрятаться?»
конец второго тома
Том третий
Жарким июльским днём в одной из комнат Северина Бонера у открытого окна стоял пан казначей с молодым человеком, по наряду которого можно было понять, что он едва отряхнул пыль после долгой дороги.
Казалось, оба кого-то ожидают, потому что Бонер, часто высовываясь в окно, глядел на улицу, а его молодой товарищ тоже беспокойно следил за проезжающими по ней к Флорианским воротам.
Открытое по причине сильной жары окно немного охлаждало воздух, а что хуже, впускало в комнату горький дым, который поднимался от большой кучи листьев, собранных у ворот. Поскольку Краков под угрозой чумы спасался от плохого воздуха, по предписанию лекарей сжигая на площадях и улицах дубовые листья и полынь.
– Что же случилось с Марсупином, – сказал младший, – если до сих пор не приезжает?
– Наверняка ничего плохого, – сказал Бонер, – но честный итальянец летает и работает не покладая рук, посланец мог не застать его дома. У него есть дела! В самом деле, потому что объявил открытую войну Боне, которая также, не разбираясь в средствах, деятельно парирует его попытки. Если бы над той историей, принимая к сердцу судьбу молодой королевы, не нужно было плакать кровавыми слезами, – прибавил казначей, – можно было бы смеяться, видя злость Боны и до какой ярости её довело нахальство Марсупина; но мы подождём, он вам сам об этом расскажет.
– Удалось что-нибудь Марсупину? – спросил молодой путник.
– До сих пор ничего, правда, – сказал Бонер, – но положение прояснилось и явное притеснение ни для кого не тайна. Всё равно это очевидное приобретение.
– Небольшое, – прошептал молодой, – а я вам признаюсь, что, присланный сюда специально для поддержки Марсупина, я большего приобрести не надеюсь. Увы! Это печально! Но вся наша надежда на то, что король стар, что жить ему осталось недолго, поэтому и правление Боны…
– Да, – ответил казначей грустно, – но до сего дня Бона так же хорошо правит молодым, как старым, сыном, как отцом. Марсупин видит в этом чары. Действительно, трудно понять, как молодой пан, такой умный, с таким благородным сердцем мог попасть в такую позорную неволю.
– У матери? – подхватил путник.
– Мы говорим у матери и приписываем это преступным чарам, – сказал Бонер, – но, по-видимому, правильней было бы сказать: попал в неволю страсти! А волшебство – это красивая масочка любовницы!
Разговаривая, они не услышали, как по лестнице застучали быстрые шаги, и дверь с грохотом, внезапно отворилась. Вошёл Марсупин.
Но как же его изменили пребывание в Кракове, постоянные терзания, работа, заботы, опасения за жизнь! Он исхудал, почернел, высох, и путник, который поспешил его приветствовать, подавая ему руку, выкрикнул:
– Не болен ли ты, сеньор Джованни?
– Болен, убит, утомился, полуживой! Едва дышу! – воскликнул итальянец. – Благодарю Господа Бога, что меня эта змея насмерть не загрызла! Верчусь как рыба, брошенная в кипяток! Благодарение Богу, что вы прибыли мне на помощь.
– Я! – беспокойно воскликнул путник. – Правда, я посол короля и императора, но что же я тут сумею, когда вы ничего не могли сделать. Пожалуй, авторитет моего отца…
Он в задумчивости прервался.
Был это сын краковянина Юста Дециуша, служащий при короле Фердинанде.
Уставший Марсупин упал на лавку.
– Ко всем терзаниям, – сказал он, – добавьте то, что нам в Кракове угрожает чума, что в любую минуту смерть может схватить за горло.
– Стало быть, и двор должен отсюда выезжать, – сказал Дециуш.
– Это, несомненно, случится, – ответил Марсупин.
– Что же тогда с вами будет? – спросил Бонер итальянца.
– Со мной? Я поеду со двором, – шепнул, вытирая от пота лоб, Марсупин, и тяжело вздохнул.
Дециуш присел к нему.
– Рассказывайте же, как у вас с Боной?
– Ха! По-итальянски! На ножах! – рассмеялся Марсупин. – Я делал что только мог, чтобы её умилостивить и по-хорошему прийти к какой-нибудь договорённости. Напрасно. Сначала я просил об аудиенции, и то очень покорно. Однажды я напрасно стоял у двери, охмистр двора пришёл мне сказать, что она была занята и принять меня не может.
Наверное, она думала, что я не посмею больше надоедать, но на следующий день я вернулся. Охмистр снова пришёл объявить мне, что королева принимает лекарство, я во второй раз ушёл ни с чем. На третий день, когда я настаивал, и видели, что от меня не отделаются, назначили мне на двенадцать часов. Задолго до этого я уже ждал в приёмной. Секретарь вышел, королева увидела меня в окно и объявили, что на двенадцать часов занято и чтобы я приходил после обеда.
Боясь прозевать, я остался в замке. Секретарь очень любезно составил мне компанию, пытаясь узнать, с чем я пришёл и о чём должен говорить с королевой. Я шуткой от него отделался. Обед закончился, я видел, как старуха отправила молодого короля, как приказали уйти всеми двору. При ней остались только две немолодые женщины из её свиты. Она и Елизавета показались на галерее и старуха дала мне знак, чтобы я шёл за ними. Когда мы пришли в королевские покои, молодая королева ушла, наверное, по приказу Боны, вглубь; так я остался наедине со старухой.
Со смирением, несмотря на то, что её лицо выражало гнев и презрение, я встал перед ней на колени.
– Говори, чего хочешь от меня? – начала она голосом, в котором кипела злоба.
– Вашему королевскому величеству известно, что я пришёл по поводу молодой королевы, по поручению родителей.
– Что же делается с этой молодой королевой, что она нуждается в такой опеке? – начала она с иронией. – Ты видишь её всё-таки, она здоровая, весёлая, никто её не обижает.
– Молодая королева, – сказал я, – слишком богобоязненная, скромно и с любовью воспитанная, чтобы жаловаться на то, что терпит; она терпит, но весь мир знает, что жизнь супругов не такая, какой должна быть.
Бона бросила на меня взгляд ящерицы.
– Да, – прибавил я, – молодой король совсем не живёт с женой, он избегает её, днём её не навещает, не принимает в ней участия.
– А я тут при чём? – ответила Бона. – Это его воля.
– Всё-таки известно, – добавил я, – что сын он послушный. Почему ваше королевское величество, когда имеете над ним власть, не прикажете ему, чтобы не пренебрегал женой? Если от прежних романов сразу не может избавиться, пусть жена из-за этого не страдает. Такое презрение к дочке моего государя, к племяннице императора для обоих унизительно. Император не вынесет такого презрения.
Дело известно общественности, о нём рассказывают в Германии, Чехии, по всей Польше, а тут в Кракове песенки о нём складывают. Я прибыл по поводу этого дела; вместо того, чтобы его уладить, ваше величество явно старались меня отсюда выгнать. Если бы я не имел выдержки на службе государя, я бы давно ушёл.
Когда я это говорил, её лицо менялось, бледнело, становилось пурпурным, ею овладел такой гнев, что не могла сдержаться.
С какими словами она напала на меня, повторить не могу, так как вы бы мне не поверили. Прямо бранить меня начала, трясясь и выставляя кулаки.
– Я закрою тебе рот, наглец… покажу тебе, что такое идти против меня.
Господь Бог милостив, потому что, с полным хладнокровием выдержав это нападение, я отвечал ей очень уважительно, но признаюсь, чересчур злобно.
Я дал ей почувствовать, что мне всё известно, что мог посчитать, сколько раз молодой король заходил к жене, и что он по ночам прятался от неё у девушек-фрейлин, с её ведома.
– Ты подлый, никчёмный шпион! – крикнула она.
– Да, – ответил я, – увы. Моему господину понадобились шпионы, потому что вы не так обходитесь с его дочкой, как подобает королеве-матери.
Тогда между нами началась словесная перепалка, в которой я имел то превосходство, что постоянно хранил хладнокровие, когда она всё больше его теряла, неистовствуя, вместо аргументов обсыпая меня обидными словами.
Во время разговора я не только был вынужден разгласить моё собственное убеждение, но поддержать его тем, что слышал из уст епископа Самуэля и от присутствующего там Бонера.
Казначей, услышав это, улыбнулся и поклонился.
– Она давно знает, что я о ней думаю, – сказал он холодно.
Марсупин продолжал повествование:
– Дошло до того, что Бона от злости расплакалась.
– Я была и являюсь королевой, – начала она кричать, – хотите меня тут сделать служанкой и невольницей.
На это я одним словом ответил:
– Нет, только матерью!
На самые разнообразные упрёки я, ради хорошего дела, всегда находил справедливый, готовый ответ, который она не могла парировать.
В конце концов она припёрла меня приданым, что из великих обещаний она до сих пор ломаного гроша не видела. И на это я сказал, что всё-таки срок не прошёл, и в нём долг будет уплачен.
Я знал от ксендза Самуэля, что королева, когда не может ничего сделать со старым королём, убегает в слезах и гневе… то же самое было со мной. У неё вновь брызнули слёзы, а злость душила, она рыдала и ругалась.
Потом она отвела меня подальше, чтобы нас не услышали, и напала на меня.
– Ты, подлый слуга, – крикнула она, – как ты, грязный вредитель, смеешь мне, королеве, говорить такие вещи, так упрекать?
– Ваше величество, – проговорил я, – то, что я говорил, – ничто. Государь мне поручил поведать гораздо больше, и такие вещи, которые, вы думаете, что известны одному Господу Богу, и эти я обязан изложить императору вместе с тем, что тут видел, слышал и понял.
Я видел, как она побледнела, услышав это, задрожала и, казалось, приложила все силы, чтобы успокоиться. Она понизила голос и одновременно смягчилась, сменила предмет разговора, так что я был ошарашен.
Она дико поглядела мне в глаза.
– Я надеюсь, – сказала она, – что вы рекомендуете императору мою дочку Изабеллу, я требую это от вас. Засвидетельствуйте и обо мне, что я не злая мать, что это клевета подлых людей, которые хотят нас разделить.
Я остолбенел вначале, не понимая внезапного оборота.
– Довольно, довольно, – сказала она, – пусть это всё кончится, пусть об этом не будет речи, пусть наступит согласие. Молчи, прошу.
Полагая, что могу рассчитывать на это обещание, – говорил дальше Марсупин, – я заверил её, что касается меня, то мир и покой чувствую своею обязанностью поддерживать, насколько в моих силах.
Так кончилась эта моя славная аудиенция у королевы, а скорее борьба, в которой, как я себе льстил, я одержал победу. Но кто знает эту коварную и хитрую женщину?
Назавтра после этого поражения я узнал от епископа Самуэля, что она пошла с плачем к старому королю жаловаться на меня, что без должного почтения смел упрекать её, на что Сигизмунд отвечал с бранью и угрозой, что она сама в этом виновата, и что своим поведением, упаси Боже его от смерти, наделает себе неумолимых врагов и уготовит тяжёлый жребий.
Того же дня, видно, успокоившись, она пошла к молодой королеве, притворяясь с ней очень сердечной. Долго с ней разговаривала и Холзелиновна сразу мне об этом с большой благодарностью донесла.
– Да ну! – прервал молодой Дециуш. – Тогда дела пошли лучше, чем вы говорите, и можете этим гордиться.
– Выслушайте до конца! – вздохнул Марсупин. – Этот мир и надежда на примирение продолжались недолго. На самом деле наша молодая госпожа приобрела на этом передышку и набралась новых сил.
Мы должны смотреть на неё с восхищением, с удивлением её силой духа, храбростью, какую она проявляла.
Со стороны Боны, вызванная минутным страхом сдержанность, поддельная нежность продолжались недолго. В сердце гадины собирался яд. Она не смела выступить открыто, но в мелких вещах, где только могла молодой пани надоедать, не мешкала.
Однажды утром приходит ко мне достойный Дудич… (Марсупин взглянул на Бонера, и оба улыбнулись) и говорит, что несколько дней назад наша молодая государыня послала к управляющему старой королевы, прося кусок сыра пармезана. Управляющий сразу же его дал, но итальянки, которые не любят молодую королеву, потому что может отобрать у них любовника, тут же донесли о том Боне, говоря, что молодая госпожа позволяет себе приказывать, не спрашивая матери.
Разгневанная королева немедленно выдала управляющему приказ, чтобы не решался ничего давать молодой королеве.
Это вызвало у меня смех и, придя сюда к господину Бонеру, сказал ему об этом.
– И разумеется, – сказал Бонер, – я тут же велел тридцать фунтов пармезана послать молодой королеве, прося, чтобы обратилась с приказами ко мне, а я обеспечу тем, что только будет нужно.
– Сыр уже был у королевы, – продолжал дальше Марсупин, – маршалек уже о том проведал, начали говорить о нём, а я также не колебался громко говорить, что королева Бона и теперь не слишком любезно обходится со снохой, рассказывая в доказательство историю о сыре. Шпионы Боны, придворные молодого короля, целая группа пособников сразу сделали ужасную трагедию из этого сыра. Бона приняла её к сердцу. Прислал ко мне курьера сам маршал Опалинский, требуя, чтобы я признался, кто мне говорил о том сыре.
Я обратил это в шутку, не желая губить бедного Дудича, который боялся, потому что боялся, что ему отомстят.
– Это не шутки, – ответил им маршал Опалинский, – королева во что бы то ни стало требует имя того, кто пожаловался о сыре.
– Этого имени я и под пытками не скажу, – отвечал я решительно, – мне не пристало никого предавать. Моя обязанность – всё тут слышать, всё видеть, до всего доходить, это моя служба, но никого обвинять и называть не могу.
На следующий день прибегает каморник старой королевы, вызывая меня к ней; я был почти уверен, что пойдёт речь о сыре. Но я немного ошибся.
Я бегу, меня вежливо просят минутку подождать. Смотрю, идут, как на великий суд, паны сенаторы, маршалек Опалинский, дальше ксендз Самуэль Мациёвский, у которого на устах улыбка, за ним Гамрат… придворные вносят в залу подножки, ковры, покрывала, готовят сидения, столы… составляется трибунал.
Впустили и меня, обвинённого. Придворным и каморникам велели отойти. Пришла Бона во всём величии, приказывая занять места Гамрату, Мациёвскому, Зебридовскому, наконец мне и пану Бонеру.
Видя этот серьёзный ареопаг, можно было подумать, что тут должно было начаться совещание о важнейшем для государства деле, о мире с Турцией, о королевстве для Изабеллы в Венгрии, о перемирии или войне!
По правде говоря, я забыл о сыре, удивляясь только, что и меня соизволили вызвать на такое важное совещание, когда королева сказала:
– Господа, вы будете смеяться, что таких достойных сановников, королевский совет мне пришлось вызвать для очень пустячного дела, но для меня оно немаловажно, в нём коренится зародыш большого зла. Здесь речь обо мне, о клевете, какой меня пятнают; хочу, чтобы вы все были свидетелями моей невиновности.
Она указала на меня пальцем.
– Вот тот, тот, что был сюда прислан ради согласия и мира, распространяет среди нас склоки и ссоры. Речь идёт о жалком кусочке сыра. Я должна знать, кто оклеветал меня перед Марсупином, кто рассказал ему об этом сыре. Прошу, подействуйте на него, чтобы он назвал изменника, я должна о нём знать. Не сделаете вы ничего, мы оба пойдём к королям, чтобы они своей властью вынудили признаться, кто ему это открыл.
Тогда первым поспешил с обычной своей живостью Гамрат, доказывая, что безнаказанной клевете нет конца, что однажды королева должна отомстить и что Марсупин должен озвучить имя виновника.
Затем Опалинский, точно был на сейме, обратился ко мне с длинной речью и усиленно настаивал.
Разумеется, что серьезно осаждённый, я не колебался, потому что шла речь о моей чести; я всей силой отпирался, беря вину на себя, но никоим образом не желая выдать человека, который мне доверился. В конце концов я немного насмешливо добавил, что в самом деле жаль было таких достойных особ из-за подобных мелочей.
Королеву охватил сильный гнев и она мне крикнула:
– Ты что, будешь мне права писать? Говори, что должен, а не скажешь, кто тебе это шепнул, обвиню, что сам выдумал.
– Ваше величество, – ответил я, – quod dixi, dixi, больше от меня никто не узнает.
Королева с криком и гневом встала, выбежала в смежную комнату, зовя за собой пана Бонера, и собрание разошлось. – Она велела мне донести об этом королю, – прибавил, смеясь, Бонер.
– Вы думаете, что на этом конец? Ещё нет. Опалинский пошёл к королеве Елизавете, требуя от неё, чтобы она мне приказала выдать этого сырного человека.
Но и на требования молодой королевы, которая мне их мягко объявила, я ответил, что являюсь слугой его величества короля Римского, не чьим иным, и слушаюсь только его приказов.
Вот у вас есть показатель того, что тут делается, и что я тут терплю.
Марсупин замолчал, понурив голову. Молодой Дециуш был задумчив.
– Я не вижу, – сказал он спустя мгновение, – чем тут могу помочь и на что пригодиться, когда сеньор Джованни, который теперь лучше знает положение, чем я, уже давно пребывающий на дворе Фердинанда, едва защищается от нападения и выклянчивает для королевы маленькое послабление.
– Вы только можете, – ответил Марсупин, поднимая голову, – рассмотрев положение, дать с него отчёт, дабы искать средства спасения бедной королевы, которой мои старания мало помогли. Молодой король как не жил с ней, так не живёт; выйдя замуж, она сразу стала вдовой.
– А теперь, – прибавил Бонер, – светятся новые вещи. В Кракове чума, хоть ещё не грозная, но с каждым днём усиливается. Этому противостоять нельзя. Из предместья она скоро войдёт в город, а оттуда в замок. Король с королевой должны искать более безопасного пристанища. Вот бы это не было новой причиной для разлучения молодых супругов, под видом заботы о них. Я уже слышал, что Бона молодую королеву хочет оставить при себе, а Августа либо в Литву, либо в Мазовию отправить.
– Значит, они выезжают из Кракова? – спросил Марсупин.
– Этот вопрос ещё не решён, – ответил Бонер, – но вскоре должен решиться.
– Молодой король, молодой король! – прервал Марсупин. – Чтобы дать так собой управлять матери, точно ещё ребёнок, воли не имел… непонятно! Говорите что хотите! Она и её астрологи, чернокнижники и доктора поят его и отнимают у него разум, а кто знает, какие используют средства. В довершении всего нужно ещё было прийти чуме, которая может нас разогнать, двор выгнать.
Итальянец замолчал, погрузив руки в свои густые волосы, словно хотел их вырвать.
– Я тут ничего не могу, – прибавил задумчивый Дециуш, – отнесу только королю то, что видел и слышал.
– Нет, не достаточно этого, – прервал Марсупин, – вы должны просить аудидиенции у старого государя и поведать ему, с чем прибыли; поддержите меня. Королева Бона обвиняет, что я без приказа делаю то, что мне придёт в голову. Засвидетельствуйте, что у меня есть поручение и что я здесь интернунций.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.