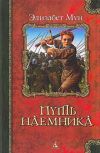Текст книги "Две королевы"

Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
Она закрыла глаза.
Август молчал, не отвечая.
Дземма начала потихоньку плакать.
– Стало быть, так закончилось эта короткая грёза счастья, – воскликнула она, бросаясь на пол у ног Августа, – безжалостная рука судьбы будит для страдания… Счастье не вернётся…
– Дземма! – прервал нежно король.
– Не утешайте меня! – ответила она. – Вы больше ничего не знаете, как и я, мы на милости судьбы, а кто угадает, что она с нами сделает? Сердце моё чует, что всё кончено. Жить мне не хочется. Что было, не вернётся!
Она снова плакала.
– Дземма, – шептал Август, – ты, пожалуй, не веришь ни в меня, ни в себя. Настоящая любовь терпелива и больше доверяет собственной силе. Я верю обещанию матери, еду и надеюсь тебя вскоре в Вильне увидеть. Оставляю тебя в наилучшей опеке.
– На что мне всё, – ответила девушка, опуская грустно голову. – Хочу умереть. Счастье не вернётся… Не вернётся!
* * *
В преддверии отъезда в Литву сама королева Бона приказала позвать сына, занятого сборами в дорогу.
Прибытие от короля Фердинада молодого Дециуша, который был для неё опасным шпионом, вынуждало к некоторым отношениям с Елизаветой. Она опасалась, как бы её не обвинили, что разделяет супругов и что всем хотела распоряжаться сама, так что она должна была просчитать малейший шаг сына.
Она спросила входящего:
– Как и когда ты думаешь попрощаться с женой?
Август действительно об этом думал, но боялся портить отношений с матерью, и был уверен, что она заранее придумала, как должно пройти прощание. Он думал, что она захочет на нём присутствовать.
Боясь подставлять жену, он промолчал. Поглядел вопросительно на мать.
– Не знаю ещё, – сказал он.
Бона подошла к нему; это деланное равнодушие понравилось ей.
– Позже не будет времени, иди сегодня, не оставайся там долго, несколько вежливых слов, этого довольно, – сказала она. – Не нужно, чтобы ты показывал ей больше, чем в действительности… пусть не заблуждается. Навязанная, она никогда нам милой не будет.
Особенно в эти минуты сын старался показать себя послушным.
– Пойду сегодня, – сказал он холодно.
Бона спросила о повозке, карете, лошадях, слугах, их числе, потому что хотела быть в курсе всех дел; распорядилась, кто и как должен был ехать. Ехало несколько карет, покрытых пурпуром, ехали непокрытые повозки, шли свободные кони, двор был не очень многочисленный, но по-королевски и превосходно укомплектованный.
Бона в выборе слуг делала акцент на том, чтобы верных ей добавлять сыну. Хотела, чтобы каждый день были от него письма.
– Писать жене тебе не нужно, – прибавила она. – То, что найдётся в моих письмах для неё, я ей сама скажу. Ты доверить ей всё не можешь, потому что наши враги через неё узнают о том, о чём не должны быть осведомлены. Нужно, чтобы каждый день был гонец, обязательно.
Август обещал быть послушным.
Прямо от матери он пошёл в покои жены.
Там он был, увы, очень редким гостем, хотя очень желанным. Даже в присутствии Холзелиновны, в верности которой был уверен, он не мог проявить к жене малейшего участия. Радость, которую оно бы вызвало, могла бы выдать.
Как всегда, так и в этот раз, Август вошёл энергичным шагом, а когда воспитательница открыла дверь в покой, в котором сидела Елизавета, при виде его живо вставшая от прялки, он приблизился к столу, на который она опиралась.
Румянец облил детское личико юной королевы; когда она с ним здоровалась, король мог заметить дрожь и волнение. Она подняла на него глаза.
– Ваше королевское высочество выезжает? – спросила она тихо.
Август тревожно огляделся, хотел говорить и боязнь задержала на его устах слово… он довольно долго молчал.
– Да, – ответил он с некоторым колебанием, показывая беспокойным взглядом то, что боялся быть слишком откровенным, – да, – повторил он, – я должен ехать в Литву, один.
Он очень понизил голос и почти неслышно шепнул:
– Имейте терпение. Бог даст, всё окончится счастливо.
Лицо Елизаветы озарилось – глазки, в которых были слёзы, блеснули благодарным выражением.
Ещё больше, чем поведал устами, король сказал также взглядом.
– Я очень надеюсь, – прибавил он, – прошу, и вы надейтесь, и верьте в меня!
Он робко подал королеве руку, которую она схватила, но Августу показалось, что слышит у двери какой-то шелест, и тут же в испуге отошёл, добавляя громко по-немецки:
– Будьте здоровы.
Он поклонился и, не оглядываясь уже на королеву, которая шла за ним к двери, поспешил выйти. Только взгляд на пороге, который Елизавета поняла, наказывал ей тайну.
Всё это вместе едва продолжалось несколько минут, а король как раз хотел того, чтобы рассказали, что прощание было холодным и коротким.
Холзелиновна, возмущённая этим, вбежала в покой с заломленными руками и застала её на пороге спокойную, почти радостную.
Она уже не могла понять свою воспитанницу, Елизавета даже не осмеливалась признаться в собственном счастье.
Между ней и мужем была теперь тайна, которой она не хотела выдать, которая делала её гордой и счастливой.
Правда, тяжело ей было лгать няни, но чувствовала необходимость, обязанность.
Она бросилась ей на шею, дабы скрыть лицо, будто плакала, а Кэтхен начала её утешать. Сердце живо билось.
Ту радость, которую должна была скрыть слезами, пронимала всё её существо. Так блаженно ей стало на сердце, такое светлое и прекрасное увидела перед собой будущее, что этот блеск затмил ей ум и после молнии счастья её окружили сумерки.
На руках няни она окостенела, застыла… руки расслабились, она подняла голову, открыла рот. Испуганная Кэтхен узнала в этом симптомы приступа болезни, которую она так старательно скрывала и которая, к счастью, так долго в самые неприятные часы щадила бедную жертву.
Ныне она пришла во сне счастья, но Холзелиновна не знала о нём и объясняла как результат сильной, проникновенной боли.
Медленно, почти не прикасаясь, она смогла на руках перенести её на кровать и, положив на неё, поспешила запереть дверь, чтобы ни один глаз не мог увидеть королеву в этом состоянии, которого ждала Бона.
Одна Холзелиновна знала из опыта, что ни пробудить, ни привести в себя королеву, как в обычном обмороке, было невозможно, что нужно было спокойно ждать, пока это страшное онемение пройдёт само и жизнь вернётся.
Назавтра Елизавета спокойно, сквозь сон смотрела на отъезд мужа, кареты, кони, служба, двор, собаки которого должны были подъехать во двор к окнам старого короля. Он хотел их видеть и убедиться, что сын предстанет перед литвинами, нетерпеливо его ожидающими, не слишком великолепно и не чересчур бедно.
Август или по явно объявленной воле матери, или чтобы её не раздражать, не пришёл уже в последние минуты попрощаться с женой. Бона только вывела его прямо на галерею со всем его двором, но глаза любопытных тщетно искали в них Дземму.
Итальянка, несдержанная в проявлении своих чувств, выдала бы; ей не позволили выйти и посадили на страже Бьянку. Рыдая, она металась по своей комнатке, угрожая всем, и даже возлюбленному, которого в последнии дни находила остывшим и более равнодушным к ней.
Её сердце предчувствовало, что эта любовь, на постоянство которой она рассчитывала, дойдя до наиболее горячего воспламенения, остыла и ослабла.
Августа она не могла ни в чём упрекнуть, он ею не пренебрегал, ни в чём не промахнулся, но также сами доказательства любви, которых раньше хватало, теперь ей казались скупыми.
Королева-мать сначала такая заботливая и ласкающая Дземму, теперь ею немного пренебрегала. В минуты отъезда итальянке казалось, что она должна была стараться её утешить и уверить в том, что вскоре отправит её за сыном в Вильно.
Между тем день проходил, Дземма попеременно заливалась слезами и вспыхивала гневом, а, кроме Бьянки, никто не пришёл её утешить, даже проведать её. В замке все были заняты приготовлениями к путешествию. Говорили об отъезде в новый город Корчин, королева уже назначила женщин, которые должны были её сопровождать, Дземма не знала ещё, какая судьба её ожидает.
Сама о себе она не хотела напоминать королеве, любовь Августа делала её гордой; она считала себя нужной и достойной того, чтобы Бона первая сделала к ней шаг.
Тем временем Бьянка, которая больше всех принимала в ней участие, несколько раз выбегая на разведку, возвращаясь и принося разные новости, о том, что решили о Дземме, или не могла узнать, или, если что-нибудь знала, сказать ей не хотела.
Эта покинутость, пренебрежение всё сильней, докучлевей задевали бедную Дземму. Она плакала, но её плач при страстном темпераменте переходил в гнев и желание мести, так что Бьянка едва её могла сдерживать от криков и вспышек.
На второй день ещё никто не пришёл, а Дземма идти к королеве спрашивать, жаловаться, просить не хотела. Она всё ещё чувствовала себя слишком нужной, чтобы опускаться до мольбы за себя.
– Август меня любит, я необходима ему для жизни, он говорил мне это и столько раз клялся… не уедут без меня.
Королева Бона действительно думала о том, как выслать сыну любовницу, в которой была уверена, что не выдаст, но исполнить это оказалось труднее, чем предполагала.
Марсупин был начеку, Дециуш жил в Кракове, епископ Мациёвский был в курсе всего и не колебался доносить старому королю о том, что считал вредным королевской чести и величию. Нельзя было прямо, открыто выслать итальянку, об этом слишком бы говорили, а Марсупин неминуемо донёс бы отцу королевы.
Тихая советница Боны, монашка Марина, которая из-за какой-то необъяснимой зависти не могла терпеть Дземму, первая шепнула ей, что люди обращали внимание на любовницу и заранее обвиняли королеву в том, что отправит её за сыном.
Королева колебалась, хотя имела сильное решение с помощью Дземму помешать тому, чтобы кто-нибудь другой взял контроль над сыном.
Так обстояли дела, когда Дудич, который видел, что эта минута могла быть для него решающей, напрасно в течение этих нескольких дней крутясь перед глазами Боны, которая не обращала на него внимания, побежал к Замехской.
– Моя королева! – воскликнул он с порога. – Помоги мне! Итальянка осталась в кресле, король уехал, никто о ней не думает… напомните ей, королеве, кому хотите, обо мне, который предлагает жениться.
Удивлённая охмистрина взглянула на него.
– Оставь меня в покое, – ответила она, – я ни за какое посредничество не возьмусь. Если бы ты повеситься хотел и просил у меня верёвку, я бы, может, её быстрей тебе дала. Я над итальянками никакой власти не имею, а с королевой тоже не так близка. Иди сам, проси, это будет самое лучшее.
Напрасно Дудич пытался её умолять, добился только того, что указала ему время и место, когда и где может найти Бону менее занятой и окружённой.
Дудичу так нетерпелось, он так боялся, как бы кто-нибудь его не опередил, что чуть не нарвался на гнев Боны. Он поймал её, когда она шла от казны в свои комнаты, бросился ей в ноги; сначала королева начала его ругать, приказав убираться вон. Но Петрек задобрил её смирением, разрешила идти за ней, готовая выслушать его просьбу.
Должно быть, она даже догадалась, о чём он будет говорить, потому что не показала удивления, когда Дудич объявил, что просит руку Дземмы.
Потом последовало долгое молчание, Бона сжала губы, посмотрела на этого чудака, ничего не ответила, велела ему прийти на следующее утро. В Дудича вступила надежда.
Вечером, когда итальянка ходила, всё больше отчаиваясь, по своей комнате, в которой каждый предмет напоминал ей короля, тихо, медленным шагом вошла Бона.
Дземма была слишком взволнована своим положением, чтобы заметить, какой другой пришла туда ныне королева-мать, раньше ласково и сердечно с ней обходившаяся.
Действительно, холодная, задумчивая, равнодушная, гордая стояла она перед страдающей итальянкой, которая в первые минуты не знала, как с ней поздороваться. Броситься в ноги? Показать отчаяние и сомнение? Просить милосердия?
Глаза старой государыни очень внимательно изучали Дземму и всё около неё, прежде чем она заговорила. Хотела понять, в каком состоянии её нашла, и к этому подстроить разговор.
Дземма всхлипывала, но сквозь слёзы пламенным взглядом глядела на Бону.
– Не плачь, – сказала Бона, занимая место в кресле. – Поговорим разумно. Успокойся, слушай.
Итальянка тщетно пыталась подавить рыдания.
– Я давно хотела поговорить с тобой, – начала королева сухо и с выражением неудовольствия, – но со слезами и рыданиями говорить трудно, а у меня нет времени слушать пустые слова. Что ты думаешь?
– Я надеялась, надеюсь, король мне обещал, милостивая пани, вы знаете, как я люблю его! Я должна ехать за ним, к нему, раз с ним ехать не могла.
– Да! – прервала Бона. – Да! Если бы это так легко было исполнить, как сказать! Но это всё падает на меня. Тебе от этого ничего, ему это не повредит, я расплачиваюсь за него… в меня бросят камень. Если бы даже ты поехала ночью и никто тебя не видел, завтра все на дворе и в городе скажут и пошлют рапорты в Прагу и Вену, что Бона тебя отправила для сына, чтобы позорить жену.
Дземма закрыла глаза.
Королева тяжело вздохнула, потому что её охватил гнев при воспоминании о молодой королеве, сопернице.
– Я должна чем-нибудь пожертвовать для сына, – добавила она, – но и ты от себя должна сделать какую-нибудь жертву.
Итальянка отняла от глаз руки и платок, которым их осушала.
– А! Милостивая пани, я готова на всевозможные жертвы. Мою честь, молодость, все отдала бы.
Как будто трудно ей было сказать, о чём была речь, королева немного помолчала, опустила глаза и машинально пальцами начала водить по подлокотнику кресла.
Дземма ждала.
– Я тебя так одну выслать не могу, – сказала она после очень долгой паузы. – Поищи сама в своей головке, как это может сложиться, чтобы ты имела право покинуть двор и, не подставляя меня, выехать, куда тебе нравиться.
Разрешить эту задачу, которую Бона бросила с ироничной улыбкой, было нелегко для итальянки, которая, услышав её, стояла удивлённая, задумчивая, не понимая, что она могла означать.
– Как это? Значит, ты, умная и хитрая, сама не можешь напасть на эту мысль? – спросила королева. – И однако это очень просто.
Дземма слушала.
– Можешь ты быть свободной только выходя замуж? – прибавила королева.
Итальянка издала мучительный крик.
– Я? Замуж? – воскликнула она с ужасом. – Стать неверной ему? Я?
– А! – сказала Бона равнодушно. – Будто не найдётся человек, который выйдет за тебя замуж и ничего за это от тебя требовать не будет, оставит тебя свободной.
– Но я должна буду поклясться.
– Сдерживать эту клятву сию минуту тебя же никто не вынудит. Муж согласится быть послушным, – шепнула Бона.
Итальянка, у которой это ни в сердце, ни в голове не укладывалось, стала дивно метаться и протестовать непонятными отрывистыми словами.
Бона встала с кресла.
– Подумай об этом, – сказала она, – это единственный способ, я иного не вижу. Добавлю только, что такого послушного мужа я, возможно, найду для тебя. Однако ты должна приготовиться, что он не будет ни привлекательным, ни молодым, зато послушным.
Больше не объясняя, Бона встала, посмотрела на ошарашенную Дземму и вышла.
Оставшись одна, бедная итальянка долго не двигалась. По её голове ходили спутанные, дивные, непонятные мысли; от одного предположения о каком-либо браке, связи, которая бы давала над ней власть чужому ненавистному человеку, её пронимала дрожь.
Она ещё была погружена в мысли, когда на пороге послышались шаги подбегающей Бьянки. Она шла так быстро, как будто была отправлена на утешение бедной девушки.
Для этой честной, но освоившейся со всей фальшью двора девушки, которая никогда ничему не удивлялась, идея королевы ни в коей мере не показалась ни безнравственной, ни отвратительной, скорей ловкой и всем закрывающей рты. Бьянка знала о ней. Ей дали задание приучить к ней подругу.
Она весело вбежала.
– Что ты так заливаешься слезами, – воскликнула она, – когда как раз всё складывается как можно удачней? – Что? Как?
– Ты выйдешь замуж, будешь сама себе госпожой, поедешь за королём, закроешь людям рты!
Приближающуюся к ней Дземма слегка оттолкнула.
– Это ужасно! – воскликнула она.
– Боже мой, что в этом такого страшного? – щебеча и бегая около Дземмы, начала Бьянка. – Этот будущий муж на всё согласится! Он рассчитывает на милость короля, предоставит тебе полную свободу. Разве это первый раз так предотвращаются людские сплетни? Это вещь не новая!
– Бьянка! – крикнула, закрывая лицо, Дземма. – Для меня, для меня она новая и неожиданная, я никогда этого не предвидела. Не достаточно, что ему навязали жену, мне также хотят навязать мужа.
Бьянка начала смеяться.
– Но ты его знать не будешь, только, пожалуй, будешь приказывать ему, как слуге.
Утомлённая итальянка постепенно на первый взгляд начала успокаиваться. Ноги под ней дрожали, она бросилась на сидение в оконной нише.
Она думала, кто бы мог быть тем мужем, который должен дать ей фамилию, свободу и продаться за королевскую милость. Она чувствовала презрение к этому человеку, не зная его.
– Кого же королева навязывает? – проговорила она с презрением.
– Королева не навязывает, но он сам напрашивается, – сказала Бьянка. – Вспомни эти тайные подарки.
Лицо Дземмы покрылось румянцем. Она совсем иначе представляла того, кто её так по-королевски одаривал, и того, кто теперь так подло тянулся за её рукой. Она не могла помирить друг с другом этих двоих, таких разных в её понимании людей.
Она подняла голову. Смотря на неё, Бьянка всё время улыбалась.
На личике итальянки место возмущения заняло некое удивление, недоумение, любопытство. Подруге казалось, что могла начать приоткрывать тайну.
– Могу ли я поведать, кто он, этот влюблённый в тебя, любовь которого простирается так далеко, что готов пожертвовать собой для твоего счастья?
Дземма молчала, но молчание это означало: говори!
Бьянка несколько колебалась.
– Это очень богатый человек, – сказала она, – совсем немолодой, а фигурой и лицом, увы, вызывающий смех. Многие говорят, что он добрый, никто не говорит, что он может быть плохим. Чего ещё можно требовать от такого соломенного мужа?
По мере того как говорила Бьянка, мысли Дземмы бегали и искали во дворе кого-нибудь, кто бы отвечал этому изображению, но найти его не могли.
Она пожала плечами и из её уст вырвалось только одно слово: «Богатый?»
Бьянка смеялась.
– Да! Говорят, что очень зажиточный, – произнесла она, – а лучшим доказательством этого являются подарки, за которые он даже взгляда не требовал.
Итальянка ещё где-то блуждала мыслями, по лысинам старых придворных, когда её подруга, ударив в ладоши, воскликнула:
– Пётр Дудич, королевский придворный!
Это имя, почти забытое, почти незнакомое, не сразу привело в голову итальянки потешный образ того, к которому относилось. Рот скривился от ужаса, она вся вздрогнула от отвращения и ничего не отвечала.
– Не буду пытаться доказать, что к его уродству привыкнуть можно, – вставила Бьянка, – поскольку можно не смотреть на него. Королева говорит, что он согласится на всякие условия, лишь бы в глазах людей считался твоим мужем. С другой стороны, дорогая Дземма, можешь быть уверена, что иначе как чьей-то женой королева тебе не позволит ехать с сыном. Кроме того, уже говорили о том, что она тебя опекала, на зло молодой королеве. Хочет, чтобы ты ехала, но боится, как бы на неё это не упало. У тебя нет выбора, бедолага.
А когда Дземма всё ещё ни слова не ответила, сказала быстро:
– Да, у тебя нет выбора, и знаешь что? Примешь его или нет… сделаешь, как тебе нравится, разреши ему видеться с тобой, поговори.
– Это значит, будто я его уже приняла, – ответила Дземма, – и только хотела придумать условия, а я его и брака не хочу, не хочу!
– Значит, останешься в Кракове, – сказала Бьянка. – Мне тебя очень жаль. Я знаю это от нашей охмистрины, что в реестре тех, кто должен сопровождать королеву, ты не значишься. Поэтому будешь мучиться тут в замке, среди чумы, которая уже хозяйничает в городе, а завтра сюда, на Вавель, этот огонь может вломиться.
Дземма заломила руки и начала потихоньку плакать. Даже Бьянка, давно остывшая и легкомысленная, не могла смотреть на неё без жалости, и начала ласками, сладкими словами стараться её утешить и смягчить эту боль.
Но чем же она могла усладить горечь такого положения без другого выхода, чем этот, унизительный и позорный.
Обе поплакали и долгим молчанием разговор закончился.
Всё-таки Бьянке казалось, что после более глубокого раздумья несчастная жертва должна была согласиться с условиями, какие ей поставили. Целая ночь оставалась на размышление.
Назавтра же нужно было ответить что-нибудь определённое, потому что король уже собирался в путь и вскоре должны были выехать. Один только архиепископ Гамрат, пока он там был, а он тоже собирался выехать из Кракова, вместе с той, которую тогда называли архиепископшей, мог без всяких требуемых формальностей приказать устроить брак или сам благословить по требованию Боны.
Всё это потихоньку шептала Бьянка на ухо Дземме, когда уже поздно ночью её оставила, уговорив пойти спать.
На следующий день Дудич, который предстал перед Боной, одетый ещё краше, чем обычно, получил разрешение увидеться с Дземмой.
– Иди сам поддержать своё дело, – сказала Бона, – я принуждать её не могу. Всё зависит от того, как справишься. Только помни, что она гордая, и всё-таки она тебе оказывает милость, не ты ей.
Дудич, поклонившись до земли, вышел; но, едва оказавшись за порогом, он заметил, что ему одному не подобает идти и было неудобно.
Замехская, которую он на коленях просил помочь, наотрез ему отказала. Бьянка, поджидающая его, также с ним входить не хотела, но добавила ему храбрости, довела до самой двери, впустила и убежала.
Дудич, дрожа, вошёл в знакомую комнатку, у окна которой привыкла сидеть итальянка; не нашёл её там. Только через какое-то время она выглянула из спальни, сделала гримасу, схватилась за портьеру, висевшую на двери, минуту колебалась, стоит ли выходить, и, когда Дудич её увидел и поклоном поздоровался, медленно, величественным шагом она вышла в комнату. Она шла, ничего не говоря, застёгивая на себе платье, со стянутыми бровями, гневная, но владеющая собой.
Дудич искал в голове, с чего начать.
– Её величество королева, – начал он, запинаясь, тихо, – её величество королева дала мне надежду, что вы захотите меня выслушать!
– Я знаю, что вы хотите мне сказать, – ответила Дземма, коротко подумав. – Вы решаетесь на трудное дело, а для вас… ну, и для меня позорное. Впрочем, меня мало интересует, что скажут люди; я знаю, что меня за это вознаградит, но вам!
Дудич смутился.
– Давно уже, давно, – сказал он, – я отдал вам своё сердце. Я на всё готов.
– Чтобы ничего за это, кроме взгляда, не получать, – прервала его итальянка. – Не понимаю вашего расчета. Могу отдать вам руку без принуждения, но больше ничего, ничего… даже милости.
Дудич поднял на неё глаза. В них не горела страсть – он сам казался испуганным, но ничуть не был в отчаянии.
Дземма отошла на несколько шагов, подошла к окну, не глядя на него. На протяжении долгой ночи она всё рассчитала, готова была выйти за этого презренного в своём убеждении человека, но хотела заранее лишить его всякой надежды, что этот брак когда-нибудь мог быть чем-то иным, чем притворством и ложью.
Дудич же решил согласиться на всё, рассчитывая, что будущее изменит условия, а итальянка должна будет им поддаться.
Оба молчали, когда Дземма повернулась, остановившись вдалеке у окна.
– Вы знаете условия, – сказала она, – я дам вам руку, больше ничего. Никакой власти надо мной. После свадьбы я сразу выезжаю за молодым королём в Вильно.
– Вы знаете, что я соглашаюсь на всё, – сказал коротко Дудич.
– А вы должны знать, – прибавила итальянка, – что если думаете меня обмануть, обвести вокруг пальца, взять силой, вы в этом разочаруетесь. У меня есть защитники в лице короля, королевы, в себе самой, да.
Сказав это, она достала из-под платья стилетик в искусных ножнах, обнажила его лезвие и спрятала обратно.
Дудич молчал.
– Приготовьтесь одновременно к свадьбе и для дороги. Одна из моих спутниц поедет с нами, но мне нужны и слуги, и карета, какие мне подобают.
– У меня есть карета, обитая бархатом, – ответил Дудич, – четыре самых лучших коня. Слуг и презентабельный двор найду. Вам всего будет хватать.
– Помимо моих драгоценностей, платьев и вещей, – добавила холодно итальянка, – у меня ничего нет. Деньгами, если бы королева мне их дала, я не поделюсь с вами, не дам вам к ним прикоснуться, они должны быть у меня на всякое приключение.
– Я в них не нуждаюсь, – ответил Дудич, который, видя, что всё складывается для него на удивление лучше и легче, вернул храбрость и веру в себя.
Дземма стала страшно бледной и задрожала. Она исполнила жертву, но в её голове ещё не могла поместиться та ужасная мысль договорённости с отвратительным человеком, который вызывал у неё страх наравне с отвращением. Из её глаз полились слёзы.
Дудич сделал несколько шагов, как бы хотел взять её руку и поцеловать, итальянка с криком спряталась за фрамугой окна, отталкивая его руками.
– Не приближайся! Не приближайся ко мне! Иди приготовь что нужно… благодари королеву, не меня.
Смутившийся Петрек отошёл к порогу и забормотал, что и для свадьбы, и для выезда посоветуется с ней, дабы поступить согласно её желанию.
– Можете прийти, как теперь, – ответила она гордо, – но никакой близости. Я не вынесу её, помните об этом.
Послушный Петрек медленно отошёл к двери, вышел из комнаты и, оказавшись в коридоре, почувствовал себя словно пьяным, вытер лоб, покрытый потом, должен был постоять минуту, прежде пришёл в себя.
Дземма как безумная летала по своей комнатке, хватая и бросая то, что ей попадалось под руку, останавливалась в задумчивости и вырывала свои красивые волосы, а Дудич собирал разрозненные мысли, достигнув вдруг цели и сам не зная, хорошо или плохо вышло. Он верил, что итальянку смягчит и одолеет, но ныне она показалась ему гораздо более дикой, чем он её представлял.
Привыкший к экономии, Дудич также рассчитывал в голове, каким великим жертвам подвергнут его требования женщина, которая жалеть его вовсе не думала.
Замехская, к которой он пошёл с таким грустно опущенным носом, как если бы его постигла неудача, теперь уже не отказала в посредничестве. Позвали Бьянку; Дудичу нужно было знать, как ему готовиться в путь, чтобы в самом начале не напрашиваться на неприятную ссору с женой.
Приятельница охотно взялась расспросить Дземму, но не только её, нужно было просить разрешение у королевы служить и собираться в путешествие.
Дудич должен был сидеть добрых несколько часов, прежде чем ему принесли выданный ему приговор. Нужны были две приличные кареты для госпожи и её двора. Королева хотела, чтобы Дземму сопровождала Бьянка, которая должна была обо всём доносить. Кроме того, две девушки-служанки и старая итальянка, назначенная Боной, должны были составлять компанию пани Дудичевой.
Хоть немолодой уже, Петрек не имел права сидеть в карете с женой, должен был вместе с людьми ехать верхом рядом с её каретой.
На этом не конец; где шли две кареты, одна из которых должна быть покрыта бархатом и украшена позолоченными латунными балясинами, другая – тёмно-красной тканью, по крайней мере две повозки под кожами нужно было иметь для дорожных принадлежностей, для сундуков и шкатулок жены, для провизии людей и коней, для запасных доспехов, постели, войлока, ковров, подголовников, подушек, которые с собой возил каждый, кто нуждался в комфорте. Дальше ещё при четырёх каретах и стольких же возницах нужны были люди для безопасносии и службы, по меньшей мере несколько, и то не первых попавшихся.
Лесные тракты к Литве не везде были безопасны, часто по несколько миль нужно было волочиться песчаной дорогой, не найдя ни постоялого двора, ни деревни, ни сарая. На всякий случай и шатёр один, другой, кормушки и сохи к ним для лошадей было нужно с собой взять, а для кухни медь и посуду, а для жажды несколько бутылок. Всё это обсудив со смеющейся Бьянкой, которая вполне была рада авантюрному путешествию, и записав, Дудич схватился за голову, хоть имел желание взять кошелёк, потому что посчитал, сколько это будет для него стоить.
Итальянка, увидев, что он забеспокоился, крикнула ему:
– Заранее подумайте! У вас есть ещё время отступить. Завтра будет слишком поздно, замок защёлкнется.
Но Дудич из-за одного себялюбия отступать не думал, и ответил, что дело было не в деньгах, но в нехватке времени, чтобы всё собрать, потому что в Кракове, хотя бы даже Дземма была не так нетерпелива, чума выступала более грозно и оставаться дольше не позволяла.
Поэтому Дудич как можно быстрей побежал в город, где за деньги всегда всё можно было достать. И хотя друзей у него не было, платных помощников было предостаточно. Встретившись по дороге с паном Бонером, он не скрывал от него, что женится на итальянке, но больше ничего ему не поведал. Оставшуюся часть этого дня, ни минуты не отдыхая, Петрек потратил на уговоры людей, покупку коней, упряжи, одной кареты, которой ему не хватало, повозок и т. п.
Поздно ночью в его постоялом дворе ещё было шумно… и комната была завалена упряжью, оружием, посудой, она выглядела как неубранная кладовка, когда в неё вбежал Марсупин.
Он знал уже от казначея о браке, но не очень этому верил, – прибежал чего-нибудь узнать.
Они вместе вышли в альков.
– По вашему занятию я вижу, что, пожалуй, правда то, что вы женитесь, и едете вместе с женой в имение. Это правда?
– Правда, – ответил Дудич. – Зачем мне вам лгать, когда скоро это наверх выйдет? Я еду с женой в Вильно.
Марсупин отскочил от него и поглядел с презрением.
– То, что ты женишься на любовнице короля, – воскликнул он, – это ещё куда ни шло; много нашлось бы таких, кто бы её взял; но чтобы ты её королю вёз, это невероятно!
– А кто говорит, что я везу её королю? – сказал Дудич. – Мы едем, дабы воспользоваться его милостью и отдаться под его опеку. В Литве у него много земель для раздачи.
Итальянец пожал плечами.
– Ты слеп как крот, – сказал он. – Королева-мать трезвонит об этом браке, вы едете с её ведома; ясно, в чём дело: чтобы король не скучал по жене и с нею не жил. Какова же будет ваша обязанность? Стоять на страже, когда его королевское высочество будет забавляться с вашей женой?
Лицо Дудича побледнело и в то же время почернело, он забормотал что-то непонятное.
– Позвольте, – сказал он, – это моё дело, ничьё!
– Конечно, – ответил Марсупин, – как себе постелишь, так выспишься; но помните, что если до сих пор вас не очень уважали люди, теперь уважения вы ещё меньше выиграете, если даже у вас будет милость молодого короля.
Итальянец, которому, видимо, важнее было убедиться, как обстояли дела, а не обращать Дудича, упрямство и глупость которого знал достаточно, попрощался с ним неохотно и ушёл.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.