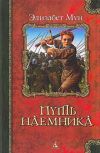Текст книги "Две королевы"

Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Бонер пожал плечами.
– Как будто она уважает послов! – сказал он. – С нею можно справиться одним страхом мести императора Изабелле и её княжествам; вы должны давить на это.
– Выхлопочите мне аудиенцию у Сигизмунда, – сказал Дециуш, обращаясь к Бонеру.
– Вам и у молодого нужно побывать, и у молодой королевы, – прибавил Марсупин, – но ни Бонер, ни даже епископ Самуэль ничего не смогут, если старая змея захочет помешать.
Стояли так все с грустными лицами, когда Бонер услышал шаги, а оттого что никого там не ожидал, не хотел видеть, пошёл к двери. В ней показался Дудич, его лицо было тревожно и нахмурено; как обычно, он был фантастически и смешно наряжен, что при его постаревшем и некрасивом лице дивно выделялось и притягивало любопытный взгляд Дециуша.
Марсупин, который очень напугал этого сырного человека, но ценил его, потому что он хорошо ему служил, поняв по выражению лица, что тот принёс с собой какую-то заботу, подошёл к нему. Бонер приветствовал его кивком головы. – Ты из замка идёшь? – спросили его.
– Да, – воскликнул беспокойным голосом Дудич. – Снова возле замка умерли несколько заражённых человек. Мы очень боимся. Ксендз Самуэль настаивает, чтобы старый король ехал в Новый город или Мазовию, куда-нибудь, лишь бы в безопасное место. Разумеется, что королева Бона его одного не пустит.
– А Август? – спросил Марсупин.
Дудич пожал плечами.
– Не знаю, – сказал он, – но кажется, что его ещё скорее отправят. Бона ухватилась за чуму, чтобы разделить супругов. Речь о том, чтобы молодой король ехал один в Литву, а чета старых государей с молодой королевой – в Корчин.
Все минуту молчали, Марсупин возмутился первый.
– Снова что-то новое! – воскликнул он. – Королева Елизавета не должна этого позволить, и объявить, что едет с мужем. Она не рабыня, она супруга… имеет обязанности.
В течение долгого времени никто не отзывался. Марсупин повернулся к Бонеру.
– Если путешествие будет складываться не как следует, – сказал он, – пан Бонер имеет силу ему помешать.
– А это как? – спросил казначей.
– Легко, – сказал Марсупин. – Молодому королю на Литву нужны будут деньги; если вы их не дадите, его не отправят.
– Разве деньги в моей власти? – ответил Бонер. – Они под моим ключём, правда, но не я ими распоряжаюсь. Впрочем, к чему это сдалось? Королева имеет больше в Хецинах, чем я в королевской казне в Кракове; если он заупрямится, она даст сыну деньги.
– Она скупа, – ответил Марсупин.
– Но не там, где речь идёт о правлении, – сказал Бонер, – она не пожалеет для него.
Дудич, слушая, крутил глазами, было очевидно, что по его голове что-то ходило, чего колебался открывать. Отвёл Марсупина в сторону.
– Вы знаете, – сказал он, – мне кажется, что пришла пора, когда я на одном огне два жарких приготовлю, своё и ваше.
– Каких? – спросил Марсупин, который не верил в ум и хитрость Дудича.
– Если молодой король уедет и бросит свою итальянку, будет пора свататься на ней и вас от неё освободить.
Итальянец рассмеялся.
– Слушайте-ка, – сказал он, – или Бона отдаст её тебе, и тогда нам от неё ничего; или, если это может нам для чего-нибудь пригодится, не допустит.
Дудич покачал головой.
– Посмотрим, – сказал он, – но я вам только заранее объявляю, что кто мне с итальянкой поможет, тому служить буду.
– Хотя бы Боне? – спросил Марсупин.
– Хоть бы старому дьяволу! – воскликнул в запале Дудич.
Опустился вечер, принесли светильники, на улице не прекращалось движение. Они выглядывали в открытые окна, две или три телеги с гробами проехали под окнами.
– Люди ужасно умирают, – отозвался Бонер. – Поэтому уже нет сомнения, что это за эпидемия, но от жары большая смертность. Я ещё не верю в чуму.
– Более того! – прервал Марсупин. – Я видел нескольких докторов; старые, которые уже видели чуму, утверждают, что на трупах видны её знаки: синие пятна и нарывы. Она ещё не слишком быстро распространяется, но что пришла, это определённо.
– Твердят разное, – сказал Бонер, – но если действительно появилась зараза, нет ничего более срочного, чем отправить отсюда двор. На нашем старом короле и его жизни много лежит.
Беседа о чуме началась робко, потому что всем было неприятно о ней говорить; а тот, кто верил, что эпидемия распространяется, предпочли бы в этом сомневаться.
Но каждую минуту грустные новости подтверждались.
Несмотря на поздний час, Бонер решил ехать в замок и велел подать себе коня, который всегда стоял готовый. Он хотел и о прибытии Дециуша объявить королю, и проведать, что думали и намеревались делать в замке. Поэтому гости, попрощавшись, потому что молодой Дециуш возвращался к отцу, он сам в воротах оседлал спокойную клячу и, приказав двум слугам ехать за ним, направился в замок.
На улицах было уже пусто, но в некоторых местах, туда, куда проникла смерть, тиснулись люди за информацией.
Опытным глазам подскарбия легко было различить необычное состояние города, словно в преддверии катастрофы. Повсюду на улицах, под домами богатых, на площадях дымились горящие листья и разные травы, а так как воздух был тяжёл, его переполнял горький дым, дышать было трудно. Тут и там проскальзывал с фонариком ксендз для последнего причастия, о котором объявлял колокольчик мальчика. Кое-где из ворот раздавался беспокойный гомон, и, как это делается в самые тяжёлые времена, когда тревога отбирает ум у людей, постоялые дворы, пивнушки, кладовые полны были людей, которые хотели опьянеть и подчерпнуть из алкогольного напитка отвагу.
В замок впускали с трудом, но у Бонера был ключ от двери в любое время. В спальной комнате короля он заметил свет, так же как в комнатах старой пани, около которых на галерее проскальзывали женщины и слуги. Около старого короля уже никого из совета не было, только капеллан, несколько старых священников и доктор-поляк.
Сигизмунд собирался лечь спать.
Бонер, который хотел что-нибудь узнать, никого в пустых приёмных не нашёл, кроме дремлющего на лавке, опирающегося на свою палку, Станчика, который, когда не шутил, был больше похож на аскета и философа, чем на шута.
Казначей подошёл к нему.
– Челом! – сказал он.
– Гм? – ответил старик. – Если вы мне челом, а чем же я вам поклонюсь?
Бонер рассмеялся.
– Что у вас слышно? – спросил он.
– Всегда одно, – начал шут, – много лет ничего другого не слышу, только жалобу.
– Вы этому удивляетесь? – спросил Бонер.
– Удивляюсь! – воскликнул Станчик. – Потому что слыву глупцом, как тот, кого не хотят слушать, одно всегда клокочет и напрасно рот остужает.
Бонер поглядел на как бы застывшего старика, сидевшего с поникшей головой.
– Человеку легче, когда повздыхает, сердцу спокойней, когда выплачется, – сказал он тихо.
А через мгновение добавил:
– Я слышал, двор хочет из-за чумы из Кракова уехать. Правда это? Что вы тогда думаете делать?
– Я? – сказал шут. – Должен идти со двором. Потому что когда-когда, а в беспокойное время шут нужен, дабы хоть капельку хорошего настроения влить в эту горечь.
– Вы что-нибудь слышали о поздке? – прибавил Бонер.
– Я ничего не знаю, – сказал Станчик, – и всегда готов ко всякой дороге, хоть из этого мира в лучший. Сумок и сундуков у меня нет, взяв шапку и палку, всё своё несу в одной руке. Остальное в голове.
От Станчика так никогда ничего нельзя было узнать. Поэтому казначей оставил его в покое, и, минуту постояв, сказал только:
– Если чума вам не страшна, а дорога для вас тяжела, вы знаете, что мой дом всегда для вас открыт.
Станчик поднял своё бледное сморщенное лицо и усмехнулся:
– Вы хотите, чтобы у вашей сокровищницы были такие стражи, как я, которых не соблазняет золото? Гм? Но Станчик знает, что, охраняя сокровища, легче всего получить по хребту! Бог воздаст.
* * *
На следующий день чуть свет в коридорах замка кишело придворными и посланцами.
Старый король с утра отправил посланца за панами Совета, а в первую очередь к подканцлеру, королева отправила каморника к Гамрату, молодой король сидел уже у неё, а Опалинский той ночью спать вовсе не ложился.
Из города тот и этот приносили правдивые и фальшивые новости о внезапно умерших людях. Действительно, казалось, что чума вдруг распространяется, и те, кто её поначалу ставил под сомнение, уже не могли отрицать, что в городе умирали. Но одни надеялись, что следующая за жарой буря очистит воздух, другие – что она сама от благодати Божьей прекратится.
В костёлах выставили реликвии и совершали торжественные молитвы. Все доктора были на ногах, а в аптеках готовили напитки и кадила, ими рекомендованные.
Из всех членов королевской семьи королева Бона была охвачена наиболее сильным страхом.
Всюду в её комнатах горели ароматные палочки, разные бальзамы и воздух был пропитан сильными испарениями средств, которые приносили доктора и рекомендовали одни над другими. Это не уменьшило её беспокойства за себя, мужа и сына.
Но даже в эти минуты ужаса итальянка не забыла о том, что было у неё на сердце – о своей ненависти к молодой королеве, об опасении, как бы со своей мягкостью, терпением и очарованием она не вырвала у неё сына.
Эпидемия чумы давала возможность отослать сына, под предлогом его безопасности, в Литву. Днём ранее она говорила об этом Сигизмунду, который долго ни в Литву, ни в Мазовию отпустить его не хотел, уговаривая отправить Августа в Вильно, потому что его там литвины очень ждали.
Старый государь согласился выслать сына, но хотел, чтобы, как приличествует, жена ехала с ним. Бона этому сопротивлялась.
– Если вдвоём туда поедут, им будет нужно вдвое больше двора, людей, денег; на это казны не хватит. Пусть едет один.
Согласия не было, разговор прервался без всякого результата. У Боны были тысячи аргументов на то, чтобы отправить сына отдельно, а Елизавету старые король с королевой должны были забрать с собой.
С утра, прежде чем Бона пришла с новыми настояниями, король говорил об этом с Мациёвским. Епископ, естественно, голосовал за то, чтобы супругов не разделять.
Бона раньше, чем обычно, вошла к супругу, который больше страдал, чем обычно.
Их оставили одних. Долго продолжались разногласия, настаивания, спор, от которых до соседних комнат долетали только отдельные голоса и слова. Попеременно чередовались то голос старого короля, то визгливые крики итальянки.
Придворные, которые стояли в приёмной, по опыту заранее делали вывод.
– Королева долго там сидит. Настоит на своём. Это верный признак. Если бы король хотел ей сопротивляться, должен был сразу её отправить. Чем дольше сидит, тем уверенней выиграет.
Так оказалось в действительности.
Бона вышла с горящими щеками, с заплаканными глазами, но с победной улыбкой на губах. В конце концов уставший Сигизмунд согласился на всё; кто о том не знал, догадался бы по лицу итальянки.
Вскоре разошёлся слух (была это суббота), что молодой король поедет в Литву один… и то не позже понедельника.
Холзелиновна, которая со своей госпожой и очень щуплой группой её фрейлин всё ещё вела уединённую жизнь в замке и при дворе, чувствуя, что их окружают враги, нескоро, быть может, узнала бы об этом, если бы известие не было плохим и грустным для её госпожи.
С плохим всегда кто-нибудь поспешит.
В коридоре пробегающая итальянка нагнулась к её уху.
– Решено, – сказала она быстро, – молодой король едет один в Литву. Ваша пани поедет куда-нибудь с нами, где воздух получше.
Холзелиновна не поверила бы этому, но проходивший Опалинский, которого она спросила, подтвердил этот слух.
Сердце старой воспитательницы сжалось, когда она вошла с этим к своей пани. Ей было досадно ранить новым ударом бедную и на удивление терпеливую мученицу.
Практически в течение всех этих трёх месяцев, которые казались долгими годами, Елизавета храбро боролась с тем, что её там постигло. Все, кто, как Марсупин, становился в её защиту, хоть временно, иногда внешне выбивали какое-нибудь послабление, своими попытками раздражали Бону, увеличивали её ненависть, пробуждали желание мести.
Положение Елизаветы вовсе не улучшилось, но сила её духа выросла; у молоденькой пани прибавилось мужество. Она знала, что не покинута родителями, своё одиночество приписывала только Боне, меньше всего обвиняла мужа, и была уверена, что всё окончится счастливо, триумфом, примирением и сладкой жизнью с тем, которого любила.
Холзелиновна удерживала её в тех убеждениях, которые её нынешнее состояние делало более сносным.
Несмотря на ежедневные укусы этой матери мужа, которую Марсупин называл змеёю, Елизавета не плакала, не жаловалась лицом, строила из себя счастливую, и даже часто, как после истории с сыром пармезаном, потихоньку смеялась, когда преследование не удавалось.
Кэтхен благодарила Бога, как за особую Его милость, что это слабое существо с такой неслыханной силой духа и выдержкой сопротивлялось преследованиям.
Правда, на личике королевы, которое в начале значительно побледнело и носило видимые следы страдания, снова расцвёл свежий румянец. Она глядела смело; одна только Бона, на которую она смотреть не могла, внушала ей тревогу, которую победить не могла.
Даже тогда, когда итальянка пыталась быть любезной с ней, когда мягко к ней обращалась (при свидетелях), Елизавета не чувствовала себя ободрённой. В этом голосе всегда звучала ненависть, грохотала некая угроза.
Когда проводила много времени наедине с Холзелиновной и несколькими девушками двора, королева оживлялась, велела читать ей, молилась, вязала.
Ей приносили слухи, которые она слушала, не обращая на них особого внимания. Раз в несколько дней приходил к ней муж, который из боязни Боны, которая следила за каждым его шагом, никогда надолго не оставался; обменявшись с супругой несколькими равнодушными словами, он убегал.
Страх к матери был в нём так очевиден, что Елизавета даже не злилась на него за холодное обхождение с ней.
– Кто знает, – говорила она сама себе, повторяя то, что ей шептала Холзелиновна, – если бы он показал малейшую нежность, Бона могла бы приказать отравить меня.
Боязнь яда была всеобщей, все о нём говорили, и королева Елизавета вещей, приходящих от Боны, коснуться не смела. Перчатки, ткань, драгоценности могли быть так отравлены, что убило бы одно прикосновение к ним. Еду и напитки со стола Боны пробовали, или нетронутыми выбрасывали прочь. Эта осторожность делала жизнь невыносимой.
Пытаясь избавить свою госпожу от страданий, Холзелиновна сама день и ночь заливалась слезами, которые вытирала только тогда, когда хотела показать Елизавете безоблачное лицо.
От неё многое скрывали, но Марсупин знал малейшие подробности, и хотя пристально следили, предателя до сих открыть не смогли. Дудич был чрезвычайно осторожен, а перед старой королевой кланялся тем ниже, чем более виноватым себя чувствовал. Вся его деятельность имела одну цель: получить итальянку, которую выбрал.
Войдя с плохой новостью к своей госпоже, Холзелиновне нужно было время, чтобы изменить выражение лица.
Елизавета шила на ткацком станке и, увидев её на пороге, улыбнулась.
– Я не знала бы моей Кэтхен, – сказала она, – если бы не угадала, что ты пришла не с пустыми руками.
– Если бы эти руки могли принести вам что-нибудь хорошее! – вздохнула Холзелиновна.
– Но я и к плохим привыкла, – холодно ответила принцесса, изучая воспитательницу глазами.
– Я также принесла плохое, – сказала Кэтхен. – Наш молодой король едет и, по-видимому, едет один в Литву. Мы также едем, убегая от чумы, но вместе со старой королевой, которая не хочет нас выпустить из своих когтей, не знаю почему.
– А! – вставая от прялки, сказала Елизавета. – Мне кажется, это только начало путешествия такое грустное. На Бога надежда, что когда король, господин мой, поселится в Вильне, заскучает по мне и придёт за мной… или, или я соберусь с мужеством и погонюсь за ним.
– А! А! – выкрикнула Кэтхен. – Если бы племянница императора, перед силой которого дрожит мир, приняла это решение, нашла это мужество…
Елизавета задумалась.
– Кэтхен, – воскликнула она, – оно было бы у меня вопреки всем… есть на свете одно существо, которое пронимает меня страхом смерти. Её голос проходит по мне дрожью, её шаги отдаются в моём сердце, словно каждый шаг ставит на нём, её прикосновение охлаждает меня, как острие меча, её взор убивает, как глаза василиска. Когда я её не вижу, я храбрая, когда она приближается, силы меня покидают, я не смею поднять глаз, силы оставляют меня, голос у меня в горле пересыхает, жизнь прекращается.
Холзелиновна молчала, не смела признаться в том, что и на неё Бона производила почти такое же впечатление.
– Король, мой господин, едет? – спросила Елизавета немного задумавшись. – Ты говоришь, Кэтхен, что это плохая новость? Я не знаю, мне кажется, что приближается минута нашего избавления.
Она взглянула на воспитательницу.
– Он едет один, – прибавила она тише, – не берёт меня, но также и своих подружек отсюда забрать с собой не может.
– Найдутся другие, когда захочет, – шепнула Кэтхен.
– А! Не думай о нём так плохо, – прервала Елизавета. – Это остатки с давних времён, он теперь будет иным. От старых уз расковаться трудно.
– Дай-то Бог!
Королева минуту подумала, обняла воспитательницу и спокойно села за прялку. В это время Опалинский пришёл вызвать Сигизмунда Августа к матери.
Бона, подбоченясь одной рукой, ждала сына с торжествующим лицом. Её губы улыбались.
Её хотели оторвать от сына! Этот отъезд она хотела сделать новым узлом, соединяющим его с ней и разлучающим с женой.
Едва Август показался на пороге со своим лицом, всегда выражающим некое утомление, но в то же время силу, когда мать насмешливо сказала:
– Наияснейший пане, по воле отца ты едешь в Вильно! Едешь один, потому что жену нельзя подвергать длинному, неудобному путешествию.
Эти слова сопровождала странная, злобная улыбка.
– Да, – прибавила она, – ты едешь в Вильно один! Я знаю, – начала она живей, – что, будучи уже коронованным королём и великим князем, ты хочешь приказывать и показать, что сможешь поднять скипетр и державу. А стало быть, поздравляю.
Она поклонилась сыну.
– Что касается королевы, – сказала она, – будьте спокойны. Она поедет с нами, ей всего будет хватать. По правде говоря, её и наш двор мы должны будем уменьшить, но бездельников всё равно останется достаточно.
Королева сделала гримасу, глядя на сына, в лице которого она хотела разглядеть впечатление, какое произвела на него эта неожиданная новость.
Лицо Сигизмунда Августа даже в его молодости, заранее лишённой иллюзий, нелегко было прочитать. Оно всегда хранило серьёзность и хладнокровие, свойственные своему сану. Но мать легко угадывала самые лёгкие оттенки лица сына. Внимательно смотрела на него, надеясь найти волнение радости, а заметила, а скорее, угадала некоторое замешательство и озабоченность.
Её это удивило.
– Как же? – подхватила она всё ещё в этом тоне. – Ваше королевское величество это не радует? Король-отец долго этому сопротивлялся; наконец у тебя то, что ты сам хотел и другие для тебя желали.
Август стоял будто задумчивый.
– Я благодарен отцу за доверие, – сказал он, – я охотно еду в Литву, но боюсь, не пробужу ли в литвинах на первом шаге больше жалости, чем радости. Вы, моя милостивая мать, знаете это лучше, чем кто-либо, как скудно я был и есть оснащён. Не имею ни подходящего двора, ни людей, ни запасов, ни казны, которая нужна правителю. Должен ли я начать правление с того, что буду протягивать руку к своим подданным, чтобы они мне дали помощь?
Бона казалась приготовленной к этому вопросу, улыбка не сходила с её губ, а выражение триумфа всё отчётливей рисовалось на сияющем лице.
– Ты забываешь, что у тебя есть любящая мать, всегда готовая на жертвы. Я сразу была уверена, что Бонер, особенно, когда узнает, что Елизавета с вами не едет, дать тебе всё необходимое для поездки не захочет, как следует. Но для чего же старая итальянская княгиня, которая принесла с собой приданое в золоте и что-то могла собрать для детей?
Август стоял, опустив глаза, как будто ему было стыдно. Мать нежно положила руку ему на плечо.
– Езжай, – сказала она. – У Бранкаччо уже есть мой приказ. Я даю тебе на это путешествие пятнадцать тысяч, а поскольку ты должен выступить, а в Вильне, наверное, ни одной серебряной миски не найдёшь, и у тебя их немного, чтобы взять отсюда, а жена также не может тебе ничего дать, я приказала выдать из сокровищницы полсотни серебряных кубков и мисок, положила цепи.
Август покорно поцеловал ей руку, поблагодарил; но ни этот подарок, ни новость не сделали его таким счастливым, как, возможно, Бона ожидала.
Она неправильно поняла холод, какой в нём объявился; ей в голову пришло, что расставание с Дземмой могло быть причиной грусти. Многозначительно, всё с той же ироничной улыбкой она прибавила:
– Что касается общества, какое возьмёшь с собой в дорогу, я также об этом подумаю… будь спокоен. Я хорошо понимаю, что с многими особами, к которым ты привык, тебе будет тяжело расставаться. Я постараюсь, чтобы тебе в Вильне всего и всех хватало. Но мы должны быть осторожными. Люди меня очерняют за мою любовь к ребёнку, выдумывают клевету. Мы найдём средства, чтобы те, кто с тобой не поедут, могли поехать за тобой. Понимаешь меня? Нужно только придать этому какую-нибудь видимость, чтобы в этом снова против тебя и меня приятели Елизаветы не нашли оружия. А! Дорогой Марсупин! У него хорошее зрение… глаза кота и кошачьи когти… Негодяй! Наглец!
Одно напоминание о Марсупине уже привело её в гнев. Лицо нахмурилось, губы затряслись. Чтобы успокоиться, она прошлась пару раз по комнате. Август стоял, точно ему надо было ещё привыкнуть к этому новому распоряжению, задумчивый.
Бона с ласками приблизилась к нему.
– Я сделала для тебя всё, что только могла, – сказала она. – Мне это немало стоило у твоего отца, потому что старик чем больше теряет сил, тем упрямее, а ксендз Самуэль больше над ним не властен. То, что бы мне принадлежало после стольких лет совместной жизни, вырывают из моих рук приспешники. Мне не раз пришлось заливать это слезами… я теряю сердце, доверие, веру, когда их мне больше всего нужно. Не печалься, прошу; видишь, что всё складывается, если не для меня, то для тебя, самым лучшим образом. Я знаю, что и теперь будут на меня кричать, что я вас с Елизаветой разделяю… но ехать обоим было невозможно.
По-прежнему молчавший Август ничего на это не отвечал. Только благодарил мать, но лицо его было постоянно сумрачным.
– Твой отъезд назначен на понедельник, – прибавила Бона, – я говорила это Опалинскому; выдай соответствующие приказы, а если тебе что-нибудь не хватает, скажи мне, пойди ко мне, не к Бонеру, не к ним… туда… и обеспечу тебя всем необходимым. Бранкачо на твоих приказах.
Августу не осталось ничего другого, кроме как заново поблагодарить мать, которая, не видя в нём радости, шепнула на ухо:
– Дземму сразу невозможно отправить, но вскоре она будет в Вильно, и так, что никто нам не сможет этим глаза колоть. Будь спокоен, я подумаю, сделаю всё, что нужно, для твоего счастья. Помни, что у тебя есть любящая тебя мать, что никто лучше тебе не желает и лучше посоветовать не сможет. Советуйся со мной… я очень опытная, я знаю людей, знаю, как надо вести с ними, чем их подкупить. Для тебя живу.
И, пылко схватив его за шею, начала обнимать.
Сердце Августа растрогалось от этих доказательств материнской любви, он целовал её руки и благодарил.
Бона начала доверчиво шептать, готовя его поступить согласно её указаниям, желая сделать так, чтобы отдаление сына не оторвало его от неё и не освободило из-под её контроля, какой до сих пор влиял на малейшую его деятельность.
Это доверительное совещание с матерью продолжалось довольно долго, после него Бона с улыбкой указала сыну привычную дорогу через свои покои в комнату Дземмы.
– Иди утешь её, – сказала она, – должно быть, бедняга в отчаянии, потому что на дворе о твоём отъезде уже знают. Poverina!
Действителньно, молодой король, попрощавшись с матерью, направился прямиком к Дземме.
Теперь, как в начале разговора с Боной, его красивое лицо носило тот несмываемый отпечаток непреодолимой тоски, который он в течение всей жизни был обречён носить. Никогда никто не видел Сигизмунда Августа по-настоящему весёлым и свободным, как будто у него было предчувствие и осознание своей судьбы; последний из Ягеллонов напрасно пытался чем-то украсить свою жизнь, всё выскальзывало из его рук – был несчастлив.
Он шёл, погружённый в мысли, когда легкомысленная Бьянка, прежде чем он подошёл к двери комнаты Дземмы, заступила ему дорогу со своей смелой улыбкой на коралловых губах.
Как старая, хорошо к нему привыкшая придворная, она прямо подбежала к королю.
– А! – воскликнула она. – Ваше королевское высочество, спешите утешить бедную Дземму, потому что она заливается слезами, хотя хорошо знает, что не будет забыта… и сегодня или завтра поедет всё-таки с вами. А! – прибавила она. – Дземма! Дземма! Но вам, милостивый король, скорей нужна бы такая весёлая ветреница, как я, как старая Бьянка, чтобы разгладила морщины вашего лица. Возьмите меня с собой.
Август ей улыбнулся, а энергичная девушка, опережая его, отворила дверь спальни Дземмы. Её можно было увидеть в глубине, во второй комнате с распущенными волосами, с растёгнутым платьем, прохаживающуюся по комнате. Послышался шелест, она бросилась к входящему королю и из её уст вырвался слёзный выкрик.
Август приблизился к ней как-то холодно, хотя с жалостью; более внимательные глаза могли бы заметить некоторую перемену в обхождении с ней Августа, и не ускользнула она, наверное, от взгляда Бьянки, а может, сама Дземма почувствовала охолождение.
Действительно, эти три месяца невзначай, постепенно оказывали воздействие на сердце короля. Его любовь к итальянке сначала была больше подогреваема её страстью к Авусту, чем чувством его собственного сердца. В ней было больше умственного притяжения, обаяния великой красоты, молодости, чем глубокого чувства.
Самой своей безудержностью Дземма становилась бременем, вызывала опасение, утомляла короля, которому нужно было спокойствие.
Он её любил еще – но уже не так, как первое время, когда этот узел затягивался, когда он целиком был занят только ею и не видел ничего, кроме неё.
Этому охлаждению способствовала королева Елизавета. Август начал с того, что принял её с предубеждением, с отвращением, побуждаемый матерью, условившись проявлять равнодушие. Неимоверное терпение и покорность своей судьбе молодой госпожи сначала удивляли, потом вызывали интерес, в конце концов сочувствие.
Молодой король начал с того, что сжалился над ней, что весьма незначительно, осторожно предостерегал и нашёптывал, что должна была делать, чтобы не раздражать Бону. Мягкость королевы, её послушание, потому что не навязывалась ему, не упрекала его, постепенно привлекли к ней.
Возможно, Август проявил бы к жене больше сочувствия но, зная, как ненавидела её Бона, как её опасалась, он боялся, как бы малейший признак сближения с Елизаветой не вызвал мести и преследования.
В течение этих нескольких месяцев, остывая к Дземме, Август набирался уважения, сочувствия, сердечной заинтересованности к этой тихой жертве, которая с ангельской улыбкой приветствовала его, принимая всё с благодарностью и никогда не жалуясь.
Догадалась ли об этом молодая королева, предчувствовала ли этот счастливый оборот, который ей предсказывала Холзелиновна? Отгадать было трудно. Если надежда и вошла в её сердце, даже этой воспитательнице, от которой она никаких тайн не имела, ничего не сказала, не призналась ей.
Она боялась разочароваться, с дрожью ждала, оправдается ли то, что казалось близким, и боялась потерять. Глаза супругов иногда тревожно встречались и тут же отворачивались. Достаточно было такого одного пойманного взгляда, который бы вызвал подозрение в Боне, что супруги сблизились, пришли к согласию, а Елизавета приобрела милость в глазах мужа, чтобы Бона была доведена до крайности.
Сын даже не обманывался, хорошо знал, что жажде власти она способна пожертвовать всем, прибегнуть к самым жестоким средствам. Те, кто её окружали, были готовы по одному кивку допустить самые серьёзные преступления.
В этом страхе за жену Сигизмунд Август, сердце которого уже к ней тянуло, должен был показывать себя совсем холодным и равнодушным. Достаточно было, чтобы на её лице засветился лучик радости, и Бона могла отомстить, догадываясь, что его вызвало. Сперва Елизавета подкупила мужа милосердием, потом своим мягким терпением и спокойствием в мучиничестве.
Настоящее путешествие в Литву, хотя его временно разделяло с женой, не показалось ему грозным. Он приобретал на нём больше независимости, мог потом забрать жену, должен был о ней впомнить. Сам король Римский должен был ему в этом помочь и скорей освободить молодую королеву, а рука Боны, хотя доставала далеко, не так уже сильно ощущалась в Литве.
Всё это сновало по голове молодого пана, когда он в задумчивости брёл к Дземме. При виде его итальянка разразилась плачем, бросившись ему на шею.
– Нас хотят разделить, – начала итальянка, – я убью себя, я не переживу разлуки.
Король начал её успокаивать ласками.
– Не тревожься, – сказал он, – я иду от королевы-матери, она обещала мне найти способ вскоре соединиться со мной.
– Зачем тут искать способов? – выпалила итальянка. – Почему нас должно волновать, что на меня будут пальцами показывать, как на королевскую любовницу? Меня это вовсе не заботит, я горжусь этим. Сяду в карету, их будет достаточно, и поеду.
– Да, – сказал Август холодно, – а мать и меня будут за это упрекать. Приятели и шпионы короля римского смотрят, всё знают, королеву и так очерняют, бросают на неё вину; отомстят на королеве Изабелле.
От нетерпения Дземма начала ерошить волосы на голове и дёргать на себе платье.
– Ты уже не любишь меня, – воскликнула она, – ты хочешь моей смерти, – говорила она, плача. – Я этого не переживу.
– Ты должна для меня и для себя переболеть эту минуту, – ответил Август. – Успокойся. Я и королева-мать постараемся, чтобы разлука не была долгой.
Дземма встала вдруг перед королём со стянутыми бровями.
– Значит, что же? Как? Я должна тут остаться. Король с королевой и молодой госпожой также едут неизветно куда. Двор будет уменьшен. При королеве только нас несколько останется. Что со мной?
– Мне кажется, что ничего ещё не решено, – сказал Август, – но у меня есть самое торжественное обещание королевы, что вскоре ты поедешь за мной, а моя мать умеет исполнять то, что намеревается.
Итальянка в отчаянье задумалась.
– А! – воскликнула она. – Короли, короли! Вы только невольники… Боитесь людских глаз, не смеете слушать сердца, должны любить и ненавидеть, как вам велят ваши политические интересы. Я бы предпочла любить батрака, чем короля, потому что тот, если бы у меня было его сердце, мог бы показать мне свою любовь, а вы…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.