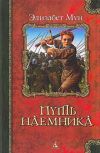Текст книги "Две королевы"

Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 24 страниц)
Ни король, ни Холзелиновна не могли предотвратить, чтобы в саду на улочке, в замке на стене, даже в благочестивой книге королевы, закрытой на золотые застёжки, не оказался листок, после прочтения которого Елизавета бледнела и падала как неживая.
После каждого такого пароксизма она вставала более слабая, а одна боязнь нового припадка делала жизнь невыносимой. Она постоянно видела и чувствовала отдалённого, неумолимого врага, шаг за шагом идущего за ней, стоящего ночью у кровати, днём за стулом.
Её тайные палачи, незаметные, так умели прятаться, так имитировали верность, что поймать их было невозможно. Только практически каждый день приносил работу этих недостойных рук.
Множество бумаг Холзелиновна уничтожила, король назначил значительную награду за открытие исполнителей этого ужасного преследования. Ничего не помогало. Никто не мог открыть следа.
Последняя, самая тяжёлая слабость была вызвана немецким пасквилем, который Елизавета нашла в своей лавке в костёле. Подлый манускрипт оскорблял её и предсказывал скорую смерть и был рассчитан на то, чтобы её добить. Онемевшую Елизавету вынесли из костёла; долгое время она была на краю могилы и чудом потом встала ещё.
Ожила, словно забыла, что вытерпела. Затем из Кракова пришла радостная новость, что должны приехать послы Римского короля со значительной частью приданого в золоте и серебре. Вызывали Елизавету и Августа для получения и расписки. Сигизмунд Старый обоих приглашал к себе, хотел увидеть выздоровевшую невестку.
Август пришёл прочитать жене письма. Она покраснела и побледнела. Стояла задумчивая и озабоченная, и долго пришлось ждать ответа.
– А, король, господин мой, – сказала она дрожащим голосом, – я твоя служанка, я по приказу готова в огонь и воду, но разве я нужна там, в Кракове? Отец мне может быть рад, а другие? Вид мой пробуждает гнев, раздражение. Езжайте одни.
Она заплакала, вытерла слёзы и говорила дальше:
– А! Расстаться с вами, король мой, государь мой, мне так же тяжело будет, как с жизнью. Я предпочла бы у вашего бока дотянуть до конца, а меня такая тревога охватывает, когда теряю из глаз моё солнце. Скажите, нужно мне ехать в Варшаву?
– Давай посоветуемся с лекарем, – ответил Август. – Я продпочёл бы, чтобы ты была со мной, а знаю, сколько это будет стоить. А! И мне тоже, моя королева. Давай ни я, ни ты не будем пророчить, пусть декрет выдадут доктора.
Их в тот же день спросили, но все были согласны, чтобы королева осталась в Вильне. Столкновения с королевой Боной в Кракове были неизбежны, а для Елизаветы они были угрожающими.
Когда руки неумолимого врага достигали даже Вильна, насколько бы сильнее они чувствовались там, где она всем владела.
Стало быть, королева должна была остаться.
Но когда наступила минута прощания с мужем, она залилась слезами, потеряла храбрость и Холзелиновна едва сумела предотвратить новый припадок болезни.
Август напрасно её уверял, что скоро вернётся, что ни минуты лишней не проведёт, кроме того времени, что нужно для получения денег и расписки.
Отношения с матерью по причине этих преследований Елизаветы были такими напряжёнными, что молодой король заранее решил даже не останавливаться в замке, приказал занять для него дом на рынке, а весь его двор, урядники, каморники дали друг другу слово не знать, не видеть людей Боны и Гамрата, не есть, не пить вместе с ними.
При прощании слов не хватало, их заменили слёзы.
Только когда Август сел на коня, а Елизавета перекрестила уезжающего крестом с реликвиями, она обратилась к Холзелиновне:
– Кэтхен, что-то мне из глубины сердца говорит, будто слышу некий голос, что я его больше не увижу.
Воспитательница не дала ей говорить, используя то же средство, что обычно, когда очень боялась; тогда она грозно и сурово вставала и вынуждала Елизавету замолчать.
Начала её упрекать, что была Богу неблагодарна, который поднял её после тяжёлой болезни для жизни, что ныне чувствовала себя лучше, чем когда-либо, а мнимостью отравляла себе жизнь и уничтожала здоровье. Елизавета должна была замолчать.
Письма от мужа с дороги приходили часто.
Молодой король ехал беспокойный, зная, что его ждало в Кракове, потому что он должен был вести открытую войну с матерью, а настроение Боны отражалось на короле Сигизмунде, на всех, кто составлял двор, почти во всём том населении, с которым он должен был контактировать.
Ни для кого из придворных Августа не было тайной это положение и его требования. Молодой король умел вдохновить к себе такую любовь окружающих, что не было ни одного, который бы с запалом не готовился к войне.
Те подлые пасквили против Августа, против невинной королевы, распущенные новости, коварные сплетни и придуманные сказки доводили до безумия двор, в котором догадывались о предателях.
У них речь была о чести верных слуг. Август также ехал с сильным решением дать почувствовать матери, что ей приписывал преследование и принимал его к сердцу. Как бы специально готовились к торжественному приёму короля в Кракове. Дни были тёплые, старый король приказал отнести его в костёл, вышла Бона с дочками, и хотя Гамрат убежал из Кракова, духовенство для приветствия будущего государя нашлось.
Сигизмунд Август должен был подчиниться церемониалу и в присутствии света показать себя как послушный и любящий родителей сын. Бона даже в костёле и в присутствии Бога не приняла лживого облика; она приняла сына насупленная, гордая, прикусив губы. Два двора стояли напротив друг друга так грозно, молчаливо, будто бы собирались кинуться друг на друга.
Согласно распоряжению молодого пана, он должен был занять жильё на рынке, дом для него был готов, но отец Сигизмунд это не разрешил. Бона хотела, чтобы он был в замке. Август должен был послушаться отца. Тем более страшным было это сближение в присутствии старца этих двух явно враждебных дворов.
Сразу в первый день за общим маршалковским столом, когда начали пить за здоровье, одни вставали, другие выливали вино. Однако молодой король сразу сурово наказал, чтобы из его окружения никто первым не дал повода к столкновению. Бона и её люди также были осторожны. Взаимно обходились молча, оскорбляя друг друга глазами и бросая вызов. Один на один с матерью он ни разу не остался, она тоже не вызывала к этому. Старый король усердно расспрашивал о невестке, ему говорили, что она чувствует себя лучше и что кланялась в его ноги и передавала привет.
Август не хотел там остаться надолго, и тут же начались подсчёт, взвешивание и написание гарантий и расписок. Но нашлись формальности, не хватало бумаг, точно специально оттягивали окончание и отъезд обратно в Литву.
Сначала король от Елизаветы почти каждый день получал письма. Писала она, доносили урядники о здоровье королевы и не было никаких тревожных вестей.
С дьявольской злорадством Бона каждый день при старом короле спрашивала сына:
– Как чувствует себя королева? У вас были новости?
В её голосе была насмешка и как бы предсказание несчастья, ожидание его.
В конце концов уставший Август отвечал матери только невнятным бормотанием, а Сигизмунд Старый поднял уставшие глаза на Бону, но упрекать её не смел; разве можно было упрекать её за заботу о здоровье снохи?
Пребывание Сигизмунда Августа уже подходило к концу, говорили об отъезде, когда из Вильна внезапно перестали приходить письма и приезжать послы. Поначалу это не поразило, не пробудило беспокойства, но после нескольких дней молчания молодой король начал тревожиться.
Мать всё время преследовала его тем издевательским вопросом, на который, теперь она это хорошо знала, не получит ответа, потому что она также имела своих слуг в Литве.
Сигизмунд Старый проявил беспокойство и уже хотел посылать в Вильно. Но тогда потребовалось бы около двенадцати дней, чтобы был ответ, а письма каждую минуту были ожидаемы.
Среди двора молодого короля всё более очевидное беспокойство переродилось в подозрение, что Бона перехватывала письма. Некоторые рвались ехать, чтобы привезти новости. Август молчал, пытаясь справиться со своим беспокойством, какое его охватывало.
Однажды, когда Бона, стоя рядом с Сигизмундом, вновь бросила тот издевательский вопрос сыну, Август, выведенный из себя, забормотал:
– Ваше величество, вы так же, как я, знаете, что у нас нет новостей из Литвы.
– Мне было это неизвестно, – ответила Бона холодно.
Поздним вечером Август сидел в своих покоях в небольшом окружении урядников и старых знакомых, когда на пороге появился, избегающий теперь молодого государя, Опалинский и с таинственным выражением лица объявил ему, что королева-мать просила его к себе.
В этом приглашении было что-то такое чрезвычайное, грозное, непонятное, что в первую минуту Август заколебался, быть ли ему послушным.
Но Бона в глазах людей всегда была его матерью, её нужно было уважать. Не говоря ничего, он встал и пошёл за Опалинским, который, довольно долго идя с королём, не промолвил ни слова, а Август, чувствуя в нём неприятеля, разговаривать с ним не хотел.
На пороге комнат старой королевы Опалинский исчез.
Бона не сидела, как обычно, на своём кресле, выстеленном и приподнятом наподобие трона.
Нахмуренные брови напрасно старались сделать это лицо мрачным – губы искривила ироничная усмешка. Так смеяться мог только палач, глядя на свою жертву, лежащую в путах у его ног.
Август приблизился. Бона, словно для того, чтобы продлить минуты неопределённости и тревоги, молчала; она была похожа на збира, который думает, как можно глубже погрузить стилет в грудь приговорённого.
– Вы велели мне прийти, – простонал сын.
– Да, я хотела вам усладить печальную новость, какая из уст матери не покажется такой горькой, потому что эти уста заранее её предсказывали. Королева Елизавета, жена ваша, умерла.
Август стоял как вкопанный, смертельная бледность покрыла его лицо, не мог найти слов. Было это новое коварство, заслонённая безжалостной насмешкой.
Много времени потребовалось королю, прежде чем он смог ответить:
– Меня сурово коснулась рука Божья!
Бона приблизилась, желая, пользуясь минутой, завязать разговор и рассчитывая на сломленное сердце сына, но Август не хотел допустить, чтобы она упивалась его отчаянием и своей победой.
Он склонил голову.
– Ваше величество, – сказал он, – вы сократили ей жизнь.
Он живо ушёл и, услышав только крик за собой, побежал к своим. Но уже в коридорах его окружили придворные – прибыл гонец из Литвы. Один из них упал королю в ноги и, обнимая их, воскликнул:
– Королева! Наша королева…
– Мы молимся за её душу, – мужественно ответил Сигизмунд Август, – или, скорее, просим, чтобы она заступилась за нас перед Богом. Мученица умерла!
* * *
Именно в то время, когда Сигизмунд Август был в Кракове, на улицах города стали видеть молчаливого человека, в рваной и облезшей епанче, который, ни с кем не говоря, медленно ходил под домами, заходил в костёлы, появлялся на рынке, блуждал, словно не знал, что делать.
Некоторые, присматриваясь к нему, вспоминали какие-то знакомые черты, которые раньше видели.
Он не знал и не узнавал никого.
Однажды один из придворных королевы Боны, близко к нему подойдя и заглянув в глаза, схватил его за руку и воскликнул:
– Дудич!
Но незнакомец вырвался и не хотел с ним говорить.
Другие потом, выслеживая, узнали в нём также очень несчастного и наполовину безумного Петрка. О нём и о жене давно никто ничего не слышал.
Когда придворные объявили о нём королеве, она велела привести его к ней в замок.
– Что случилось с твоей женой? – спросила Бона.
– Я в этом невиновен! – забормотал Дудич.
– Где она?
– Наверное, в аду, – ответил Дудич.
– Умерла?
– Она всегда носила стилет у пояса, я ни в чём не виноват, – сказал Дудич.
И больше от него было трудно добиться.
Соседи Петрка рассказали, что её похоронили со стилетом в груди и окостенелой рукой на нём. Жить не хотела.
Дрезден 1883 – 4
Конец.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.