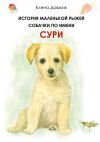Текст книги "Далеко от неба"

Автор книги: Александр Косенков
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
– Не беднись. А то я не знаю, какие кобели к тебе шастают.
– Дурной. У нас сейчас доброго кобеля сыскать, легче вовсе о них понятия не иметь.
– Вот и не имей. Узнаю – в землю живой закопаю.
– Ты мне еще не муж, чтобы ответ невесть за что спрашивать. Лучше об деле думай, а то я еще кого сговорю. Или сама в тайгу подамся. Такой случай раз в тыщу лет бывает, а он все решить не может. В последний раз спрашиваю – пойдешь?
– Сколь, говоришь, принесть обещал?
– По прикидке не меньше чем два пуда. Старики рассказывают – целых сто казаков его везли, да так и сгинули бесследно. А Кешка, видать, отыскал. Он в тайге, как в родной избе, с закрытыми глазами наскрозь пройдет и не спотыкнется.
– Я за эти годы не меньше его вокруг здешних елок пошастал. Не ты, вовсе бы одичал.
Юрка разглядел, как мужик сделал попытку притянуть мать к себе. Та уперлась руками ему в грудь и, оглянувшись в сторону Юркиной коморки, что-то торопливо неразборчиво зашептала. Юрка испуганно присел, словно она могла его разглядеть, шмыгнул в постель и уже не разобрал последующих слов, не укараулил ухода ночного гостя.
Подаваться тайком добывать пальников теперь явно не годилось – мать наверняка заснет еще нескоро. Судя по шагам, подошла к окну, долго стояла там. Потом села у стола, уставилась на почти погасший огонек лампы. Зашебутись он, начни собираться – поймет, что слышал их разговор, который, несмотря на непонятность, сильно его напугал. Мать, в отношениях с которой все было понятно и неколебимо, вдруг оказалась повязанной какой-то неизвестной ему жизнью, в которой возник невесть откуда среди ночи страшный мужик, имевший на нее какие-то свои права и с которым они затеяли опасное и страшное дело, а затем собирались куда-то уехать. О Юрке они даже не упомянули, то ли позабыв, то ли собираясь оставить на ошалевшую от старости бабку Дарью, которая нянчилась с ним, когда он был еще полным несмышленышем, путающимся в соплях постоянной простуды. Мысль эта так его напугала, что он чуть не кинулся к матери упрашивать, чтобы не уезжала и не оставляла его на произвол судьбы в такое время, которого даже взрослые пугались, называя окаянным, посланным на испытание и смертный напряг, выжить после которого, как неразборчиво прошамкала все та же ненавистная ему бабка Дарья, дано будет «лишь Богом да молитвой душу укрепившим».
– Родитель твой по неразумию и злому наущению иконы топором порубал, вот и дождал огня небесного. Не стерпел Архистратиг на такое непотребство, проявил кару на умом убогого.
– Сама убогая! Дура! – отбежав на всякий случай в сторону, кричал Юрка. – Батяню не архангел твой, а кулаки сожгли. За то, что он с ними беспощадно боролся.
– Кулаки… – продолжала ворчать бабка. – Сроду у нас никаких кулаков не водилось. Заведения такого не было. Непутевые, те, точно, спокон не переводились. Кто от работы бежит, на том черт сидит. Отколь все пути нечестивые? От чертей. Он и тебя уже за пятку ухватил, к себе тянет. Вон какой грязнущий, вонючий, хвост крысиный. А как разживется маленько, послухает, как ты бабку обзываешь, поглядишь, какой гладкий станет. Заберется тебе на плечи заместо ангела-хранителя – до самой смерти понукать станет. Захочешь согнать, а он уже внутри тебя сидит, табачищем дымит и водку хлещет…
Бабка была из староверов и умом, как считалось, слегка тронутая. Особо после того, как в дальней таежной деревушке их старца на глазах всего невеликого населения, павшего на колени и истово молящего о защите, в своей торопливой и неудачной погоне за какой-то бандой, походя расстреляли красноармейцы, обозленные большими потерями в недавней стычке с преследуемыми. Почтя неудачу молитвы наказанием за собственные грехи, двуперстники и без того растерявшие в последние, антихристом захваченные годы, две трети своего мужского состава, резонно решили, что следующее появление в их обители новой власти лишит жизни или свободы и последнюю их малость, разом снялись с насиженного за без малого сотню лет места и подались кто куда, надеясь уже не на спасение души, а хотя бы на возможный уберег своих тихих от страха малолеток. А бабка Дарья с той поры заместо страха перед возможной погибелью, вовсе перестала ее бояться, и все, что ни приходило ей в голову по поводу случавшихся поблизости и даже в столичном отдалении событий, тут же высказывала вслух с обязательным предсказанием неминуемой гибели всем, кто, по ее разумению, поступал «не по справедливости и не по-божески». Поначалу ее стращали неминуемостью самой суровой кары, но, видя, что она не унимается и не обращает на угрозы ни малейшего внимания, махнули рукой, списав идеологическое зловредство старухи на прогрессирующее слабоумие на почве всеобщего, тоже стремительно прогрессирующего, в стране атеизма.
Юркина мать приходилась бабке Дарье какой-то дальней родней по матери и, несмотря на то что работала счетоводом в самом райкоме, от сомнительного родства открещиваться не стала и даже помогла обустроиться в полуразрушенном бараке сезонников, где та стала числиться и сторожихой, и уборщицей, и даже истопником на время осенне-зимнего проживания по государственной надобности кочующего народа.
Юрка же бабку побаивался и не любил. Она не потакала ни его малолетству, ни его безотцовщине, за которую некоторые взрослые его показательно жалели, то поглаживая по голове, то насыпая в карман горсть каленых кедровых орехов. Бабка же, напротив, то и дело поминая ругательными словам бесов и прочую захватившую власть нечисть, ворчала, что не жалеть надо несмышленыша, не баловать его лишним куском и поглаживанием вихров, а сызмальства готовить к суровым испытаниям и лишениям, которые неизбежно грядут в расплату за неверие и творящиеся на каждом шагу непотребства.
– Он-то в чем виноватый? – не выдержала однажды мать после одного из монологов ругательницы, на что та, ни минуты не задумавшись, ответила: – Мы к худшему, а Бог к лучшему. Наши грехи все одно уже не простятся, а ему, за напрасные страдания от нас же и перепавшие, может, послабление какое-нибудь выпадет. Ему за отцов грех ко всему готовым быть следует. Недаром невинно убиенный старец мне каждую ночь является и пальцем грозит – меня не сумели уберечь, и сами не убережетесь, всему корню вашему великие мучения предстоят…
Мать, не дослушав, махнула рукой и ушла, а Юрка, подумав, запустил в бабку комом твердой земли, который, пролетев мимо, угодил в стоявшее на крыльце ведро с чистой водой. Даже не оглянувшись, бабка сказала: – Сам и выпьешь злобу свою на истину глаголющих. Не будет нам пути в царство Божие, пока окаянство свое не осознаем.
Представив, что он навсегда останется жить с бабкой без материной помощи и защиты, Юрка в тоске и страхе, уткнувшись в жесткую подушку, тихонько взвыл. От безнадежного вытья стало только хуже, и он уже собрался подняться и пойти упрашивать мать, чтобы она забрала его с собой. Даже на чужого мужика он был согласен и на другую незнакомую жизнь неведомо где, лишь бы не неприкаянное сиротство рядом с ненавистной бабкой. Неожиданно он услышал, что мать поднялась и заходила по горнице, одеваясь, судя по всему, для дальней дороги. «Все! Соберется сейчас и уедет!» – решил он. Одеваться в такую рань с какой-то другой целью, по его запутавшемуся от испуга разумению, мать не могла. Не было на его памяти таких примеров. И причины никакой другой не соображалось. Если бы была, она его, как у них велось, обязательно предупредила. Она всегда предупреждала, что задержится на работе или уйдет из дома пораньше, когда надо было поехать на прииск, в соседний колхоз, а то еще куда-нибудь по своим служебным надобностям. То, что на этот раз она ни слова ему не сказала о своем возможном раннем исчезновении, показалось ему самым верным доказательством того, что, выйдя из дома, она больше в него не вернется. А когда она надела старую отцовскую куртку, перешитую из солдатской шинели, подпоясалась отцовским же широким солдатским ремнем, надвинула на самые глаза почти новую отцовскую кепку, которую обещала отдать Юрке, когда тот подрастет, сомнений у него никаких больше не осталось. Мать уходила навсегда. Сняла с вешалки за шкафом ружье, с которым он собирался податься за пальниками, выгребла из берестяного короба с охотничьими припасами горсть патронов, давным-давно заряженных картечью на случай нечаянной встречи с крупным зверем. И только он окончательно решил сорваться, уцепиться за мать, не пустить ее, заплакать, уговорить не бросать его, не уезжать, мать торопливо вышла. Потом он услышал, как в дверях повернулся ключ. Мать заперла его, чего никогда не делала раньше. Это ее решение окончательно убедило Юрку, что он брошен и даже лишен возможности побежать следом. Как ни странно, именно это придало ему решимости. Торопливо одевшись, он легко, как не раз проделывал раньше, отогнул два гвоздя и, выставив маленькое окно в своей каморке, спрыгнул на мокрую от росы траву. Минуя калитку, сквозь знакомую щель в заборе выбрался на улицу, в самом конце которой, едва видная в наползающем от реки утреннем тумане, удалялась фигура матери.
Он не знал еще тогда, что это был день, который Иннокентий Рудых назвал секретарю как последний срок своего возвращения с золотом.
* * *
Угадать, с какой стороны и какой дорогой Иннокентий вернется в поселок, было не так уж и трудно, если хорошо знать здешние места. Сразу исключалась дорога, ведущая в город. Она десятками километров тянулась вдоль реки, и свороты от нее были только на давно заброшенные леспромхозовцами многочисленные лесосеки, упиравшиеся в круто горбатившиеся сопки, за которыми тайга начинала сходить на нет островками чахлого мелколесья и кочкарниками прежде непроходимых, а теперь полувысохших болот. В эту сторону ни охотники, никакой другой народ, кроме как на заготовку дров в пределах проезжих для телег и саней просек, не ходили, и ожидать здесь кого-либо, кроме раз в неделю возвращавшихся из города поселковых пассажиров, замученно покачивающихся в кузове разбитой полуторки, не приходилось.
Вторая дорога вела на север, к старому, едва дышащему на ладан прииску. Но в ту сторону дальше самого прииска и вовсе не было резону подаваться, настолько безжизненно и непроходимо было тамошнее предгорье, изуродованное многочисленными распадками, ручьями, каменными осыпями и отвалами на несколько раз перемытой старателями породы. Каждый решившийся направиться к поселку с этой стороны, поневоле не миновал бы полумертвый прииск, где оказался бы под прицелом нескольких десятков сощуренных подозрительностью и затаенной злобой глаз. Даже с тощей котомкой, а не то чтобы с тяжелыми, притороченными к седлу сумками, не стоило оказываться на виду у приисковой шпаны, скрывающейся от неизбежной мобилизации в замаскированных вдоль отвалов землянках и изнывающей от голодухи и отсутствия спиртного, начисто исчезнувшего из обихода с самых первых дней войны. Ни за что не стал бы Иннокентий возвращаться этой дорогой.
Третья же, некогда ухоженная, а теперь заброшенная и полузаросшая дорога вела к деревне Чикой, несколько лет назад окончательно вычеркнутой из списка живых из-за полного отсутствия переселенных в Якутию обитателей. Большие, темные, на века рубленные из кедра и лиственницы избы привольно расположились на крутом речном берегу и слепо пялились выбитыми окнами в густо всползающую на заречные сопки тайгу. Власти несколько раз пытались поселить в опустевшей деревне поселковых охотников и работяг с хиреющего прииска, но никто из них так и не прижился – не то боялись возвращения прежних хозяев, не то, скорее всего, не надеялись справиться с трудной здешней землицей, ломать и холить которую было под силу лишь прежним хозяевам, с большими и яростно работящими семьями. Выстоять без лада и силы в семье здесь нечего было даже и пытаться. Тем более людям случайным, больше надеющимся на фарт и таежную добычу, чем на собственные силы и уверенную укорененность в дедами и прадедами выбранном на Земле месте…
Когда мать, миновав последние по их улице дома, свернула к картофельному полю, а потом пошла через него наискось к заброшенному кладбищу, вплотную к которому высились штабеля заготовленного еще в прошлом году, но так и не вывезенного леса, Юрка догадался, что она коротким путем спешит на старую просеку, которой до Чикоя чуть больше трех километров – намного меньше, ежели добираться дорогой. За Чикоем через болотистую луговину тянулись только охотничьи тропы в тайгу, разбежавшиеся по ухожьям на многие десятки километров, вплоть до дальнего хребта, неприступно синевшего в едва доступном глазу отдалении. Пойти сюда мать могла, только догоняя человека, недавно покинувшего их дом – никакой другой причины Юрке в голову не приходило. Значит, окончательно надумала податься с ним неведомо куда. Поняв это, Юрка припустил следом, тем более что мать уже совсем затерялась за штабелями бревен.
Туман, ближе к реке стал густым и вязким, росная высокая трава, цепляясь за ноги, мешала бежать. Выбившись скоро из сил, он, всхлипывая, побрел навстречу тускло прорезавшемуся сквозь туман солнцу. Шел долго, и когда совсем уже потерял надежду догнать затерявшуюся в невидимом из-за тумана пространстве мать, где-то впереди раздался выстрел.
Вздрогнув, Юрка остановился. И почти сразу услышал еще два выстрела, а вслед за ними женский надрывный крик, сразу оборвавшийся, словно кричавшей зажали рот или ей самой не хватило дыхания довести до конца тоскливую, полную ужаса и боли ноту. Юрка сразу понял, что кричала мать, хотя голос был совсем не похож на ее обычно спокойный низкий голос. Похолодев от ужаса, он хотел кинуться назад, но ослабевшие ноги не захотели сдвинуть с места разом обессилившее тело. Замер, вслушиваясь в окружающие звуки. Невыносимая тишина, навалившаяся за криком, напугала его сильнее, чем выстрелы. Она таила в себе неведомую опасность, и в любой момент эта опасность могла обрушиться на него. И тогда он побежал. Но не назад, как поступили бы на его месте многие, а вперед. Впереди была мать, которая его защитит и спасет, как это не раз происходило раньше. Он всегда был неколебимо уверен в ее силе и способности найти выход из самого безвыходного положения. Даже сейчас ее оборвавшийся крик показался ему не беспомощным и жалким, а яростным предвестием отчаянного сопротивления. Мать была сильным человеком, которого не могли сломать самые тяжкие обстоятельства. Он не раз слышал это от других, да и сам догадывался, что так оно и есть. Мать никогда не кричала на него, не повышала голос, не плакала, когда случалось что-нибудь особо неприятное с ним или с нею. Говорят – сам он этого не помнил – что когда она узнала о страшной смерти отца, то только побелела, как полотно. Но ни крика, ни слезинки от нее так и не дождались. Сказала тихо: «Узнаю кто – убью». И все поверили, что так оно и будет…
Неожиданно Юрка выскочил из полосы тумана на яркий солнечный свет и совсем близко увидел черные вымершие избы Чикоя. Просека выходила здесь на старую дорогу, которая чуть поодаль заканчивалась у обрывистого берега. Раньше тут был перевоз, и дорога полого спускалась по мощенным закаменевшей лиственницей сходням к самой реке. Сходни, лишившиеся ухода, позапрошлогодним половодьем окончательно смыло, берег год от года осыпался, подбираясь глинистым откосом к самой дороге. С места, где остановился Юрка, чтобы добраться до первой околичной избы, надо было спуститься с обрыва к самой воде, а затем снова карабкаться наверх либо перебираться через довольно глубокий овраг, неожиданно появившийся несколько лет назад. По дну его, год от года набирая силу, торопился ручей. Овраг окончательно отрезал заброшенную деревню от дороги, ведущей в поселок. Как с оглядкой перешептывались знающие люди, ручей и овраг появились неспроста – чьи-то руки лет десять назад безошибочно вскрыли в подскальном уступе притаившийся ключ, и освободившаяся вода, обежав острый клин кедрача на самом краю деревни, устремившись к реке, быстро проложила глубокое русло, которое несколько весенних половодий превратили в овраг, отгородивший бывшее человеческое жилье от возможных посельщиков. Строить мост через неожиданное препятствие, а уж тем более прокладывать новую дорогу в обход никто в ближайшее время не собирался. А вот место для закрадки на выходивших из тайги к старой переправе лучше, чем в этом уже густо заросшим ежевичником, черемухой и бояркой овраге, поблизости точно не было. Как раз оттуда и услышал Юрка голос матери.
– А мне теперь, Иннокентий Степанович, всё одно: что ты меня застрелишь, что органам передашь. Разницы никакой. По мне, чем быстрей, тем лучшей. Маяты да тоски помене. Спихни нас с ним в реку, и поплывем мы, как мечталось, в далекие края. Один следок останется – круги на воде.
– Я тебя, Верка, за мужика поначалу принял. Так что извиняй, что оружие твое покалечил. И руку вон, кажись, прихватило… Давай, что ль, помогу? Завяжем чем…
– Ой, не смеши, Иннокентий Степанович. Верно, что вы, Рудые, вовсе дурные. Я тебя убивать собралась, а ты помощь оказывать. Чтобы мучилась, что ль, подольше? В живых оставишь, все равно в воду кинусь. Не жить мне теперь.
– Ну и дура, если разобраться. Из-за такой погани жизни себя лишать? И золото погань, и этот… Не знаешь, что ль, что он твоего мужика на заимке живым сжег? С дружками своими. Я его давно скараулить хотел, да все руки не доходили. А теперь видишь, как все сошлось? Не пресеки я его сейчас в порядке самозащиты, сколько еще душегубства в окрестностях могло произойти. Ты о золотишке ему доложила?
– Я. Застрели меня, Кеш, все легче.
– И про мужика своего знала, что он его?
– Знала. Выследить хотела и пристрелить, как собаку. А когда выследила – рука не поднялась. Лежит в своей норе весь в жару, бредит, дружки бросили – тиф. Ладно, думаю, сам подохнет, дня не проживет. И мне грех на душу не брать. Только и делов, что пить подала – просил очень. Захлебнулся, глаза открыл – синь небесная. Слова такие красивые говорил, каких я сроду ни от кого не слыхала. Потом уже все про его судьбу разузнала, все открыл. Не дай бог еще кому такую муку испытать, через какую он прошел. Вот и получилось – хотела убить, да разум потеряла…
– Дела. Как сажа бела.
Они надолго замолчали. Юрка подполз к краю обрыва и заглянул вниз.
У кустов боярки, сплошь усыпанных рдеющими ягодами, понуро стоял конь, лениво отмахиваясь хвостом от очнувшихся на солнечном тепле паутов. Неподалеку от весело журчавшего ручья, подмяв сломавшимся телом стебли ослепительно-желтой пижмы, лежал человек, в котором Юрка без колебаний опознал ночного гостя, хотя и не было на нем сейчас плаща с капюшоном, а длинные светлые волосы закрывали лицо. Рядом, зажимая пораненную руку, сидела мать, мертвыми остановившимися глазами глядя на темную речную воду, которая медленным водоворотом втягивала в себя солнечную воду ручья. Иннокентий Рудых сидел на выбеленном временем и водой стволе бывшего топляка. На коленях у него лежал карабин, у ног лежала большая черная собака – знаменитый на всю округу Малыш, за щенков от которого, не торгуясь, отдавали до десятка шкурок соболя. Юрка не сразу понял, что Малыша тоже застрелили, и только когда разглядел на песке смазанный кровавый след, догадался – умирающий пес полз к своему хозяину, чтобы умереть рядом с ним…
В реке тяжело плеснула какая-то рыба. Иннокентий посмотрел в ту сторону и медленно, словно нехотя, поднялся.
– Ну, чего, девка, делать будем? Задала ты мне со своим полюбовником задачу, легчей заново на белый свет появиться.
– Стреляй, Кеша, стреляй дурную бабу. Тебе, глядишь, еще и награду дадут.
– Застрелить, конечно, дело нехитрое. Можно и застрелить. Знала, на какое дело золото везу – жизни человеческие спасать. А вы на него желали только себе вдвоем легкую жизнь обустроить. За это застрелить очень даже можно. Вот об нем – сомневаться не сомневаюсь. Он себе такое окончание давно определил. Пути у него ни вперед, ни назад. Заполучи вы богатство, ты бы и дня не прожила. На кой ты ему нужна? Да еще с привеском. О пацанчике своем думала чего или так?
– Об нем и думала. Кто еще думать будет, кроме меня? Я его из нашей таежной тяготы и злобы силком вырвать хотела. Чего зря говорить – пропадать ему теперь. Не получилось у нас счастья. Правду говорили – заговорено Чикойское золото. Разве только таким, как ты, дурным и бескорыстным, в руки достанется. Только и тебе с него никакой радости. А то и того хужей…
– Чего замолчала? Излагай полностью. Около большого начальства находишься. Слыхала, что ль, чего?
– И слыхать ничего не надо. Ты хоть и простодырый, а соображать, что и как с твоего доброхотства получится, все равно должен. Думаешь, почему я на это дело решилась? Почему?! Потому, что все одно тебе не жить. Не мы, так любимая советская власть тебе уже могилку заготовила.
– Это за какие такие заслуги?
– Вправду, что ль, не кумекаешь?
– Охота от умного кого услыхать.
– Слушай, не жалко. – Голос матери неожиданно окреп, из него исчезла тоскливая безнадежность, зазвучали уверенность и злоба. – Не поверит тебе никто, что ты полностью клад свой Родине предоставил, себе ничего не заначил. По жилке будут вытягивать. До золотинки отдашь, все одно полной веры не будет. А тем, кому у нас в стране веры нет, – конец один. Так что вскорости на том свете с тобой повидаемся.
Устала я, Иннокентий Степанович. Ночь не спала, сюда бегом торопилась. Рука у тебя верная, стреляй, как и его, прямо в сердце. Одна к тебе просьба будет. Не сказывай никому, что и как тут у нас получилось. Сгинула и сгинула. Мало ли что в нашей местности приключиться может. А то Юрке моему вовсе жизни не будет. Пусть о нем теперь наше государство заботится, как о круглом сироте.
Подняв голову, мать с надеждой смотрела на поднявшегося Иннокентия. Тот глаз не отвел.
– Дивлюсь вашей бабьей решимости, когда дело до самого нутра доходит. Откуда только силы берутся. Непростое это дело – человека убить, а ты вот бегом побежала. Теперь сиротство своего мальчонки на меня повесить хочешь. А вот хрен тебе! Сама со своим отпрыском пырхайся. И с дурью своей сама разбирайся – я тебе не помощник. И еще запомни: кобеля своего я тебе до смерти не прощу. Это вам он пес, а мне друг верней не бывает. Мы с ним… Считай, не я, он золотишко сыскал…
Иннокентий дрогнул кадыком и опустил голову. Повисло тяжелое молчание, которое никому не хотелось прерывать. Наконец мать не выдержала:
– Как же мы с тобой, Кеша, проживать рядом будем? Я теперь, как на тебя гляну, о нем буду вспоминать. Оглянулся он на меня, а сам мертвый уже. В глазах синь в серый лед обернулась. Смерти ему эта оглядка стоила. Не хочу жить, не хочу!
– Переможешься. Ты баба крепкая, закваска у тебя староверская, душу зазаря губить не станешь. Тебе сейчас на ногах со всех сил держаться надо, не то и сама сгинешь, и мальчонку загубишь. А что от смерти меня уберегла – держи вот…
Он неспешно расстегнул старый, до белесости вытертый кожан, отвязал от пояса чем-то туго набитую и накрепко завязанную большую зимнюю кожаную рукавицу и бросил ее на колени непонимающе смотрящей на него женщины. Наконец она догадалась и здоровой рукой судорожно спихнула с колен тяжелый подарок. Иннокентий хмыкнул, и странное подобие улыбки тронуло его черные спекшиеся губы. Но глаза его по-прежнему смотрели на женщину с настороженным изучающим прищуром.
– Не окликни ты его, еще неизвестно, чем дело кончиться могло. Я, конечно, сторожился, когда сюда подходил. Малыш дал знать, что чужие поблизости…
– Крикнула, чтобы ты на меня оглянулся, внимание отвлечь. А ты и в меня, и в него успел.
– Не успел, если б не Малыш. Не выстрели ты в него, патрон на твоего хахаля тратить бы не пришлось. Лучше меня разобрался, кто из вас опаснее для меня был на тот момент. Он бы его враз на задницу посадил. И все бы тогда по справедливости получилось.
– По справедливости, Кеша, Бог рассудит, а у нас она у каждого своя. Он вот тоже о справедливости часто говорил. Что нет ее и быть не может. Я, дура, еще несогласная с ним была.
– Что несогласная, это, конечно… А насчет того, как меня власть встречать собирается, я и сам всю дорогу кумекал, башку сломал. Правильно говоришь – в покое не оставят, пока наизнанку не вывернут. Только меня выворачивать – зря время терять. Поздно мне на другой лад переделываться. Я что снутри, что снаружи лохматый и суковатый. Живу, не как начальство велит, а как дед говорил: «Меряйся не на закон, а на совесть. Закон люди придумали, а совесть Богом дана». Так что, пожалуй, погожу заразу эту на свет выпускать. Дурика я свалял. Не будет с него в настоящий момент никакой существенной пользы. А то и хуже чего случится, навроде сегодняшнего. Зараза она и есть зараза, особливо, когда поблизости ни совести, ни правды.
– Назад, что ль, повезешь? – с усталым безразличием спросила мать, отгоняя от головы убитого мух.
– А хоть бы и назад.
Иннокентий неожиданно улыбнулся, как человек наконец-то принявший очень важное для себя решение, и усталое, заросшее многодневной щетиной, диковатое лицо его высветилось добрым прищуром светло-серых глаз.
– Пущай лежит, где лежало, пока предельная в нем необходимость наступит. А это… – Он придвинул ногой к коленям женщины рукавицу с золотом. – Тебе на дальнейшее жизненное обустройство. Если пожелаешь, конечно. Не пожелаешь, пацану своему сбереги. Может, у него жизнь получшей, чем наша, сложится.
Иннокентий нагнулся, поднял убитого пса, донес до коня, прихватив поперек ремнем, пристроил кое-как на седле. Немного постоял, подумал, вернулся, забросил далеко в реку семейное шабалинское ружье с разбитым пулей ложем, забрал винтовку убитого, вскинул на плечо вместе со своим карабином, снова направился к коню, на полпути остановился, не оборачиваясь, сказал: – Воду не погань. Хватит сил – закопай, заступ в крайней избе за вереей имеется. Не хватит – так оставь, природа сама управится.
Конь, когда Иннокентий потянул его за повод и стал разворачивать в обратную от дома сторону, нехотя переступал ногами и усталым лиловым глазом обиженно косился на хозяина.
До излучины они уходили берегом, по самой кромке воды. Потом пологим, заросшим высыхающей полынью откосом поднялись на взгорье и навсегда скрылись из глаз.
Позднее погожее утро уже во всю заявило свои права на все видимое глазом пространство. Освободившаяся от тени прибрежных сопок река слепила солнечной рябью. Радуясь наступающему по-летнему жаркому дню, гомонила и пересвистывалась в кустах птичья мелочь. Гудела мошкара над подсыхающей от росы густой, уже слегка пожухлой травой. Потянувший вдоль реки несильный прохладный ветерок качнул в одной из недалеких изб покосившуюся створку ворот. Печальный протяжный скрип вспугнул сидевшую на верее ворону. Тяжело взмахивая крыльями, она с надрывным криком подалась было за реку, но, разглядев внизу, у самого устья ручья неподвижные людские фигуры, полукругом облетела место недавно разыгравшейся трагедии и уселась на ближайшую засохшую лиственницу. Оттуда было хорошо видно, как рыжеголовый мальчишка кубарем скатился с крутого глинистого обрыва и подбежал к сидевшей на земле женщине. Женщина испуганно подняла голову, долго непонимающе смотрела на стоявшего рядом сына, потом обхватила его руками, с силой прижала к себе и впервые на его памяти громко взахлеб зарыдала.
* * *
Старик Шабалин прервал рассказ и низко опустил голову. Не ожидал, что старые полустершиеся воспоминания так подействуют на него. Сглотнув застрявший в горле комок, он слепо зашарил рукой по столу, стараясь дотянуться до большой кружки с недопитым остывшим чаем. Домнич придвинул к нему кружку и спросил: – Не понял. Ушел тогда этот Исусик – и с концами?
– Как сквозь землю провалился, – не поднимая головы, пробормотал старик. – Искали подробнейшим образом. Исключительно искали. И свои, и чужие. Растворился бесследно.
– А золото, считаешь, на старое место положил? Туда, где оно и раньше находилось?
– Обязательно.
– С каких соображений такие маловероятные выводы?
– Мать сказала.
– Сказать, батец, что угодно можно. Насколько это соответствует действительности, вот в чем вопрос! От этого зависит – быть или не быть. Что, если старикашка, как правильно было сказано, растворился на бескрайних просторах Родины? Или за ее пределами, что тоже не исключается. Мы тут пупы надрываем, жизнью, можно сказать, рискуем. И что имеем в результате? Старая рукавица с тремя кэгэ, которую он вам подбросил, чтобы не трепались, что и как. Неплохой ходильник, между прочим.
– Какой он тебе старикашка? Сорока еще не было. Ну да. С девятьсот второго, я интересовался впоследствии. Мать золото не взяла. И правильно сделала. Такие волкодавы нагрянули… По запаху бы отыскали. Этому бедолаге мы с ней тогда с грехом пополам могилку сгоношили, а рукавичку она ему под голову приспособила. Я уж когда его забрал… Еле сыскал. Требовалось вам с Чикиным окончательный стимул обозначить, поскольку колебания начинались. Вот и навел тебя на след. Да только не совсем тот. Поостерегся. И правильно сделал. Надежа на тебя, как на сучонку во время течки, которая все в кусты норовит.
– Ладно, признаю ошибки. Даю торжественное обещание вперед не забегать, принимать к немедленному исполнению каждое ваше указание. Один только категорический вопрос, который так и не могу уяснить. На кой хрен тебе такое количество драгметалла? Накопления имеются, пенсия по высшему разряду, до смертинки три пердинки. По килограмму в день тратить, все равно в конечном итоге остаток зафиксируем. Гроб из золота заказывать собираешься?
– Можно и гроб. Только не мне и не из золота. Осина сгодится. Для тех, кто наше всеобщее состояние до нынешнего бардака довел. Как тогда Иннокентий сказал: «предельная необходимость когда наступит». Наступает, если не наступила уже.
– Не понял. Война, что ль, начинается?
– Начинается?! Она сколь уж лет идет. Пора и нам посильное участие в ней принимать.
– Опять не понял. Что имеется в виду?
– Что виднеется, то и имеется. Отыщем, тогда по серьезу поговорим. Не отыщем – готовь домовины для себя и своих ближайших помощников. Теперь так вопрос стоит. Осознаешь, тогда у меня вот какое предложение будет…
В дверь сильно постучали. Домнич и Шабалин сначала уставились друг на друга, потом одновременно повернулись к двери. Дверь распахнулась, ввалился запыхавшийся от спешки Шевчук. Пытаясь отдышаться, он некоторое время не мог произнести ни слова и только показывал рукой куда-то себе за спину.
– Неслабое, видать, сообщение, – отреагировал Домнич на состояние Шевчука. – Война, что ль, началась?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.