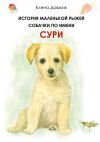Текст книги "Далеко от неба"

Автор книги: Александр Косенков
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
– Яшку, что ль, выручать наладились?
– Ну.
– Его в землю зарыть живым мало. Из-за его теперь пропадаем.
– И зароем, коли живыми отседа уйдем.
– Подыхать, что ль, здесь собрался?
– Подохни ты сперва, а я подожду.
– Может, правда, пущай выручают? Тогда и спросим как следовает.
– Ты, что ль, знаешь, как следовает?
– Без вожака на ровном месте спотыкнешься. А из тутошнего дальняка и вовсе в некуды упрешься.
– Ежели все же за казачками канать? Покуда либо мы, либо они.
– Так они тама, а мы тута.
– Робя, а давай ночью через шивёру? Много они в темноте нас положат?
– Сам-то в темени чего делать будешь? Друг друга потом не отыщем.
– Мечем атанду, робя! Окромя костлявой, ничего нам теперя там не отломится. Спасаться надоть.
– Верно гуторишь. На ту сторону подаваться – лучшей с лешаком целоваться.
– Лешак тебе за такое уважение обратну дорогу укажет.
– Тута без тунгусов и лешак не поможет. А они надысь еще посбежали, как только этот хребтик увидали. Только и слыхать было – шайтан да шайтан…
– Пускай за своим Яшкой поспешают, все ртов меньше будет. Лошадки казацкой на каждое едало всего ничего.
Голованов махнул своим: уходим, и его отряд, пятясь, а потом, развернувшись, бегом заспешил по берегу в обратную сторону.
– За смертью господа-товарищи побежали. Ишь, как торопятся, – хмыкнул им вслед заросший до самых глаз бородой верзила, первым вступивший в переговоры с Иваном Рудых. Судя по всему, к нему теперь поневоле переходила роль вожака оставшихся двух десятков растерявшихся до злобной истеричности бандитов.
– Нам теперь за ней в какую сторону подаваться?
– Чего за ней бежать? Сама тебя отыщет. На самом виду стоишь.
– Значится так… Кто за конягой пойдет? Заодно проверим – на крюк казачки берут, иль помытаримся еще в обратну сторону, – спросил верзила, одного за другим оглядывая подельников.
Кто опустил голову, кто взглядывал на соседа и торопливо отводил глаза, кто, словно примеряясь, косился на кипящую бурунами шиверу.
– Он хоть и верховой, обученный, а долго стоять не будет. Развернется к своим, погрызете тогда конинку на том свете, – продолжал увещевать новоявленный вожак.
– Эхма, – решился наконец стоявший около верзилы молодой парень, совсем недавно по дурости связавшийся с приисковой шпаной. – Что так помирать, что эдак. Позвольте рабу Божьему Никите за ради обчества пострадать. В случае чего не того вы это, значит, того самого… Помяните.
Скинул штаны и рубаху, перекрестясь, нагишом вошел в реку и стал боком, клонясь к течению, переходить шиверу. Добравшись до неподвижно стоявшего коня, тоскливо косившего на него погасшим глазом, подхватил свисавшую в воду узду и обнял коня за шею, словно благодарил за возможное спасение и за то, что покуда живой.
– Пошли, что ль, бедолага, – всхлипнув не то от подкативших слез, не то от холода, прошептал он на ухо коню и потянул за узду. Медленно, словно нехотя, они двинулись наискось через реку.
С высокого уступа, укрываясь за густыми ветвями стланика, подъесаул и Иван Рудых смотрели, как парень с конем приближаются к противоположному берегу.
– Как думаешь, не обманут?
– Куда им теперь деваться? – облегченно вздохнул Иван. – Вроде не вовсе дурные. Уйдут – нашим сигнал подать надо, что все сладилось.
– Орочон подаст. Он, что ль, их атамана уложил?
– Ну.
– Хунхузы меня беспокоят. Не наткнулись бы на наших.
– Они, ваше благородие, по увалу пошли, а наши вона где. Бог милостив, уберегутся. Место укрытистое, рядом пройдешь – не заметишь.
– Надеюсь, так и будет. На глазах их разбойное содружество развалилось. Теперь надо поскорее переправу от них очистить. А то еще вздумают на ночевку здесь остаться.
– Так это мы сейчас, ваше благородие. Понужнем, бегом побегут. Я на такой случай лучших стрелков на краю оставил. Дадим им сейчас знать, что от них требуется.
– Давай! Хорошо бы до темноты соединиться.
Иван поднялся во весь рост и, подавая условленный сигнал, дважды ухнул филином. Тотчас внизу из кустов раздалось несколько выстрелов.
Упали без звука двое стоявших у самой воды бандитов, взвыл и крутанулся с перебитой пулей рукой третий. Нырком скрылся за ближайший валун бородатый верзила. Остальные кинулись спасаться от выстрелов кто куда – за камни, за коряги, в ближний подлесок. Кто-то от неожиданности и злобы стал было отстреливаться, целя сам не зная куда.
– Уходим, робя, пока кощеи всех тут не положили! – хриплым, срывающимся от страха голосом закричал верзила. – У них винтовки, а у нас гладкостволки. До середки не стрелишь, зря припас изведешь. Ползи все в чапыгу!
– Канай, урла, покуда жопа цела! – пугая самого себя, бормотал, продираясь сквозь густой подлесок прибрежной тайги, примкнувший к шайке неудачник-старатель, только что мечтавший о ковше дармового спирта.
Берег опустел. Лишь так и не успевший ни обуться, ни надеть рубаху парень, да подраненный казацкий конь стояли у самой кромки воды, глядя на противоположный берег, на который один за другим с винтовками наперевес выходили казаки.
Ночью на том и на другом берегу по краям переправы полыхали костры, освещая мечущимся тревожным светом переправлявшийся через реку караван вьючных лошадей и охранявший их конвой.
Ротмистр, первым перебравшийся на противоположный берег, подошел к стоявшему у самой воды подъесаулу:
– Будем надеяться, Александр Вениаминович, что самый трудный этап нашего пути мы благополучно преодолели. И, кажется, слава богу, без особых потерь.
– Будем надеяться. Не будем только забывать, что впереди неведомое.
– Предпочитаю неведомое тому, что нам приуготовляли товарищи социалисты совместно со здешним разбойничьим сбродом. Очень символичное, между прочим, единение. Поверьте, любое неведомое не страшнее их ножей, револьверов и берданок.
– Как знать, Николай Александрович, как знать. Будем, конечно, надеяться на лучшее. Бог милостив.
– И Бог, и сам будь неплох. Честно говоря, руки чесались к вам примкнуть, лично пулю за пулей в их рожи… А это кто? Военнопленный? – разглядел он сидящего на корточках у ног понуро стоявшего коня парня.
– Просится Христом-Богом с нами. Мол, так и так погибать. Юнош, кажется, еще не до конца порченый. Коня вот жалеет. Не побежал со всеми, чтобы его не бросать.
– На кой он нам? Лишняя обуза.
– Пропадет.
– Вполне возможно. Нам-то что до этого? Вы же сами только что вещали, что «впереди неведомое». Самим бы живыми добраться.
Ротмистр подошел к парню.
– Отчего вместе со всеми в бега не подался? Со своими помирать веселее.
Парень, не поднимаясь, посмотрел на ротмистра снизу вверх усталыми непонимающими глазами и вдруг торопливо забормотал, объясняя: – Так ведь коняга сюда подался, к своим. Мне одному, что ль, оставаться? И там, и туточки живым не быть. Жалко стало.
– Кого жалко-то, себя или его?
– Так всех жалко, когда она за спиной.
– Кто «она»?
– А то не знаешь. Тунгусы сказывали, кто в энту сторону направится, тому и домовины не надобно. Ни следа, ни косточек не сыскать будет. По-ихнему, гиблое место тут. Такое гиблое, что и сказать нельзя.
– Вот и оставайся. Зачем на верную погибель с нами идти?
– Так кто ж знает? Тунгусы одно говорят, а Бог по-своему повернет.
– Веруешь в Бога?
– Что ж я, пес, что ль, какой?
– Пес, не пес, а заодно с волками каторжными нас убивать собирался.
– Так я поначалу без понятия. Дядька Игнат позвал. Вроде как на заработок. Конягу, говорит, купим, в извоз подадимся. А как послушал, поглянул, что деется, душа зашлась. И куда бежать незнамо.
– Дошло, значит?
– До потрохов.
– Зовут как?
– Меня, что ль?
– Тебя, тебя.
– Никита буду.
– Так вот, Никита, согласятся казачки тебя на кошт взять – за лошадьми присматривать, по походному хозяйству помогать и все такое, возражать не буду. Не согласятся – не обессудь. Сам тогда решение принимай. Хочешь, здесь оставайся, своих отыскивай, хочешь, следом за нами бреди.
Прислушивавшийся к их разговору Ильин подошел ближе.
– Если позволите, Николай Александрович, мне бы очень не помешал помощник. Поскольку дальнейшая местность абсолютно неизведанная, хотелось бы, хотя бы начерно, обозначить местную топографию. Затруднения наши день ото дня легче не становятся, казаков отвлекать не хочется, а совсем без помощника затруднительно.
Ротмистр внимательно посмотрел на мокрого по пояс после переправы Ильина, державшего за повод одну из нагруженных тяжелыми переметными сумками лошадей, перевел взгляд на вопросительно поднятое к нему лицо парня, оглянулся на темное пространство за спиной, скрывавшее их дальнейший путь, и устало махнул рукой: – Да ради бога, если от него хоть какой-нибудь толк будет.
К подъесаулу подбежал Иван Рудых.
– Ваше благородие, наши за увалом место для ночевки сыскали. Удобистое. Главное, отсель не видать будет. С берега лучше уходить, от греха. Вороги наши с перепугу всякое понятие потерять могут. Пуганая крыса по стенке побежит, ежели больше деваться некуды.
– С берега, конечно, надо уходить. Но двух-трех стрелков я бы оставил. Хотя бы до утра.
– Уже, ваше благородие. Извиняйте, что без приказу.
– Удобистое, говоришь, там место?
– В лучшем виде. И для лошадок луговинка имеется.
– Это хорошо. Отдохнуть после таких передряг просто необходимо. Люди устали.
– Есть маленько. Казачки шуткуют – своих чертей пулей и смекалкой разогнали, а от тутошней нечистой силы крестом оборонимся. В горах к небу ближе и окрест виднее. Передохнем и, помолясь, до места достигнем. А в случае какой крайности Богородица Оболацкая да Никола Святитель сгинуть без пользы нипочем не дадут. У нас у всех, ваше благородие, такое понятие: не только золото оберегаем, которое великими трудами добыто. О защите от окаянства радеем. Коли сейчас не уберечься, потом кровушкой захлебнемся.
– А ихний главный сказывал – «без крови правды не сыщешь», – неожиданно вмешался, словно очнувшийся от какого-то внутреннего потрясения, Никита.
– Сам-то как думаешь? – спросил ротмистр, глядя почему-то на Ильина.
– Где кровь безвинная, там антихрист взошел, – истово перекрестился парень.
– Так ты из двуперстников, что ли? – догадался ротмистр.
– Дед в строгости помёр, тятя на прииск подался, тоже вскорости сгинул, а я ни при ком остался. Сирота не сирота, а незнамо что. Навроде обсевка – куда ветром потянуло, туда и придуло.
– Экий ты несуразный, – недовольно поморщился Иван Рудых. – С виду детина хоть куда, а ни выправки, ни основы. Правда, что обсевок. Надежи на тебя мало.
– Молод еще, вот и запутался в жизни, – вступился за парня Ильин. – Как, пойдешь ко мне в помощники или здесь останешься?
Парень торопливо поднялся на ноги.
– Видать, так на роду написано. Не живи как хочется, а живи как можется.
Он подхватил за узду неподвижно стоявшего коня и с готовностью повернулся к Ильину.
– Пошли, что ль?
– Слышь, беспоповец, – окликнул его Иван Рудых. – Выходишь коня, про спотычку твою думать забудем. А дурное чего удумаешь, на корысть не рассчитывай. На первой же осине отдыхать пристроим.
– Смерть, дяденька, по грехам страшна, – обернулся на угрозу Никита. А все одно прежде веку помирать неохота, – обратился он уже к Ильину, шагавшему рядом.
– Раньше времени – это, конечно, несправедливо, – чему-то улыбаясь, согласился Ильин. – Лучше поберечься, если есть такая возможность.
– И сам поберегусь, и тебе подмогну в случае чего, – расплылся в улыбке парень. – А конягу я выхожу. Мне бы только травку одну сыскать да болячку его от мошки тряпицей обвязать. Может, у тебя какая неприглядная отыщется?..
Когда они скрылись в темноте, ротмистр устало опустился на ближний камень и покачал головой.
– Прост и глуп еще наш народишко. И от простоты своей на всякие соблазны податлив. Беспоповцы, хлысты, молокане, скопцы, анархисты, марксисты, кадеты, теософы, философы – каждой твари по паре. Всех перечислять язык устанет. Поневоле о конце света думать начнешь.
– Это уж вы, Николай Александрович, не по рангу замахнулись. До конца, мне кажется, еще далековато.
– Не скажите. Нутром чую, как всех их могучий инстинкт к неизбежному нашему всеобщему концу гонит.
– Что за инстинкт?
– Фарт!
– Что, что?
– Не ослышались. Всего-навсего фарт. Надежда на свалившееся с неба счастье. Причем свалиться оно должно на их головы вовсе не по трудам и заслугам. А, мол, придет некто, все объяснит и за руку поведет к лучшей жизни. Вот за это они и помереть не откажутся, на изуверства и душегубства всяческие очень даже легко сподвигнутся. Трудиться день ото дня ради лучшей доли – скучно. Разбойничать, воровать, водку пить и на фарт надеяться куда как веселее. Ненавижу сладенькие сказочки о народе-богоносце, о якобы великой нашей народной мудрости и таланте. Где она эта мудрость? Где таланты? Грязь, скотство, темнота, жадность, звериная зависть к тем немногим, кто своими трудами хоть как-то пытается разорвать эту паутину невежества и лени. Так вот всю Россию за этот свой фарт в распыл пустят. Правильно ваш Иван говорит: «Кровью умоемся».
– Он еще и так говорит: «А мы на что?»
– Так ведь на каждую дурь нас не хватит. Если к каждому вахлаку по казаку, то и тогда мира не будет.
– С чего этот неожиданный пессимизм, Николай Александрович?
– Сам не знаю. К предчувствиям не склонен, но на душе почему-то в последнее время весьма гадостно. То ли от всех этих передряг, то ли от мест здешних мысли всякие… Заметили, какое тут небо по ночам?
Они одновременно подняли головы.
Узкая полоса неба над долиной реки, открытая взгляду лишь в ограниченном пространстве между круто всползающих вверх скалистых берегов на огромной высоте, особо ощутимой со дна речной щели, неожиданно высветилась сполохами переливающегося серебристого света, напоминающего полосы невесомых перистых облаков, которые то погасали, то снова появлялись, меняя форму и расположение относительно друг друга. И странно было, что этот высокий и, казалось бы, вполне внятный свет, отчетливо видимый глазом, у самой земли не справлялся с окрестной густой темью июньской ночи, так что, если не смотреть вверх, был совершенно не ощутим и незаметен. Даже на поверхности реки, пропавшей из виду после того, как казаки торопливо затоптали костры, не отразилось это волшебное стратосферное сияние, похожее скорее не на свет, а на память света, которая случается, если долго лежать в темноте с закрытыми глазами, обманывая себя возможностью никак не наступающего сна.
– Удивительно, – сказал после долгого созерцания необычного явления подъесаул. – Никогда не видел ничего подобного. Напоминает и полярное сияние, и серебристые облака. Но совершенно ясно, что это не то и не другое.
– Прошлой ночью было то же самое. Все спали, кроме часовых и моего орочона. Он первый увидел и показал мне на небо. Стал объяснять, что верхний и нижний мир хотят соединиться, и если этому не помешать, будет большая беда.
– Он считает, что этому можно как-то помешать?
– Сказал, надо убить свой страх.
– Но мы-то, кажется, не из трусливых.
– Вот-вот, я тоже ему об этом.
– А он?
– Сказал, что страх обязательно будет, и тогда его надо убить. Я правильно говорю, Оро?
Орочон бесшумно появился из темноты и согласно наклонил голову.
– Правильно говоришь.
– Считаешь, что нас подстерегает опасность?
– Никто не знает. Надо скоро идти в горы, начальника. Горы к верхнему миру близко. Огонь с нижнего мира часто бывает, с верхнего совсем мало бывает.
– Не очень верю в твои пророчества, но поспешать действительно стоит. Слишком много времени мы потеряли. Ротмистр, напомните, какое сегодня число?
– Двадцать седьмое июня.
– Вот видите. По расчетам, мы должны уже были выйти в междуречье, а не прошли еще и половины.
– Слава богу, что хоть это преодолели. Здесь часто бывает такое небо, Оро?
– Никогда не бывает.
– По-твоему, что-то должно случиться?
– Уже случилось, однако.
– Что случилось?
– Никогда такое небо не бывает.
Немыслимая небесная высь, словно подтверждая неуверенные слова орочона, полыхнула пульсирующими дымчатыми разводами и вдруг разом погасла, словно кто-то неведомый задернул плотный занавес между ней и ослепшей, испуганно притихшей землей. От реки потянуло знобкой сырой прохладой. Привязанные поодаль кони нетерпеливо вытягивали шеи, настороженно прислушиваясь к ночным звукам. Страшный предсмертный крик донесся с того берега и, незаконченный, оборвался, словно кричавшему зажали рот или полоснули ножом по горлу, окончательно обрывая земное существование заблудившейся грешной души.
– Что я вам говорил, – остановился, прислушиваясь, ротмистр.
– Вы о чем?
– О Страшном суде. Ежели суждено, то начало ему у нас. То есть непременно у нас, в России. За грехи наши. Прошлые, настоящие и будущие.
– Простите великодушно, не разделяю. Это у вас от усталости. Возможно, окружающая местность тоже каким-то образом причастна. Ощущается в ней, знаете ли, нечто. Так и тянет перекреститься.
– Перекреститься? Почему бы нет.
Ротмистр остановился и снова посмотрел на небо. Потом по-военному четко и размашисто перекрестился.
Отвязав коней и ведя их в поводу, они неторопливо пошли по только что проложенной тропе, обозначенной свежесломанными ветками.
– Подождал бы еще лет десять – пятнадцать, – неожиданно сказал ротмистр.
– Кто?
– Господь.
– Что вы имеете в виду?
– Впрочем, полагаю, не он нам Страшный суд, а мы сами. Себе. И будет он пострашнее его всадников Апокалипсиса. Безжалостней. Бог грешников судить будет, а тут в первую очередь лучшие из лучших сгинут.
– Отвечу вам, Николай Александрович, по-нашему, по-казацки: воспрепятствуем этому всеми своими силами. И ныне, и присно, и во веки веков.
– Не опоздать бы, – пробормотал себе под нос ротмистр.
* * *
На другой день от реки круто повернули к югу, а еще через день, обойдя по отрогу обширное болото, вышли вплотную к подножью гольцов, неровная цепь которых, судя по всему, была лишь нижней ступенькой безымянного хребта, круто отгородившего в направлении движения видимый горизонт. За хребтом, преодолеть который предстояло через неведомый перевал, предполагался спуск в обширную и тоже еще неведомую долину, миновав которую и преодолев еще один подпиравший долину с юга хребет, рассчитывали наконец выйти в верховья Угрюма, где могли уже встретиться редкие малолюдные улусы лесных бурят. А там и до Читы рукой подать – всего несколько дневных переходов.
Ротмистр на последнем биваке, сторожась, чтобы не услышали казаки, рассказал подъесаулу, как два года назад они допрашивали пойманного у самого прииска Сухой Лог беглого каторжника, неведомо как сумевшего из верховий Угрюма добраться до первого человеческого жилья, встреченного им на тысячекилометровом пути через неведомое, до сих пор ни на каких картах не обозначенное пространство. В выцветших глазах каторжника метался огонек притаившегося безумия. Он, не переставая, крестился и на все вопросы отвечал, задыхаясь:
– Бог спас, милостивцы, Бог спас, не допустил до погибели…
– Раз каторжник прошел, то и казаку путь не заказан, – усмехнулся подъесаул, но потом надолго и хмуро задумался, глядя в сторону заснеженных вершин, четко рисовавшихся на фоне полыхавшего ярким тревожным закатом неба.
Разговор этот случайно услыхал прикорнувший за стволом ближнего кедра Никита. Парень, не оставляя с трудом бредущего за отрядом коня, часто надолго отставал, но к привалу или ночевке, хоть и с немалой задержкой, объявлялся. Молча устраивался в стороне от остальных и с жадным любопытством приглядывался к походному быту, прислушивался к разговорам. Ильин подзывал его к общей трапезе, но парень на первых порах явно побаивался прямого общения с казаками и оставленную ему еду, стесняясь посторонних взглядов, старался незаметно съесть, хоронясь то за грудой камней, то за огромным стволом кедра, который на каменистом взгорье, почти лишенном почвы, вымахал почему-то редкостным великаном.
Услышав слова ротмистра, Никита несколько раз испуганно перекрестился.
– Чего крестишься, паря? Спугался чего, или душа из потемок выхода ищет? – остановился проходивший мимо Иван Рудых. – А может, замышляешь чего недоброе?
– Грех вам, дяденька, напраслину возводить, – обиделся Никита. – На меня тоже чертовы лапти надеты. Незнамо кто путь нам правит, кто следом идет. Одна надежа на Божью защиту.
– Молиться опосля будешь, когда места достигнем. А на тутошний момент, коли не брешешь, что в травах смысл понимаешь, глянь, как Пашке Тыжнову облегчение оказать. Нехристь из твоих дружков бывших ножичком его маленько достал. Вчера похужело, а нонче лихоманит, спасу нет. Как бы огнивица не вступила.
Никита мигом вскочил на ноги.
– Чего сразу-то знать не дали? Поздно бы теперь не было. Тут поверху и травы почти не осталось. Смолы разве со стланика набрать? Она гноище сразу на себя потянет…
Придерживая парня за плечо, Иван повел его к сидевшим полукругом казакам. Проводив их взглядом, ротмистр повернулся к начальнику отряда, закрывшему в полудреме глаза.
– Надеюсь, обратили внимание, Александр Вениаминович, какое нынешней полуночью действо в заоблачных высях продолжалось? Прямо-таки ангелы светозарные крылами своими вдоль и поперек вздымали. Право, не подыщу иного сравнения. Вы, кажется, тоже не спали. Да и на всех прочих, я смотрю, бессонница навалилась. Среди казаков разговоры о знамении начались. Говорят, что к добру.
– Раз ангелы, конечно, к добру, – не открывая глаз, сонно пробормотал подъесаул.
– Поверю, если перевал не позже завтрашнего дня отыщем.
Но вот уже и следующий день перевалил за полдень, а движению отряда по одному из склонов глубокого ущелья, казалось, не будет конца.
Далеко внизу остался очередной безымянный ручей, взъерошенный до сплошной белизны стремительным, то и дело спотыкающимся об огромные камни движением воды. Гул его, умноженный эхом в скалистых стенах ущелья, даже высоко наверху заглушал все остальные звуки. Впрочем, люди не только ничего не слышали, но и ничего почти не видели вокруг. Рыжее облако комаров и мошки, густо и маетно качавшееся перед глазами у каждого, горько-соленый пот, выедающий до мутной расплывчатости встречные лучи вечернего солнца, обморочная тяжесть запредельной усталости ограничивали видимость лукой седла, вздрагивающей от укусов шеей лошади, крупом идущего впереди коня и темным силуэтом спины всадника – ближайшим и наиболее отчетливым ориентиром для того, кто продвигался следом. Снизу, от ручья, где поил коня отставший от отряда Никита, движение отряда вверх по склону было едва различимо, так замедленно, словно обессиленно-предсмертны были осторожные шаги лошадей, усталое покачивание казаков в седлах, и медленно, как во сне, возвращающиеся на место упругие ветви раздвигаемого стланика.
Неожиданно это размеренно-упорное движение отряда нарушил торопливо скатившийся сверху наперерез орочон. Он цепко ухватился за стремя ротмистра, ехавшего впереди за командиром отряда, и что-то стал объяснять, то и дело показывая короткой рукой вверх.
– Что там, ротмистр? – обернулся подъесаул.
Губы ротмистра дрогнули слабой улыбкой.
– Перевал!
Подъесаул привстал в стременах, повернулся к остановившемуся отряду и что-то неразборчиво крикнул. Казаки громко заговорили, жестко задергали поводья, словно сгоняли с себя и с лошадей оцепенение мучительного полусна. Некоторые из них направили лошадей прямо вверх, сквозь вязкую путаницу стланика. Лошади задышливо хрипели, почти стонали, но все торопливей и торопливей раздвигали израненными ногами гибкие смолистые ветви. Скоро весь отряд скрылся за каменным уступом.
Бескрайняя после недавней почти слепоты даль раскрылась наверху. Чистый ветер упруго ударил в распухшие от укусов, перемазанные дегтем, в потеках пота лица. Долгожданный перевал, в существование которого некоторые уже перестали верить, раскрыл перед ними далеко внизу широкую долину, наискось прорезанную извилистой лентой реки, растворяющейся неразличимо для глаз среди дрожащих от марева гор южного параллельного хребта.
Заснеженные вершины гольцов полукругом охватывали потухающую гладь небольшого горного озера. Развьюченные кони стояли у самой воды. В самом конце уже чуть видной внизу долины, за фантастическим нагромождением острых вершин дотлевал закат. А в тени огромных камней, рядом с которыми остановился на ночлег отряд, было почти темно. Пламя двух небольших костров освещало пристроившиеся вплотную к огню фигуры людей. Холодное дыхание до сих пор улежавшегося в расщелинах снега заставляло людей жаться ближе к теплу и зябко ежиться от неожиданных порывов блуждающего между скалами вечернего ветра. Казаки негромко переговаривались.
– Безо всякого сомнения, братцы, никакая другая нога в тутошних местах не бывала. Сколь шли, ни пенька, ни зарубки.
– Тунгус давеча верно говорил: все туточки береженное и заговоренное.
– Несешь незнамо что! Кто тут чего беречь будет? На сотни верст пустота одна.
– Не скажи. От той пустоты хужей, чем от не знаю чего. Маята такая, словно покойник в доме. Не сидится, не спится, ни кусок в горло не идет.
– Тебе, что ль, не идет? Я на погляд к коням обернулся, он уже ложку облизал и за голенище пристраивает. Всем бы так не шло, куда как с добром.
– Нервенность тут, конечно, какая-то обретается. Спать охота – спасу нет, а глаза закроешь – страх нападает. Незнамо чего боишься.
– Чего тут бояться, окромя своей глупости? С ею и от чужого чиха штаны обмочишь.
– Как хотите, служивые, – не выдержал наконец самый пожилой, с отчетливой сединой казак, – а я уже и хорунжему доложился – особенность у меня такая имеется. Ежели позади кто в спину глядит, живьем ощущаю. Безо всякого промаху. Сколь разов проверял, хмельным даже не ошибался. Обернусь, так и есть – глядит!
– Кто глядит-то?
– Да хоть кто. Окромя баб, разве и ежели кто безо всякого смыслу пялится. А со смыслом, так ажно в затылке чешется и по спине мураши.
– Ну и чего? Об этом, что ль, хорунжему докладал?
Никита, осторожно обмывавший ледяной водой рану лежавшего чуть в стороне от костра казака, насторожился, прислушиваясь.
– Докладал, что какой уже день по спине не мураши, а змеюки елозят. Сколь разов ни оборачивался, позади только этот обормот с конягой плетется. А он и прямо-то никогда не глядит, все по сторонам глазами швыркает. Опасается, что ль, кого? А, паря? Тебя мамка по малолетству случаем в лохань не роняла? Или родился такой, что о каждый сучок запнуться рад?
– Не скажи, дядька Кондрат. Ты-то не видал, а мы очень даже дивились, как он под наши пули за конягой полез. Мужичок очень даже занятный.
– И коняге, глазом видать, полегчало. Совсем уже пропащий был.
– А мы сейчас это дело и спроверим, – оживился пожилой казак. – Я к нему спиной поворочусь, а вы проследите, чтобы он глазом не шарил, прямо мне в затылок глядел.
Никита выпрямился и, бессильно опустив руки, глядя в сторону, тихо заговорил: – Я, дяденьки казаки, сам не образумлюсь, чего со мною за какие грехи сталось. Иду за вами, иду, а душа незнамо где со страху. Ране бывало помолишься – полегчает. А нынче перекрестишься, так ровно кто за руку назад тянет. Такой страх нападет, хоть криком кричи.
– Боишься-то кого? Нас, что ли?
– Никак нет. Я от вас никакого зла не поимел. Поотстать пуще смерти боюсь. ОН следом идет.
– Кто?
– Кто идет-то? – спросили сразу несколько казаков.
– Не знаю кто, только идет. Оглянуся – нет никого. Начну молитву читать – все одно не пущает.
– Куда не пущает?
– Несет хрень знает чего!
– Как не пущает-то?
– Душу не пущает. Она после креста очнуться должна. А оно давит и давит вот здеся. Сил уже никаких нету.
– Ты про душу попу своему двуперстому обскажешь, ежели живым до него добредешь, – почему-то еще больше озлобился на слова Никиты пожилой казак. – В спину мне гляди! Сюды вот! – Он ударил себя ладонью по шее. – Враз разберем, кто следом шарашится, а кто рядом стоит. Смотри, тебе сказано!
– Смотрю, дяденька, – покорно согласился Никита, уставившись на широкую спину казака.
Тот поерзал, устраиваясь поудобнее, и замер, словно прислушивался к чему-то. Чуть погодя дернул правым плечом и спросил: – Глядит?
– Как мышь на кота, – хохотнул кто-то из казаков.
К костру подошли давно прислушивавшиеся к разговору Ильин и Иван Рудых.
– Держалась кобыла за оглобли, да и упала, – с плохо скрытым торжеством повернулся к Никите затеявший испытание казак. – Ползают гадюки! Ажно холодно стало.
– Ползают, говоришь? – недобро прищурился Иван Рудых. – А ну, отворотись! Сиди, как сидел! Пусть он при нас теперь на тебя пялится. Для окончательного приговору. Только, чтобы ошибки какой не случилось, никто, окромя его одного, на тебя глядеть не должон. Все в сторону отвертайся! На коней глядите, чтоб не сбегли. Отвертайтесь, отвертайтесь!
Собравшиеся у костра, кто улыбаясь, кто хмурясь и похмыкивая, отвернулись от напрягшего широкую сутулую спину Кондрата. Отвернулись и Ильин с Иваном, только хорунжий, прежде чем отвернуться, натянул на самые глаза Никите свою фуражку и, обняв за плечи, развернул его вместе с собой.
– Ты, Кондрат, это самое… Покажилься хорошенько, чтобы ошибки не получилось. Пускай они подольше по тебе поелозят, мураши эти. Глядишь, все наше общество от неведомо чего уберегешь. Как они там, елозят?
Кондрат довольно долго молчал, словно проверял себя, потом медленно поднялся на ноги и повернулся к казакам, которые, сдерживая улыбки, смотрели на него во все глаза. Один лишь Никита по-прежнему стоял в нахлобученной на глаза фуражке. Осознав, что насчет парня у него вышла промашка, Кондрат растерянно стал поглаживать бороду, но потом, укрепившись в своих недавних ощущениях, решил все-таки настаивать на своем.
– Ты, паря, не серчай, что насчет тебя у меня соображение было. Только, сколько себя помню, ни разу еще в этом деле промаха не допускал. Выходит, кто-то другой пялился. Ровно на мушке держал, ажно шея вспотела.
– Это она у тебя с конфузу помокрела, – под дружный хохот выдвинул версию кто-то из казаков. – Мы все отворотясь сидели.
– Видать, не все.
– Все, Кондрат Степанович, как есть все. Чтобы без всяких сомнениев. Не одному тебе невесть что чудится.
– Ну. Прижмуришься, чтобы дремнуть хоть маленько, сразу хрень всякая в башку лезет. Сидишь потом, как филин, всю ночь глазами ворочаешь. А потом с недосыпу в седле качает.
– Тунгус наш давеча неспроста в костер соль, пшено, чай и еще чего-то по горстке покидал. Говорит, ихний Огды-Бог сердится, что мы сюда наладились. Очень даже просто пакость устроит, ежели соответствовать не будем.
– Чему соответствовать-то?
– Ну, видать, чтобы никакой обиды ему не случилось.
– У них свой Бог, у нас свой. Кому молиться, тому и пригодиться. Наш Николай-Угодник в обиду не даст, ежели что.
– Завели, как бабы на завалинке, – не выдержал Иван Рудых. – Вон, господин топограф объясняет, что от большой высоты разные головные переживания, а то и видения могут происходить. Мозгам воздуха не хватает, так они от этого вроде как сбиваются на разную чепуховину. Мы когда на Кавказе горцев тамошних замиряли, тоже чертовщины разной хватало. Особо, когда на вершинку какую повыше заберешься да к манерке для сугреву приложишься. Внизу облака, тучи, молнии другой раз под ногами полыхнут, а ты сидишь, вроде как ангел какой, сверху все это дело наблюдаешь. Словно летишь куда-то или сон дурной видишь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.