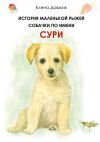Текст книги "Далеко от неба"

Автор книги: Александр Косенков
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
– Об чем и разговор, – подвел итог Семен. – Требуется сходу лишить инициативы. Хорошо бы гранату… Или дымовую завесу.
– Точно! – обрадовался Федор. – Счас сделаем. Помнишь, в прошлом году дымовые шашки от грызунов и насекомых распределяли? У меня штука в загашнике имеется. Мигом слётаю. Устроим выкуривание по всем пунктам инструкции. Ликвидируем заразу! Пока прочихается, мы ее сделаем.
– Не надо, – прохрипел позеленевший от переживаний Бондарь.
– Да ты не дрейфуй, все будет окейно. Накроем одеялкой и вынесем в противоположном направлении.
– Погоди… – придержал Бондарь дернувшегося к выходу Федора.
– Пасанул? Жалко стало?
– Одной дымушкой не уделаешь, две надо.
– Согласен! – поддержал Семен.
– А где я тебе две возьму, если всего одна? – задумался Федор.
Бондарь, перепрыгнув через бензиновую лужу, направился к буфету и, повозившись, извлек из его недр две дымовые шашки.
– Ни хрена они, бабы, в мужиках не разбираются, – прокомментировал его действия повеселевший Федор. – Не дом, а гастроном. Запасы на все случаи современной совместной жизни. А она еще задницу воротит. Зажралась, рыжая. Ну, мы тебя сейчас в сознание приведем… Будешь дровишки в другом месте заготовлять…
– Значитца так, – прервал его Семен. – Зажигаете. На раз, два, три – выбиваю дверь. Бросаете. Дверь закрываем, ждем. Через пять минут выносим потерявшее сознание тело, связываем и транспортируем в удобном направлении. Зажигаем!
Федор и Бондарь одновременно зажгли один спичку, другой зажигалку. У Бондаря шашка задымила сразу, у Федора заело. Он бросил почти догоревшую спичку на пол, чтобы зажечь новую, но разлитый бензин полыхнул так быстро и яростно, что мужики даже не успели отскочить в сторону. Пронзительно, по-заячьи заверещал Бондарь. Сбивая с себя пламя, кинулись к выходу братья. Бондарь, не переставая кричать, двумя невероятными прыжками преодолел пламя, покатился по полу, гася загоревшуюся куртку, выкатился в сени и распластался у самого порога, потеряв сознание. Мигом протрезвевший от страха и боли ожогов Семен, заметив его, вернулся в сени, поволок за ноги к выходу. Осознавший свою вину за поджог, Федор временно исчез в неизвестном направлении.
В доме во всю хозяйничал огонь. Проникнув по следу вылитого под дверь бензина, перебрался в спальню, где по-прежнему орудовала пилой еще не почуявшая беду Любаша. Запах дыма заставил ее оглянуться. По двери, всей ее шириной всползал вверх огонь. Комната быстро заполнялась дымом. Спасение оставалось только в одном – допилить венец и постараться пролезть в образовавшееся отверстие. Пискнув: «Ой, мамочка!» – Любаша лихорадочно продолжила прерванную работу. Пила выла на самой высокой ноте. Любаша тоже подвывала от страха, но за визгом пилы и гулом разгоравшегося пожара ее не было слышно…
Огонь вырвался наружу. С соседних дворов сбегались соседи. Откуда-то из темноты неожиданно с ведром воды появился Федор. Торопливо выплеснул воду на брата, тащившего подальше от дома все еще не очнувшегося Бондаря. Тому тоже досталось ледяной колодезной водички. Он очнулся и, приоткрыв рот, уставился на полыхавший дом. Осознав наконец случившееся, попытался встать на ноги и захрипел: – Любаша…
– Шандец твоей Любаше… Довыступалась… Скажи спасибо, сам живой… – придержал его наглотавшийся дыма, давившийся кашлем Семен.
– Баллоны… – снова прохрипел Бондарь.
– Какие баллоны? – услужливо наклонился к нему Федор.
– С газом… В сенях…
– И баллонам шандец. Сейчас рванет! – отбегая в темноту, крикнул Семен.
Рвануло.
* * *
Серуня, усилиями Аграфены Иннокентьевны отмытый и переодетый в старенькие джинсы и ковбойку Арсения, чинно сидел в кресле перед телевизором и внимательно смотрел программу «Спокойной ночи, малыши!». Когда малышам стали показывать очередную серию «Ну, погоди!», Серуня громко захохотал. Из соседней комнаты выглянула Аграфена Иннокентьевна.
– Гляди-ка – никак отошел? То с перепугу помирать собрался, теперь покатывается сидит.
– Так вся моя собственная жизнь, тетя Груня, точь-в-точь как у этого волчары – сплошные обломы. Куда ни подашься – по мордасам да по мордасам. Со стороны ухохочешься, а лично я очень даже сочувствую.
– Кому?
– Волку. Во, гляди, опять облом! Мы с ним, тетя Груня, хронические неудачники в окружающей жизни.
– Ну, завел свою пластинку! Не надоело еще плакаться? Мужик ты или кто? В кои веки поступил как полагается, вот и придерживайся теперь. Глядишь, все путем будет.
– Я, конечно, за одежку и пожрать исключительно благодарен. Сколь лет такого супчику не хлебал, и не помню. Только вопрос по-прежнему остается.
– Выпить, что ль?
– От выпить в моем теперешнем положении только полный придурок откажется. Но вопрос очень даже не тот. Я его давеча попу вашему поставил. Так он, знаешь что, советует? – Сам определяйся, какое направление жизни теперь выбирать. Я, конечно, к нему со всем уважением – мотоцикл водит, к покойнице согласился – только он это дело категорически неправильно понимает. Выбирать мне уже нечего, за меня выбрали. Дед по большим праздникам четверть за раз выпивал. Потом родитель, когда в пьяном виде меня с мамкой соображали. Потом, значит, вся последующая окружающая жизнь. У нас ведь как: пьяный ты – не человек, а трезвый – еще хужей, поскольку только под ногами мешаешься. Пьяному хоть потеплее маленько и мозги отшибает, а по трезвянке… Сколь раз уже завязать собирался.
– Вот и надо было.
– Я, тетя Груня, не с этим делом завязать. С этим – полный бесполезняк. Я в другом направлении. Был Серуня – нет Серуни. Пал в борьбе с собственным наследственным несовершенством. Один раз совсем уже решение принял. Веревку в гараже у мужиков втихаря позаимствовал. У них за каким-то хреном на ней коленвал висел.
– Это кто ж на веревку коленвал повесил? – весело вмешался в разговор вошедший в комнату Василий.
– Я и говорю – нарочно не придумаешь, – согласился Серуня. – Говорят, из-за ограниченности ремонтного пространства. А я из-за этой ограниченности чуть второй ноги не лишился.
– Каким образом? – поинтересовался Василий, подходя к зеркалу. Провел ладонью по двухдневной щетине на щеках, спросил у матери: – Мать, не в курсе, у Арсения насчет морду поскрести что-нибудь имеется?
– Вроде была какая-то трещалка, сейчас гляну. Куда на ночь-то глядя?
– Как говорил наш старлей, «регулярно приводить себя в порядок необходимо для самоуважения». А то зарос, как чечен в зеленке. Люди шарахаются.
– Они не от тебя шарахаются. Сами себя боятся. На каждого готовы кидаться, а от правды скрываться. Привыкли, что у нас тут небо в тумане, а земля в обмане. Зло привечают, а добра не замечают.
– Всех скопом-то не понужай, хорошенько приглядеться, такие еще люди-человеки отыщутся, ни в сказке сказать, ни пером описать. Забыла, как про Марью-царевну нам рассказывала? С самим Кощеем в два счета управились.
– Кому Маша, а кому Любаша.
– Не понял, мать. Ты об чем?
Аграфена Иннокентьевна только рукой махнула.
– Безоговорочно согласен насчет всеобщего нынешнего перепугу, – неожиданно вмешался Серуня. – Я когда с веревки этой долбаной навернулся в самом центре нашего районного захоронения, Корней Карабешкин, как назло, поблизости находился. Разглядел, значит, как я на карачках ползу, из-за покалеченности неудачным падением. Да еще веревка на шее, как у собаки, следом волочится. Врать не буду, на такущую сосну махом заскочил до самой верхушки. А оттуда уже потекло с него, считай, со всех дырок.
– Не надоест врать-то? – проворчала Аграфена Иннокентьевна и вышла в соседнюю комнату.
– Ни на граммуличку. Все как есть – чистая правда. Чистейшая.
– Так он не узнал тебя, что ли? – спросил Василий, во второй или третий раз поглядев на часы.
– Я бы и сам себя не узнал в тот самый момент. Вокруг темнота и, можно сказать, тишина. Хотя, врать не буду, луна маленько просвечивала в противоположном от меня направлении.
– Сзади, что ль?
– Зачем сзади? Сверху. А когда я его, Корнея, то есть, окликнул для помощи, заместо слов получилось сплошное ни хр…на не поймешь по причине частично поврежденного горла. Да еще в глине весь перемазанный. Из-за этой падлы гнилой в могилку заготовленную навернулся. Я ведь прямо над нею приспособился, чтобы без хлопот для остального живого населения. Еле потом с нее выбрался.
– Ну, ты даешь! – только и нашелся что сказать Василий и снова посмотрел на часы.
– А Корней чего ночью там делал? – спросила вернувшаяся Аграфена Иннокентьевна и протянула Василию электробритву.
– Так это… Проволоку из венков изымал для ремонта.
– Какого ремонта? – удивился Василий.
– Собственного неблагополучного материального положения, – витиевато объяснил Серуня и стал вытирать неожиданно навернувшиеся на глаза слезы. – Мы потом с Корнеем пузырь приговорили, с условием, чтобы никому об этом деле ни-ни.
– Вот и молчал бы, – в сердцах сказала Аграфена. – Нашел об чем рассказывать. Стыдно небось?
– Стыд от меня еще в неполной средней школе убежал. А Корнею теперь и вовсе не до того. Где кормился, там и пригодился.
– Это как? – спросил Василий, включая бритву.
– Весной еще помер. А чего ему еще оставалось? Ничего ему больше не оставалось, когда Артист участка лишил. Участок – двух белок за сезон не добудешь. Так и тот отнял. В целях, говорит, лекарственные травы разводить. А там, кроме свинячьего багульника и поганок, разводить нечего. Сплошная марь и сухомятина. На старой лесосеке и то больше добудешь.
– Один он, что ль, такой? – не выдержала Аграфена.
– Ясное дело, – согласился Серуня. – Только каждый по-своему сопротивление оказывает.
– Сопротивление? – не оборачиваясь, спросил Василий.
Серуня покосился на его спину, неуверенно пробормотал, словно убеждая самого себя: – А чего? Корней говорил, что несогласие – тоже форма сопротивления.
– С чем несогласие?
– С обстоятельствами окружающей жизни, которые лично от нас не зависят.
– Зачем тогда сюда пришел? Сам говоришь, с риском для жизни. Зависят, получается?
– Так ведь это… Нельзя, чтобы совсем без справедливости. Пусть теперь меня Кандей окончательно приговорит, зато потом, может, вспомнят, что я Сергей Афанасьевич, а не Серуня.
– И все?
– Мне хватит.
– Ну и дурак! – Василий выключил бритву. – Я бы на твоем месте, раз уж ты крест на себе поставил, подпер бы дверь, облил бы бензином все это гнездо гадючье и поджег к чертовой матери. Корней бы тебя на том свете добрым словом помянул.
– Будете смеяться, но несколько раз была такая идея. А где бензину взять? Это на год, не меньше, завязать надо, чтобы на канистру нахарчить. Легче веревку покрепче сыскать.
– Дам тебе канистру, так ты скажешь – спичек нет.
– Зачем? На спички отыщу.
В комнату ворвался потный, запыхавшийся Тельминов.
– Докладаю, – начал он с порога. – Артист со своим орденоносным тестюшкой вызвали дополнительную ударную силу. На своих, видать, никакой надежды, коллективно обкакались из-за последних событий. Так там такие волки прибыли, мать родную живьем закопают, не поморщатся. Батюшка где?
– В летник прикорнуть пошел. Зачем он тебе? – спросила Аграфена, не отводя глаз от окна, где пока еще смутно обозначились сполохи далекого пожара.
– Насчет «не убий» уточнить требуется. Они ведь нас убивать прибыли. На большом расстоянии, видать. Ну, я им навел маленько шороху для профилактики. С оглядкой теперь передвигаться будут.
– Я тебя о чем предупреждал? Не встревай, пока до главного не дошло. Им только лишний повод статью припаять, – не очень строго пожурил Михаила Василий.
– На мою статью десять ихних, и то мало будет. Тут еще такое дополнительное обстоятельство: неизвестный мужик в самый ответственный момент нарисовался. Я бы, конечно, и без него в обстановке сориентировался, но вижу – полное сочувствие проявляет.
– Что за мужик?
– Передал, чтобы завтра чуть свет ты у Рудых объявился. По причине и с целью – сам вроде знаешь.
– Ермаков, – догадался Василий. – Мать, одеколону какого не сыщешь? После бритья полагается.
Услышав про одеколон, встрепенулся заскучавший было Серуня.
– Одеколон после бритья на морду поменьше, вовнутрь – побольше. Дольше поддерживает интеллигентное состояние.
– Какое, какое состояние? – разглядел наконец Михаил утонувшего в кресле Серуню.
– Интеллигентное.
– С какого рожна интеллигентное-то?
– Так запах… Женский пол особенно «Серебристый ландыш» и «Белую сирень» уважает.
– То-то тебя этот пол за километр обходит, – не выдержала Аграфена Иннокентьевна.
– Так где ты, тетя Груня, у нас интеллигентный женский пол видала? А если Василий Михайлович одеколоном интересуется, то в этом доме он исключительно зарубежного производства. Чем пахнет, фиг разберешь. Сплошная отрыжка.
– Не твоя ли, Михаил Иванович, случаем работа? – спросила вдруг Аграфена, показав на окно, где уже вполне отчетливо обозначилось зарево пожара. – Горит где-то. Кажись, на нашем конце.
Все, кроме Серуни, подошли к окнам.
– Точно, на вашем, – с ходу согласился Тельминов. – Я когда сюда передвигался, не видать, не слыхать. Запаха тоже не ощущалось. Я это к чему? Если само, то когда еще раскочегарится до кондиции, а ежели кто поджег, то мигом.
– Ты об чем?
– А кого на вашем конце поджигать? Бондаря, что ль? И не Кларку Валькову – та сама кого хочешь подожжет.
– Типун тебе, – отмахнулась Аграфена, опускаясь на ближайший стул – ноги не держали.
– Вполне даже вероятно, – поддержал Михаила Серуня. – С целью подмануть на огонек. Где пожар, там и базар.
– Расчет на спонтанную реакцию, как говорил наш старлей, – задумчиво согласился Василий.
– Чего, чего? – не понял Серуня.
– Как два пальца, – стал объяснять Михаил. – Расчет, говорю, как два пальца. Кто прибежит, тот на мушке. Получается дуплет: и хозяина нет, и дома нет. Хреновая рифмочка! Соображаю – приезжие охоту начинают. На приманку словить хотят. Девяносто девять процентов домовладельцев в таком подобном случае обязательно нарисуются. И будут категорически неправы. Попрошу, Василий Михайлович, поиметь это в виду.
– Приезжие, говоришь?
– Вполне возможный вариант.
– Вот и познакомимся, кто такие крутые у нас объявились. Проведем рекогнесценировку на местности. Пока без вступления в непосредственный контакт. Гляну, что к чему, – и назад.
– Вась, а Вась, – подала голос Аграфена Иннокентьевна. – Мишка-то правильно советует. Поостеречься сейчас надо. Может, вовсе и не наш горит, а рядом где. Отсюда разве разберешь? В самый раз мне туда сбегать. Какая я баба, коли про пожар на своей улице знать не буду? Я там разом у соседок все вызнаю.
– Не исключено, что такой вариант они тоже прокрутили. Аграфена Иннокентьевна туда, они – сюда и нас за жопу: «По какому такому праву в чужом доме находитесь?»
– Все, мать! – решительно сказал Василий. – Мне так и так надо было сегодня домой наведаться. Сапоги забрать, еще кой-чего… Как в тайгу без сапог? Согласна? А тебе отсюда нельзя. Палыч на тебя доверенность оставил, вот и блюди. Мы тут по закону даже права находиться не имеем. Так что без вариантов – я за сапогами, а вы тут.
– Как говорил покойный Корней Карабешкин, «лучше хромать, чем сидеть, лучше маяться с похмела, чем совсем не маяться, лучше отказаться от закуси, чем от еще по десять капель», – неожиданно встрял в разговор Серуня, выбираясь из кресла.
Как ни странно, но все поняли его замысловато высказанное предложение.
– Ты бы лучше вообще не возникал, агент мирового алкоголизма! – нарочито сердитым голосом прикрикнул на него Михаил. – На тебя там первое подозрение будет.
– Какое такое? – удивился Серуня.
– Такое самое. – Михаил легким толчком в грудь усадил неожиданного добровольца на прежнее место. – Тебя в отмытом виде узнавать замучаются. Решат… Не знаю, что решат, но морду набьют запросто.
– За что?
– За то, что не узнают. За то, что на человека стал похож. Сиди здесь и не дыши. Ты теперь у нас главный свидетель, какая у них стратегия на ближайшее время и какой компромат у Артиста в его личном сейфе находится.
– Золото там у него находится.
– Золото тоже, если тебе со страху не приснилось. Когда все маленько устаканится, мы это дело еще обмозгуем. Устаканится, когда ничего не останется. Хреновенькая рифмочка. Устаканится, их не останется – лучше́й. А сапоги искать в данном конкретном случае против ветра ссать. Тоже рифмочка. Плохая примета, когда в рифму говорить начинаю. Либо Катька права качать начнет, либо вообще все наперекосяк. Давай лучше, я смотаюсь, а? Погляжу, соображу…
– А их кто защищать будет?
– Возражаю, – снова приподнялся со своего места Серуня. – Ежели что – присоединюсь всеми имеющимися силами. Прошу выдать соответствующее оружие.
– Чему соответствующее?
Одновременно с вопросом Михаил снова толчком вернул Серуню в кресло.
– Защите жизни и достоинства, – не растерялся Серуня.
– А… Держи тогда…
Михаил взял стоящую у камина кочергу и вручил ее Серуне.
– Мать, а что это Кармака давно не видать? – уже в дверях поинтересовался Василий. – Выпустила, что ль? Если да, то зря, судя по обстановке.
– Удержишь его, как же. Видать, хозяина почуял или из своих кого.
– Свои вроде все здесь.
– За Марью у меня чего-то душа изнылась. Глаза закрою – рядышком стоит, словно спросить о чем-то хочет. А чего сказать – не знаю. Где-то она сейчас, подраночек мой горемычный, красавица ненаглядная?
В стороне пожара отчетливо громыхнуло, и зарево сразу набрало силу.
* * *
Почувствовав во сне чей-то взгляд, отец Андрей вздрогнул и открыл глаза. Ощущение действительности обрелось не сразу – он все еще не привык к своему новому месту обитания, и после пробуждения необходимо было двух-трехсекундное усилие, для определения своего места среди незнакомых вещей и непривычного пространства. На то, чтобы узнать застывшую посреди комнаты и выжидательно смотревшую на него женщину, пришлось затратить значительно больше времени, но уверенности в полном узнавании так и не случилось, так была непохожа незнакомка на ту, столь же неожиданно и столь же неуместно появившуюся здесь несколько дней назад полупьяную и вызывающе-откровенную красавицу в сверкающем платье. Тогда про нее что-то рассказывал Олег. Кажется, что, несмотря на свой вид и поведение, она имеет какой-то там милицейский чин, что она жена здешнего директора коопзверпромхоза, с которым он сегодня наконец-то познакомился. Мелькнула даже дурацкая мысль – не связано ли ее появление с этим знакомством? Слишком уж явными были настороженность и неприязнь, с какими было встречено его появление в кабинете местного вершителя судеб и финансов. А она, кажется, влюблена в Арсения – во всяком случае, так ему показалось во время ее прошлого неожиданного посещения. И тогда же почему-то показалось, что никакая это не любовь, скорее придуманная защита, за которой не очень умело спасалась глубоко несчастная женщина, судьба которой складывалась совсем не так, как ей бы хотелось. В последующие дни среди множества стремительно сменяющих друг друга событий он совершенно забыл о ней и немудрено, что не узнал, а лишь неуверенно догадался, кем может быть оказавшаяся в летнике женщина, судя по всему, ожидающая его пробуждения.
Увидев, что отец Андрей наконец-то проснулся и внимательно приглядывается к ней, она устало опустилась на стоявший у стола стул и тихо сказала:
– Извините, Андрей Александрович. Мне очень нужно с вами поговорить.
Отец Андрей, час назад сморенный усталостью, прилег, не раздеваясь, и теперь сидел на кровати, суетливо размышляя – встать, сесть рядом с неожиданной гостьей или так и остаться сидеть, ожидая дальнейших ее слов. Надежда словно догадалась о его растерянности.
– Вы сидите, сидите… – И, с трудом справившись с непривычным ей словом, добавила: – …батюшка. Мне так тоже легче будет.
И надолго замолчала.
Отец Андрей внимательно смотрел на низко опустившую голову гостью. Чувствовалось, что она с трудом собирается с силами для предстоящего разговора. В широкой и длинной, явно не своей камуфляжной куртке, накинутой на милицейский китель, с гладко зачесанными и схваченными в тугой узел волосами, она сейчас ничуть не напоминала старавшуюся казаться веселой и независимой женщину, какой он увидел ее впервые. Горькие складки в уголках губ, чуть заметные лучики морщинок у глаз, безвольно лежащие на коленях руки подсказывали беду или сомнение в чем-то очень для нее важном и нужном. Догадываясь, что разговор с ним ей действительно необходим, он тихо сказал:
– Не стесняйтесь и не сомневайтесь. Если вам действительно нужно что-то сказать, это останется только между нами. Про Бога не говорю, потому что вы, кажется, в него не верите.
– Не знаю. Не задумывалась об этом. А сейчас вот думаю почему-то. Наверное, срок подошел.
– Какой срок?
– Понять, почему все так…
– Как?
– Не знаю. Неправильно. Все неправильно, все гадко, все страшно. Неужели так и должно быть?
– Смотря что вы имеете в виду. Но если гадко и страшно – не должно.
– Почему тогда ваш Бог это допускает?
– Бог не мой, а наш. Ваш тоже. И это не он, а мы допускаем, потому что вспоминаем о нем, только когда невмоготу становится. Вам сейчас очень плохо, он увидел это, привел вас сюда.
– Вы так считаете?
– Подумайте хорошенько и согласитесь, что так и есть.
– Не знаю, не знаю… Если честно, просто боюсь думать об этом.
Она резко подняла голову, смотрела измученными, полными слез глазами. Голос стал низким, срывающимся.
– Скажите, он жив? Я знаю, вы знаете, должны знать. Он жив? Или…
«Любит», – подумал он и тихо сказал: – Думаю, жив.
– Уверены?
– Уверен.
По щекам Надежды потекли слезы.
– Спасибо.
Отец Андрей поднялся, подошел, сел напротив, достал и протянул чистый носовой платок. Подождал, пока она вытрет слезы, спросил:
– Знаете, что их хотели убить?
– Знаю, – еле слышно выдохнула Надежда.
– За что?
– Думаете, у нас только «за что» убивают? Бывает, конечно. Только чаще ни за что. По пьянке, с тоски, со злости на всех и вся. А его за то, что он лучше всех. В тысячу раз лучше. За то, что не подлаживался к ним, за то, что не хапал, а отдавал. За то, что умный, за то, что сильный, за то, что красивый. За то, что меня в любовницы не захотел. Удивляетесь, да? Жалел, наверное. Или презирал… Вот так мы тут живем. И считаем, что все нормально, все так живут. А то и того хуже. Ненавижу! Жизнь эту ненавижу, себя ненавижу! Если бы они его убили, страшно подумать, что бы я с ними сделала.
– Значит, вы знаете, кто хотел его убить?
– Я ведь все-таки здешняя. Мент к тому же.
– Извините, что спрашиваю… Вы его любите?
– Не знаю.
Она опустила голову и надолго замолчала.
– Мне кажется, да. Иначе бы не пришли сюда.
– А может, я просто разузнать пришла, что и как? Они там трясутся сидят: «живой, не живой?» – планы строят. Вот и послали меня для уточнения. А насчет «люблю» – так во мне эту любовь еще вместе с девчачьей дурью вырвали и ноги об нее вытерли. Только, скорее всего, и не было ее во мне никогда. Читала недавно, что она вообще мало кому дается. Как талант – кого Бог выберет. Меня вот не выбрал.
– Выбрал. Очень даже выбрал. Вас эта любовь спасет, спасла уже. А вы его должны спасти. Обязательно должны.
– Почему я? Что случилось? Он в опасности, да? Говорите же – в опасности?
– Он в очень большой опасности.
– Что с ним? Где он?
– Я не знаю, где он. Знаю только, что он хочет мстить. Судя по тому, что уже произошло, мстить будет очень жестоко.
Надежда облегченно вздохнула.
– Как вы меня напугали. Мстить… Он имеет на это полное право. Есть люди, которые просто не должны жить. Станет легче дышать, если их не будет. Жить и дышать.
– А он? Сможет он после этого жить и дышать, как прежде?
– Что вы имеете в виду?
– Мне кажется, Арсений Павлович не из тех, кто с грехом смирится. Я имею в виду, со своим грехом.
– Каким? Каким грехом?! Защититься от того, кто тебя убить хочет? Это, батюшка, не грех, это спасение. Благое дело. За это даже закон не осуждает.
Не выдержав долгого ответного молчания отца Андрея, Надежда поднялась.
– Если хотите знать, я, кажется, тоже только что убила человека.
– Что вы такое говорите?
– И не буду жалеть об этом.
– Еще как будете! Если действительно убили. Поверьте мне, будете! Да нет, вы не могли.
– Смогла. Хотя, кажется, он еще жив. Я еще и поэтому к вам… Он обещал, что перед смертью все расскажет. А мне свидетель нужен. Чтобы я не одна слышала, что он скажет.
– Если, с его стороны, это исповедь… Если, с его стороны, это исповедь перед смертью, то я для вас не свидетель. Тайна исповеди – это свято.
– Глупости! Как вы не понимаете? Если он расскажет, Арсений узнает, кто и как. И если кто не виноват, он не тронет. Спасете того, кто не виноват. И Арсения от греха удержите. Разве это плохо? И Бог будет доволен. Идемте со мной. Он здесь, рядом. Я его в наш гараж. Где-где, а там его никто искать не будет. Я вас очень прошу, Андрей Александрович. Он может умереть, а у меня сейчас ни одного человека, которому можно довериться. Кроме вас. Арсений так хорошо о вас говорил. Вы ведь должны помогать ближнему. Может, его еще спасти можно. А если они узнают, тогда все. Он им сейчас самый опасный свидетель. Понимаете? А насчет исповеди, так он некрещеный. И в Бога не верит. Понимаете?
– Честно говоря, не очень. То вы его убили, потом оказывается, он живой. Теперь его еще кто-то хочет убить… Хорошо, хорошо, я пойду, – торопливо удержал он шагнувшую было к двери Надежду. – Обуюсь только. Никак выспаться не удается в вашей таежной глухомани, – продолжал он, надевая ботинки. – Надеялся на тишину, покой, свежий воздух…
Он выпрямился, потушил свет и, шагнув к двери, открыл ее. Зарево разгоревшегося пожара, завладело уже всей северной половиной неба. Дверь распахнулась прямо на это зарево. По поселку выли и надрывались в лае собаки, доносились крики людей, сигналили спешащие на пожар машины.
– Жалко, что ветра нет, – сказала остановившаяся рядом в дверях Надежда.
– О чем вы? – удивился отец Андрей.
– Чтобы все здесь сгорело. Дотла.
Отец Андрей внимательно посмотрел на нее. В широко раскрытых глазах Надежды вздрагивало отражение далекого пламени, губы кривила болезненная усмешка. Злоба, прозвучавшая в ее словах, почему-то показалась ему преувеличенной и неискренней.
– Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольная и невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в нощи, яже в уме и в помышлении, – тихо прошептал он молитву и перекрестился.
– Васькин дом подожгли, – уверенно сказала Надежда. – На их конце больше гореть некому.
– Подожгли?
– Ну да. Выживают. Или на огонек выманывают.
– Вы так спокойно говорите об этом…
– Все равно ему здесь не жить. Достанут рано или поздно. Скорее рано, – добавила она, помолчав. – Не сегодня, так завтра. И на то, что Герой, не посмотрят, злее только будут.
– А его-то за что? – не выдержал отец Андрей. – Гонят, бьют, стреляют, травят, как волка. Подожгли вот, говорите.
– Волк, вот и травят. Бояться не хочет, приманок сторонится. Знают, если на след верный выйдет, горло перегрызет, не задумается. Вот и защищаются как могут.
– Защищаются?
– Идемте, батюшка. А то помрет наш свидетель безо всякой пользы для правды.
– А вам нужна эта правда? – с неожиданной для самого себя резкостью спросил отец Андрей и снова посмотрел в глаза Надежде, отсвечивающие красным заревом пожара.
Не ответив, Надежда шагнула в сумрак надвигающейся ночи. Затворив за собой дверь, отец Андрей пошел следом.
* * *
Притаившиеся в кустах на задах огорода Пехтерь и двое его подельников проводили удивленными взглядами проходивших мимо Надежду и отца Андрея. Их силуэты отчетливо прочитались на фоне еще не совсем погасшего неба, подсвеченного заревом пожара. Когда фигуры проходивших растворились в темноте, пираты, как по команде, вопросительно уставились на вожака. Надежду они узнали, отца Андрея видели впервые. Пехтерь, прокачав ситуацию в понятном для себя направлении, удовлетворенно хмыкнул.
– Мужик киряет, баба времени не теряет. Она хоть и ментовка, а конкретно по жизни главное место тоже чешется. Короче, мы у них на крюке находились. Так? Теперь имеется возможность натяжку ослабить до полного ничего. Колян, мотай назад и толкани им эту парашу по полной. Пускай хлебают и меры принимают. Пока они это дело совместно прокашляют, мы тут кое-какой выясниловкой займемся, а потом ноги сделаем. Усек?
Колян растянул толстые губы в улыбке и согласно кивнул головой.
– Линяй. И в темпе.
Проводив взглядом выползающего на четвереньках из кустов Коляна, Пехтерь еще раз удовлетворенно хмыкнул.
– Вроде сломали масть. Завяжем с непрухой, другой расклад начнется. Соображаю, они нас сюда по своей личной понтяре направили. И огоньком там неспроста кого-то оприходовали. Для шухеру. Жопой чую, заварушка по самой серьезной статье завязалась, на вышак тянет.
– Куда? – спросил ничего не понявший Степка и, не дождавшись ответа, виновато переспросил: – Куда тянет?
– Туда, откуда нам мотать требуется в срочном порядке, – задумчиво резюмировал Пехтерь. И, подумав, добавил: – Выходить из штопора, пока они шнурковаться будут. Понял? Или ты у нас теперь окончательно вольтанутый, ни фига не петришь?
– Ну, – согласился окончательно выбитый из колеи понятливости вольтанутый Степка. – А Квадрат как же?
– Квадрат мне не сват и тебе не свояк. Если ему часы остановили, мы уже не помощники, а если свалил – уже не догонишь. Себе дороже о такие пеньки запинаться. Эти ждут, что мы тут шухер наведем, а они на готовое нарисуются. За трудных нас держат. Только мы тоже не дурнее пьяных ежиков. Так?
– Так, – согласился ничего не понимающий Степка, вдруг ощутивший почти непреодолимое желание «сделать отсюда ноги» и где-нибудь в тихом и надежном месте, как можно дальше от всех свалившихся на их голову событий, приговорить пожертвованную бутылку и в блаженной полупьяной расслабухе придавить до утра без обременительных для пострадавшей головы раздумий о том, как сложится их последующее существование. «Пехтерь в паханах, пусть он об этом и соображает».
– Что делать будем? – после непродолжительного молчания поинтересовался он у задумчиво уставившегося на зарево пожара Пехтеря.
– А ничего! – зло отозвался тот на резонный вопрос. – Майор с хозяином нас теперь так и так достанут. Или всю свою помойку на нас повесят, или подставят как сучню позорную. Я лучше снова на режимку поканаю, чем из-за их разборок в ящик сыграть. Так?
– Так чего делать-то? – забыв про необходимость не обнаруживать себя, плачущим голосом возопил Степка.
– Пальнем для отмазки по окнам и растворимся в разные стороны. Канай на дальний карьер, там стыканемся и додумаем, как полный абзац из этой местности сделать. В соседний район подаваться пора, пока не потухли окончательно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.