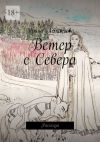Текст книги "Радуница"

Автор книги: Андрей Антипин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц)
VI
Недалеко от соснового колка, когда-то специально оставленного посреди поля, Гошка перевёл дух, словно внутреннюю стрелку, по которой двинулась бы его неважнецкая жизнь. Он спятился с дороги, когда из-за спины накатила, с шорохом разбрасывая камешки и играя музыку, тёмная иномарка. Спасибо, ушла не на кладбище, чего Гошка опасался, а поползла в гору, на городскую трассу. Всё же он оглянулся: не идут ли на кладбище машины? Но к этому времени все управились и, по подсчётам Гошки, никого на могилах быть не могло.
От этой догадки сделалось ясно и легко. Плыли облака да ветерок раздувал алым сигарету, рассыпая столбик пепла.
– Нынче я первый, кажется, – сказал Гошка вслух, имея в виду, что другая бродяжня отстала.
Как он и думал, кладбище под вечер опустело, снова стало тихим. Пестрели прутья оград. Лепетали старые и совсем ещё свежие траурные ленточки. С первых бугров Гошка согнал собак. Они прибежали раньше него и подчищали с тумбочек печенье и шоколадные конфеты прямо в обёртках, лачили кисель, разваливали хвостами поминальные рюмки. Гошка покидал в них сухими комьями земли:
– Пош-ш-ли! Пош-ш-шли! У-у, я в-в-ва-а-с-с! Хорошего волка на ва-ас нету!
Собаки отступили. Ощерились, низко нагнув зубастые морды. Но броситься на пропахшего табаком и водкой человека побрезговали.
Они покрались вдоль изгороди, следя с хрустом сглатываемой слюны, как человек, становясь на четвереньки, собирает котлеты и пироги и жадно пьёт из рюмок, перхая в надсадном кашле. Они доедали за ним шелуху яиц и колбасные шкурки. Брели поскуливающей сворой, нацелив морды не столько на человека, чьи ноги от оградки к оградке делались развязней, сколько на рюкзак, из которого пахло жратвой и жизнью…
А Гошке стало совсем хорошо. Не омрачали даже мысли о старике Уткине, который так же шастал по могилам, спал тут же, на кладбище, и однажды не проснулся.
Не замечая идущих по пятам собак, Гошка скитался по узким петлистым дорожкам, навещая всех подряд. Радовался, встречая забытые имена на жестяных табличках или обветшавших дощечках. Его удивляло, что он как ни в чём ни бывало ел, пил, спал, занимался чепухой, кручинился непонятно о чём, а в это же время под этим же небом одна за другой гасли жизни стариков Башаровых, Лёньки Борисова, Васьки Хромого, Гришки Иванова, Чебака, Мишки-батрака… Баб мыли Зойка-квашёнка и тётка Настя, а из этих мужиков многие прошли через его, Гошкины, руки! Многих он омыл, многих поскоблил станком и снарядил в последнюю дорогу – и они не должны быть на него в обиде.
– Светлая память, земеля! – И Гошка ронял из рюмки на бугорок несколько капель, считая их движением губ.
Пил, обхватив рюмку всей ладонью, далеко по стеклянному ободку оползая нижней губой.
На одной из могил, почему-то особенно расчувствовавшей ему, он даже покрестился, глядя на пасхальное яйцо, оклеенное изображением Христа. Его, впрочем, Гошка тут же и соскрёб, загвоздив ногти, а яйцо облупил и закатил в рот.
От рюмки к рюмке делаясь вдохновеннее, он вспомнил про куст боярышника и за много лет впервые пришёл к нему, повесил рюкзак на штакетник и пошатнул деревянную калитку. Она, как будто только этого и ждала, отскочила с перегнивших шарниров и беспомощно повисла у Гошки в руках.
В оградке Гошка упал на четыре кости и стал рвать горстями с двух одичавших холмиков траву, словно волосы на своей беспутной голове. Траву снёс на дорогу, затоптал в грязь. Налив из бутылки две рюмочки, накрыл блинками. Во рву за оградой хранился кладбищенский мусор и старое могильное убранство; можно было присмотреть что-нибудь подходящее для украшения погоста… И всё-таки Гошка посовестился ещё не познанным побором. А вот рюмки, конечно, всё равно размели бы собаки – и он, недолго гадая, осушил их, сглатывая водку вместе со слезами.
– Мамка и ты, батя: простите, если можете…
Плач был слепой, как грибной дождик, и скоро иссяк, сверкая на Гошкиных ресницах. Молчали надгробия. Молчал кладбищенский лес и скудная в этих местах, полная нездешней горечи трава. В небе белели облака. Сопки курились после дождя, отводимого, точно вышней дланью, от сельского кладбища, от маленького человека с простоволосой головой, который спал на земле, подогнув ноги, – преображённый, счастливый, уставший…
Он проснулся незадолго до сумерек оттого, что в головах кто-то страстно зачавкал.
– У-у, я в-в-вас! – зашевелился Гошка, ища рядом с собой камень либо тяжёлый сук. – У нищего украсть котомку?!
Рюкзак, сдёрнув со штакетника, выели до дна. Ладно, бутылку не тронули – и Гошка приложился из горла, соображая, куда податься. Он окинул мало-мало ожившим взором таблички, почуял неладное и подошёл ближе. С прищуром прочитал буковки и циферки под выцветшими фотографическими изображениями, ни одно не узнал и с предчувствием своей скорой гибели пошёл прочь, забыв вернуть на место калитку…
Неподалёку заиграла музыка. Гошка, хоронясь, потащился узнать, кто бы это мог быть. Ещё в прошлый раз он приметил на краю кладбища, над одним из свежих погребений, со стороны которого сейчас доносились голоса, дощатый грибок с двускатной крышей. Под грибком стояли лакированный столик с ножками крест-накрест и две узкие гладкие скамеечки. Гошка даже посидел за этим столиком, сметя рукавом сухие листья.
Музыка играла из машины с отпахнутой дверцей. За столиком расположились. Женщины, пытаясь заплакать, толкались у высокой мраморной плиты с выгравированным на ней седым стариком.
– Папа, спи спокойно! Не тревожь нас! – И, пригубив из рюмок, звали грубыми голосами: – Семён, Петя! Подходите, поминайте нашего папика!
Шли мужики. Красные и сальные, обступали с тупым равнодушием к чужой смерти и к смерти вообще чёрный камень и кости чужого человека под ним.
– Давай, батёк, за тебя! – плескали через края рюмок на могилу, на которой не росла трава, выжженная каким-то ядовитым зельем. «Это чтобы не полоть», – легко сообразил Гошка, а вот о том, хороша ли эта предусмотрительность, не знал, что и подумать.
Пока взрослые стояли спиной к столу, шкет с маленькими кабаньими глазками под мощными, как у боксёра, надбровными дугами воровато пил прямо из бутылок, почти не морщась и делая две-три затяжки из дымившихся в пепельнице сигарет: поминал деда.
Гошка повернулся уходить, но пузан с перебитым носом, державший на трассе заежку с баней и проститутками, вдруг закричал совсем рядом, за деревьями, с зажмуренными в диком блаженстве глазами мочась много и пенно между могил:
– Земли – пресс! Всем хватит!
От страха быть увиденным Гошка подшумел листвой, и Пузан его услышал. Долго пялился на Гошку, точно не понимая, кто это перед ним – человек или мертвец. Не сразу и узнал:
– А-а, это ты! Откуда взялся-то?!
Подумав, приказал, застёгивая на ходу распаряху:
– Ну-ка, иди за мной!
Как был с рюкзаком, надетым на одно плечо обеими лямками, так и приплёлся Гошка к столу.
– Шакалишь? – Пузан, уже устроившись в голове застолья, обнажил золотой фикс. Другие терпеливо ждали чего-то, буравили Гошку глазами. – А заработать хочешь?
– Как это? – подался Гошка вперёд, вообразив сдуру, что сейчас его посадят за стол и нальют из коробки заграничного вина, что краснее схаркиваемой им крови.
Мужики с пьяным сопением зашевелились, а бабы зафыркали в рюмки, обдувая через губу потные чёлки. Пацан, как надрессированная собака, обошёл Гошку со спины.
– А в рыло? – спокойно уточнил Пузан.
Гошка покрылся испариной даже в ямочках за коленками.
– Мне есть нечего, я второй день не ел…
– А меня это не тамо́жит! Ещё раз увижу здесь – самого зарою! Усёк? Ну-ка, Вадик, забаба́шь ему «вертушку»!
И Гошкины ноги в тот же миг подломились оттого, что сзади ловко ударили под колени, а едва он встал на четвереньки, ощупывая всего себя, – проводили под зад носком ботинка:
– Греби отсюда, чахотка!
VII
И когда Гошка плёлся с кладбища, от реки поднялся серый клуб пыли.
Он полетел, разрастаясь, дыбя в поле кучи соломы, осадил Гошку на полпути к дому, вобрал в себя – и замер, вертясь на одном месте, точно пытаясь пробурить дырку.
«Конец, как старику Уткину!» – ужаснулся Гошка, обеими руками схватив кепку.
Ничего не стряслось! Пыльный буран прошел, и жизнь не кончилась в Гошке – кончился хмель. Вырвались, как дымы над загоревшейся изнутри крышей, чёрные тучи. Нависли над жёлтым от сосен и вечернего солнца перелеском. На землю упала тень и стала дышать, как живая…
Шёл Гошка, перебирая в памяти неприятную встречу, то и дело воспламеняя спичку и утоляясь горьким дымом. И его всё не оставляло ощущение деятельного добра, которое при удачном раскладе он мог бы посвятить людям.
Рыжая телуха, расшатав башкой колышек, увязалась за Гошкой. Поволокла длинную, в три жилы, верёвку, примкнутую к стропяному ошейнику кованым вертлюгом.
Она нагнала его в лужку за крайней избой и требовательно поддела мордой под зад, а когда он в трепете оборотился, медленно отомкнула шевелящийся рот с несмолотой жвачкой между зубами. Замычала, заломив уши и затекая кончиком шершавого розового языка попеременно то в одну, то в другую влажную ноздрю.
– Но-о, пошла-а! Пош-шла-а-а! – замахнулся Гошка, но ударить по глазам не смог…
С весной старухи грелись на лавочках, вкопанных вдоль угора. Кутались в стёганки, чтобы не надуло от реки. Приметив Гошку с живым деревенским любопытством ко всякой душе, а не ради порожнего внимания к чужой одёже, заговорили разом:
– Ну, Георгич откуда-то шагает, пыль поднимает, сам весь в пыле! Садись, парень, к молодухам!
И Гошка не прошёл мимо. Примостился к старухам, но уже по-особенному – словно к уходящему селу, к его отмирающим старожилам, засыхающим, как речки, песням и горклому повседневному горю. Может быть, как на лавочку к самой отлетающей в небытиё прежней России. Вот-вот, как один за другим ушли обмытые Гошкой старики, сгинут и эти древние старухи с восковыми руками и мозглой простоквашей во взоре. Что станет без них на белом свете?..
Старухи не унывали. Сгуртовались плечом к плечу, дружным рядком на всю длину лавки, словно заслон смерти городя.
– Щас вертанулись с кланбища. Сгоняли на машинёшке в Каза́рки, музыку врубили на всею катушку. И сидят, жучат водяру, ребёнок с ними… Кто так поминат? – дорассказывала старуха покойного Аксёнова, похожая на выползшее из земли корневище. – А эта… явилась! Я ей слова не сказала, а она мине: уматывай, старуха, в свою берлогу. Мы, два медведя, в одной не уживёмся! Я собралась, ушла на угор. Тут сижу…
– Это матери-то?! Ну Райка, никого уважения! – возмущённо и вместе сострадательно покачала головой бабка Зина. – Я вот её увижу, я вот ей скажу: вот возьму, Райка, палку, да как охобатю, чтоб не изгалялась над матерью!
– О, слушай, брось это, а! Ничё ей даже не говри. Пройди лучче, будто не видишь. Она ишо хуже будет. Ей Таня тот раз сказала, когда меня Надька к себе забирала на ночь. Дак Райка пришла к Надьке, по башке ей наваляла да ишо стеклину вышибла камнем…
Бабка Таня, сложив руки на животе, косила одним – хмурым – глазом на подруг, другим – ждущим – на проулок.
– У меня Ваньки где-то нету! Клава пришла, позвала: иди, мама, помянём папу! А Ваньки нету. Тоже… придёт ночью. Начнёт холодильником хропать, ички в сковородку колоть. Я ему говрю: ты их, чё ли, брал, ички-то? Клава покупала мине! Ну-у, молчит…
Старухи знали, откуда вечером Родительского дня идёт Гошка с рюкзаком. И ни о чём таком не пытали. Замолчали, точно вспоминая, для чего поманили человека.
– Как, Георгич? От брата ничего нету? – вздохнув о своём, спросила старуха Аксёнова.
– Не знаю, – ответил Гошка вымученно и трезво.
– Дак ты не пишешь ему, чё ли?
– Адрес-то где?
– Сходи в совет. Я же тебе говрела, когда ты за картошками приходил! Возьми адрес. Там должно быть в бумагах. Оне же характеристику писали…
Гошка заскучал.
– Во, бляхара, родственники! – засмеялась бабка Таня, показав белые зубы, которые она чистила наслюнявленным пальцем, обваленным в печной золе. – Даже адрес не знают! Другие-то родичи есть у тебя?
Бабка Зина вступилась за Гошку:
– Родни-то везде, а чаю нигде не напьёсся! Правда, Георгич?
– Ехал бы к брату в дом престарелых, чё будешь болтаться. Совсем пропадёшь!
– Там тоже, поди, не сахар. Никто не поднесёт рюмашку! – доканывала бабка Таня, от которой сын, наверное, поэтому и сбежал.
– Да где! Ишо последнюю пенсию слупят. Посадят, как каторжного, на воду и сухари… Не езжай, Георгич. Ну её в гробину, тётку-чужбину! Здесь умирай. Легше будет…
– Вот, слушай старуху-то, Гошка. Она тебя наставит.
– Я почему на вред-то стану? Никому отродясь не вредила!
– Нет, я и говрю…
Гошка слушал и не слушал. Рассеянно ковырял в ладони, куда впилась маленькая шипи́чка.
Вышел на угор Царёв в меховой безрукавке, даже в этот день горластый и довольный всем. Царёв и на кладбище-то никогда не ездил. На похороны не ходил. Поминовение считал баловством.
– Чё, Гоха, стаканом трудовую мозоль нашаркал?
Старухи вежливо потеснились, высвобождая место рядом с Гошкой. Царёв пренебрёг таким соседством. Остался стоять.
На волосатой руке Царёва, подвешенный за ремешок, болтался казённый фотоаппарат, которым Царёв фиксировал всё по своей работе. Царёв нажал на кнопочку. В аппарате звякнуло. Засветилось. На экране, который Царёв приблизил к ослабшим глазам старух, горбился с босыми ногами на полу какой-то бедолага.
– Это кто такой?!
– Ва-а-анька Сухарёв! Бабу его повезли кесарить. А он, придурок, взял и удавился! Маманя его зво́нит: приезжай, сними его! А я только с бани. На хрен он мне нужен! Ну, пока обсох, пока Верке палку вставил, то да сё…
– И чё оне душатся-то? Уже сколь, считай, подушилось в этим году! Тот парень в Казарках. Потом Галина в дровянике…
– Сару считай!
– Сара в кресле задушилась. Но та старуха. Миша поднял на себя руки…
– Дураки потому что! – охотно объяснял Царёв, нажимая на кнопочку. Мановением его пальца бедолага на экране перемещался то под потолок, то под белую простыню.
Старухи отводила глаза, не хотели смотреть.
«Хорошего начальника нету! Он бы тебя, гад, пропесочил…» – Обиженный на шутку со стаканом, Гошка вскинулся уходить.
Слышал, холодея лопатками:
– Вот так у них язык выпадает…
– Душатся, дак конечно…
– Ас-фик-си-я называется. Вследствие сдавливания органов дыхания… Рвутся связки!
– О-хо-хо, горе горькое! Опустился народ хуже татарина!
Лёд гремел, осыпаясь длинными иглами в мутную тяжёлую воду. Буравил береговые камни. Избы, поворочённые ликом к реке, глядели промытыми от зимнего сна окошками с кое-где уцелевшими резными подрамниками. Низко над рекой носились тегающие утки. Ныряли подо льдины за рыбёшкой, а затем взмывали вверх, теряясь на тёмном контуре тайги. За островкой, в нагибаемом водой ольшанике, рвала воздух двустволка. И душа обмирала оттого, что в этот поминный день нарушаются чьи-то жизни. Потом пошёл мелкий дождь. Ветер поволок старые листья тополей, изрябил лужи да на голове Гошки вскудрил лохмы, замаслившиеся без бани…
Выпившие сельчане по старому обычаю наблюдали за ходом льда в Лене. Объединясь дворами, поминали своих за неструганными столиками, выстланными газетами. Ребятишки, по случаю праздника самоустранившиеся от школьных заданий, гомозились у разложенных под угором костров. На лохматом дыму жарили кусочки сала и хлеб, нанизав их на заострённые стебли краснотала.
Со всех сторон кричали Гошке:
– Здорово, Георгич! Куда стартанул?
– В Москву.
– А-а, ну давай. Устремись к этой высоте…
VIII
Конец весны и начало лета, против ожиданий, вышли холодными, ветреными. Гошка спал при закрытых окнах.
Печь он с вечера протапливал береговым хламом, однако к утру выдувало. Он набрасывал на себя овчиной наружу старый милицейский полушубок, с плеча кинутый ему Царёвым. И всё равно мёрз, как собака. Лежал с полыми глазами или курил, размазывая бычки о стоявшую под шконкой консервную банку.
Чуть свет по небу скользили золотистые, с синим дымом внутри, облака. Вспоминались детство, мамка с батей, брат Игнат…
Облака быстро темнели к ненастью, а из Гошкиных рук всё валилось, как на пропасть. К полудню начинало трясти рябину под окном. Брызгало мглистым дождём. Гошка катил через ограду ржавую бочку, которую на ночь для чего-то запирал в сарай, приспосабливал под обомшелый жёлоб, но настоящего ливня не было.
На западе раза три угрожающе громыхнуло, погнав частые гребни по реке. Наклонило лес и простёрло огненную тучу над востоком.
Ветром кое-где посшибало с крыш листы шифера. А когда буря затихла и высвободилось солнце, чутче обострилась в мире, в воздухе, разряженном майской грозой, победа света над тьмой, жизни над смертью…
И Гошка твёрдо решил одолеть этот год.
Сняло шифер и с его избы. Но крыть её он уже не стал, бросил гнить, мечтая, что кто-нибудь купит её под гараж. В конце мая, спасаясь от одиночества, он скочевал с манатками в чужой дом, к бездетным Иванковым.
Глазастая, прокуренная Тамарка с наполовину истреблённым спереди рядом мелких, как у мыши, зубов и бывший моряк Семён – жестокий улыбающийся мужик с принципами – имели руки без дела, а голову без царя. Ничем, даже Гошкиной пенсией, они не гнушались. Отторжения к нему не скрывали, выделив ему клетушку в прихожей, располовиненной занавеской. Часть пенсии он, по сговору, отдавал Тамарке за стол. Часть расшвыривал с ними в беспутных кутежах. Часть вытребывал на почте товаром, который тоже шёл в обмен на водку.
Нервный низкорослый Семён во время застолья вдруг замолкал. Жилистые руки, как рыбы на удах, ходили тяжело, искали свободу. Наконец, звал:
– Том? Будешь пить с джигитами?!
Тамарка, быстро пьяневшая на старую закваску, лежала в спаленке. Притворялась дохлой лисой.
– Я спрашиваю: будешь пить с дж-ж-игитами? – заводился Семён, и дышащие жилы раздувались – на висках, на горле, на кулаках. – Не слышу?!
За переборкой скрипела панцирная сетка:
– Отстань, короста! Сказано тебе: ша!
– В последний раз спрашивает тебя Семён Петрович Иванков, судовой механик первого класса, – приняв оскорбление к сведению, тише и злее продолжал Семён, и вдоль всей Гошкиной спины проползал склизкий крысий хвост дрожи. – Ты будешь, поганка, пить с дж-ж-ж-игитами?! Не-ет?! – Семён, оттолкнув табуретку, врывался в спаленку – и тогда трудная душа его неслась в рай…
Как-то приблудилась к Гошке колченогая городская старуха без паспорта, шамкавшая ртом. И он подался в свою избу, расколотил ставни.
Старуха попалась нечистая на руку и ленивая, в малом не умевшая обиходить. Гошка без жалости отлупил её и выгнал. Однако к Иванковым уже не вернулся.
Однажды он вроде бы остепенился и нанялся в совхоз, прибранный в частную лавочку. И кем – трактористом!
От недостатка рук, не иначе, позвали его на столь сомнительную для него должность. Но вскоре Гошка, как на восходе жизни, вновь сделался рабочим человеком. Он загордел. Стремясь жить по чину, выстирал рубашку и надраил солидолом сапоги. На работу Гошка приходил с рассветом. Толкался в коридоре полупустой конторы. Он смело спорил с мужиками, а насыпая на складе зерно в мешки, охотно чихал от серой, пропахшей мышами пыли. Дали ему дырявый ДТ-75 с расхлябанными дверцами, на котором гарцевал ещё Гришка – сын старухи Аксёновой, по осени сгоревший от палёной водки. И вот теперь вместо него ворочал рычагами Гошка. Рубаха прилипала потными кругами, мутилось в голове и немели руки. Встречая Гошку по пути на пашню или развозившего в прицепной бочке воду, смеялись мужики:
– Всё, кранты стахановцам: Гоха всех в ж… оставит!
Однако только одну посевную и отстоял Гошка, а потом загремел в больницу.
Вернулся неузнанный, хуже, чем отбыл. Каждую мелочь видя вокруг. О тени своей, шагающей впереди него, догадываясь как об отражении парящего облака.
За время его отсутствия возле избы взбурлила шумная весёлая трава. Гошка, остановясь у ворот, стал месить её ногами…
С того дня пошёл Гошка в разнос, раз уж почин этому был дан, а угрызения совести его равно терзали, много ли, мало ли он набедокурил. Собственно, знание о том, что всё равно метаний души не миновать, и двигало им в эту пору. Гошка словно бы приказал:
– Подыхай, душа! Хорошей узды на тебя нету…
Он совсем зачернился, провонял потом и луком. Стал чаще кашлять, выдувая алым мясом рот. В довесок свалялась в один тягучий спутанный комок речь. А в июне, когда хозяйки сгоняли под угор коров, жалясь молодой крапивой, он с вечера, как обычно, заложил дверь – и долго не открывал назавтра.
Это произошло ночью, во время грозы, при фосфорическом блеске молний.
Больше недели маленькое обиженное тело, свезённое в городской морг, ждало бесславного зарывания в красную глину, которая раскисла от дождя, сквозь дыры в крыше лившего во мрак Гошкиной опустевшей берлоги. А после Троицы его провезли мимо избы в казённом автобусе с чёрными шторками на окнах. И как-то сразу забыли.
Мир праху его.
16 марта 2011 г.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.