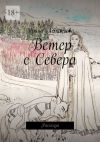Текст книги "Радуница"

Автор книги: Андрей Антипин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 31 страниц)
Плакали чайки
1
На светлый праздник Победы старуха с утра загомозилась, поглядывая в окно, за которым сумрачно чернел двор.
Иван Матвеевич выперся в кухню в одних подштанниках, сел возле печки и первым делом продул мундштук из приплюснутой алюминиевой трубочки. Причащаясь, приводя себя в боевую готовность, тайно от него пересчитывая деньги с обеих пенсий, старуха жевала мятную резинку, чтоб не облеваться в автобусе, и чуть свет лаялась:
– Только глаза продрал, а уж полез за курятиной! Всю как есть избу продымил своёй табачиной!
Спросонок было сухо во рту, как в сеностав в лугу, Иван Матвеевич раз и другой помазал языком по клочку газетки, выдавив в неё вчерашние окурки. Но самокрутка не ладилась, расползалась. Руки ходили ходуном, плясали пальцы, которыми он щемил кончик ножки, а волосы торчали кверху, хоть и осталось их против прежнего – двумя горстями в доброй драке порвать.
– Которого числа будешь?
– А тебе какого лешего надо?! – буркнула старуха, воняя на всю избу духами, которые Катеринка подарила ей нынче на именины. – Я, может, глядеть на тебя не могу!
– Думал баню стопить тебе…
Стоя перед зеркалом, старуха малевала жирной красной помадой посечённый дряблый рот, похожий на сморщенную куриную гузку. И была она вся справная да сытая, с крепким кобыльим задом, и столько в ней ещё было деятельности, что его, наверное, соплёй могла перешибить. В субботу помячкала в бане своё бельё и вывесила на верёвку, протянутую от стены к стене, так он раз-два поддал из ковша на каменку, на скорую руку окрестил себя веником, да убежал в дом, изматерил Таисию…
Тьфу! Курить хочется.
– Купи ленинградскую «Приму», – миролюбиво заговорил Иван Матвеевич, но старуха и ухом не повела.
…Всегда в эту пору Таисия уезжала к дочке, два-три дня кантовалась в городской квартире с душем и унитазом и возводила на мужа напраслину.
После праздника залетала синеглазая Катеринка:
– Папа, как можно? Ты ведь пожилой человек, участник войны, а… Не знаю, папа! Извини, но у меня не укладывается в голове…
Разбитый похмельем, весь минувший день провоевавший со стеклянной «вражиной», один за другим сдав к вечеру все рубежи, Иван Матвеевич пластом валялся на кровати и, как душа на труп, взирал на пиджак с медалями, лежавший на полу в том самом месте, где Иван Матвеевич его вчера и скинул. Он не рад был наставшему дню, воротил от Катеринки глаза: «папой», как в детстве, звала, подтыкала одеяло, подушку…
Старуха следила за дочерью с недовольством, искала новые аргументы, чтоб доканать наверняка:
– Ты ещё не знаешь, чё он тот раз натворил! Вот ты бы знала, ты бы ни папкала, ни сидела бы перед ним, как перед императором! Я знаю, да я молчу, а то бы, знаешь…
– А что? Что, мама?!
– «Штё мя-мя»?! Ведь стыдоба последняя, до чего дошло дело в нашей семье: водку от него, паразита, не знаю куда спрятать! В муку зароешь – он в муке найдёт! Под грязное бельё положишь – он своим поганым носом всё раскопает! В поленницу сунешь – до полешка разберёт, а добьётся своего! Не-де-лю просила отчерпать воду – залилась вода в подвальную яму, – нет, как об стенку горох! Где, грит, я шланг возьму, чтоб качать? Шланг, грит, от мороза полопался, насос не качает! – морща крупный, книзу в наковаленку разросшийся нос, в котором, как в картошке вырезанные глазки, зияли две маленькие норки, старуха талантливо изображала Ивана Матвеевича, став посреди спаленки и размахивая руками. – А как услышал, что я там бутылку припасла ещё с осени, дак савраской побежал, ладошкой отчерпал…
Привирала, конечно, старуха: «ладошкой отчерпал»… Ковшиком, ведёрком извёл воду! Он, главное, всё собирался откидать от подвальной стенки снег, но захворал некстати, белые пятна закружили перед глазами, думал – к смерти. Лежал как пропащий. А там обогрело, выело гряды в том месте, куда высыпали печную золу, и в один из особенно тёплых дней начала весны под стену подвала зажурчала вода. Но разве объяснишь Таисии, что запурхалась она в жизни, в борении с ним, стряхнула прицел и лупила куда ни попадя, а чаще по своим?
Брякали медали – старуха, как шелудивого кота за шкирку, поднимала пиджак за воротник. Потрясала в воздухе, упиваясь своей властью.
– Ишь, как зачуханил кольчугу! Где-то уж мазуту собрал на рукав, чурка! Ему, как путнему, каждую пятилетку не за хрен-грош собачий отваливают по медали – скоро места не будет – а он бегает по угору, хвастает перед молодёжью!
– Положь, су-учка! – со страшным ором вскидывался Иван Матвеевич, суча ногами одеяло и не умея освободиться. – Ах, чтоб ты!
– Видала, как ожил, паралитик-то наш?! – отступая к двери, норовила в голос завыть старуха. – Щас ещё драться полезет, а ты – па-па…
Настыдив, наплакав полный платочек, заручившись обещаниями Ивана Матвеевича не пить, не обзываться, вести мирный образ жизни, давать всем пример и сеять свет, а пенсию перечислять в фонд мира, то есть в руки старухе, – с вечерним автобусом отбывала Катеринка. И с её отъездом вовсе иссякал в Иване Матвеевиче интерес к жизни, малая тучка застила окно. Только больше обычного тянуло курить, да старуха жалела ему на сигареты, а взятые на почте под будущую пенсию он быстро сжигал.
Старуха, проводив дочку, шарахалась под окнами, боясь показаться на глаза, и лишь ближе к ночи крадучись проникала в избу.
– Не противно тебе? – тихо спрашивал Иван Матвеевич.
– Чего?
– Врать-то, на живого человека собирать чё неследно?
– От! Где я вру?! Всю как есть правду выложила, да не кому-нибудь, а родной дочери.
…Ну, собралась старуха, ну, посидела на дорожку, держа сумочку на коленях и задыхаясь в жарких одеждах, ну, помолчала, сцепив губы… И всё же не удержалась, копнула:
– Опять куролесить будешь?
Иван Матвеевич смолчал. Старуха воодушевилась:
– Ты посиди-ка дома, а? Чё тебе этот праздник! Наступил и прошёл…
– «Наступил и прошёл»! – психанул Иван Матвеевич, завёлся с пол-оборота. – Ты какое отношение к нему имеешь?! Языком-то балаболить – вас мно-ого…
– Я-то работала, милый друг, тоже внесла лепту! – понимая, что разговора не будет, а, наоборот, грядёт с её уходом светопреставление, поднялась старуха. – А ведь не жру, как свинья, не довожу себя до ручки!
– Я, может, вовсе пить не буду!
– Ой, не будет он! Дождь с камнями пойдёт – все крыши, все стеклинки в окошках пошибает!
– Дождь не пойдёт, а вот чирей у тебя на гузне выскочит…
2
В последнее время Иван Матвеевич не узнавал в теперешней жизни своё, родное, будто вернулся после разлуки, а дом – постыл, не радуют ребятишки, не ласкает жена… Либо сама жизнь пошла винтом, либо он весь проигрался и ходит под небом, как под игом?
Эту мысль он выбрал однажды, словно перемёт из реки, и с той поры не знал, чему верить.
Он и раньше-то не пил – выпивал, тут же и вовсе забыл вкус и даже по субботам не донимал Таисию, не обращал её внимание на нужды рабочего класса. Но и когда подступал законный повод, такой, что не выпить нельзя, – привезут, например, дрова или, как нынче, подгадает праздник – не было на сердце отрады.
– Да-а, выцедил ты, Иван Матвеевич, свою цистерну! – с грустной усмешкой опрокидывал стопку кверху донышком, к пугливой радости Таисии.
Тошно, хоть в петлю лезь!
Но, если разобраться, как ей, жизни, быть всё время одной? Идти, что ли, долгий путь, да не сносить каблуков?! Это в советскую пору завозили в сельскую лавку ткань, бабы выматывали её с деревянного веретёнца, продавщица чиркала мелком, пластала большими ножницами, хищно раскрывающимися железным клювом, – и плыли деревенские модницы в одинаковых платьях, друг перед дружкой выхвалялись… Чем форсили, глупые?
…Лошадь, от мошки и слепней завалясь в траву, так же катается, хрипит и бьёт ногами, как душа Ивана Матвеевича, одолеваемая думами.
С уходом старухи он надел телогрейку, в петлицы которой были продеты капроновые поводки с рыболовными крючками, обул подвёрнутые в коленях резиновые бродни и с пластмассовым ведёрком и банкой тугих ползких червей пошёл на реку – проверять закидушки.
Весна нынче вышла ранняя, Иван Матвеевич и не помнил такой, хотя много их было на его веку, всех уже и не сосчитать. В последний день марта подскребая щепу возле дровяника, он ушам не поверил: из тёмного, клубящегося облаками неба с треском, будто камнем по шиферной крыше, ударил гром! Потом стал хлестать дождь, хлынула грунтовая вода, до трупной синевы вспухла река и ощерилась вымоинами на перекатах. На Вербницу сломало лёд, сдвинуло и поволокло, кроша и загребая камни. До угора доплескало, в иные дворы вторглось с огородов, затопило подвальные ямы. Прожужжали вертолёты МЧС, разбомбили в низовье ледяной затор, словно выдернули пробку. И матушка остепенилась, сплюнула пеной и покатилась вниз. Но, точно являя черту, до которой могла отступить, упёрлась на полпути к руслу, держа в неволе нижнюю, береговую дорогу, отделив старое село от посёлка, где почта, больница и сельсовет.
Давно рассветало. Было зябко, морошно, волокло ненастные облака, а от реки поддувал ветерок, загребал семена полыни и сеял горечь. Грязь после вчерашнего дождя подстыла на утреннем приморозе, оплелась серебром и хрустела под ногами. В редких избах, жёлто воспаливших окошки, струились дымы из труб – топили не до жару, а чтобы пахло живым. Никого ни в проулке, ни у реки Иван Матвеевич не встретил, несмотря на красное число. Было тихо и безлюдно, как в брошенном селенье, и если бы не смолистые снопы над крышами… Эх, это раньше уже с утра гуртовались мужики, кумекали насчёт массовых мероприятий, раскулачивали баб и затаривались водкой, пировали под угором за огромными деревянными катушками от корабельных тросов, закусывали малосольными сигами да на спор понужали из ружей, наставив по подгорью пустых бутылок и консервных банок!
Среди других фронтовиков не то чтобы бугром на ровном месте, но особнячком сидел безусый Иван Матвеевич, скромно курил «Север» да шикал на Таисию, время от времени объявлявшуюся с проверкой. В разговоры особо не лез, потому что боёв-то, правду говоря, захватил краешком – немцу уже наступили на одну ногу, оставалось за вторую потянуть и разорвать в Берлине.
За ним, как говорил комполка Сутягин, следил сам Бог. Он живым вышел из пекла, да и после не сказать, чтоб не было фарта.
Как все, работал в колхозе: пилил лес, стоял с тракторной бригадой на Борисовских полях, покосил по речке Королёвой, а осенью, понятно, – уборочная. Наконец принесла Таисия. Закутав розовый комочек в одеяло, в крещенский мороз семенил Иван Матвеевич из бани, не веря своему запоздалому счастью и часто дуя на сморщенный лик ангелочка. Ну, поставили дочку на ноги, бойко вышла в отличницы, одних похвальных листов сколько натаскала – стены, пожалуй, не хватит. В срок спровадили Ивана Матвеевича на пенсию, да он ещё хорохорился, сутки через трое гонял движок на сельской электроподстанции.
И не сказать, чтобы кипел, кипел, да прохудился, как банный котёл!
Как прежде, бил под угором белые камни на известь, варил в обожжённом полубочье весь хмурый осенний день, когда с картошкой управились, а до настоящих холодов ещё далеко. Зимой настораживал уды на реке, из журчащей проруби изымая на снег склизких ворочающихся налимов. Весной возил в жестяном корыте навоз от стайки, назьмил огород, расстегнув на груди взопревшую телогрейку. А летом и присесть некогда! Краеведы, опять же, навещали, фотографировали на фоне старинных узорных окошек, трясли, как рябинку, выпытывая, сколько он фрицев заколол штыком и какая светлая любовь приключилась с ним на петлистых дорогах войны.
Но это если прикинуть сторонним глазом – хорошо, а заглянуть глубже – по-га-но…
Над рекой кричали чайки, выхватывая из рябой струи рыбёшек, а чаще поднимаясь ни с чем. За Иваном Матвеевичем увязалась кошка, мастью похожая на осиновый лист в сентябре. Деликатно ставя лапки, шмыгнула к воде, стала нюхать подсохшую тину. Иван Матвеевич пристроил пустое вёдерко на ровном месте, на всякий случай положив на дно камень, чтоб не покатило ветром. Нащупал в реке леску, отпаренную в чайном взваре для большей мягкости, и, чувствуя дрожь во всём теле, слегка повлёк. Тук-тук – отозвалось на другом конце: не то налим засёкся, не то мёртвые водоросли парусили на течении.
– Ну как, Мурка, будет нам нынче на уху?..
Отделилась дочка, упорхнула в город, в университет, – словно все четвертушки, куда раньше слепило солнце, выстеклили в окошках, наполнив избу ветром и шуршанием старых газет.
В эту-то пору, кажется, и пошло всё прахом, вконец разладилось с Таисией. Одно время даже столовались врозь.
У Таисии от первого мужа остались на руках мальчик и девочка. И пусть не было и не могло быть в этом никакой её вины, Иван Матвеевич так ей этого и не простил, на вред водился с залётными шалашовками, а случалось, налетал, выгонял на улицу. Сперва ребятишки жили с бабкой-дедкой, родителями Таисии, а когда тех не стало, пришлось взять их к себе.
Вот бы и остепениться, отмякнуть. Но, как ни старался, не сумел Иван Матвеевич смирить душу, не принимала она… чужих.
Пьяный, обзывал ребятишек заугланами, строго следил, чтоб не обидели Катеринку, не вырвали пряник, не исписали цветные карандаши. Они и пугались его, как цепного пса, хоть наутро и рвал Иван Матвеевич волосы, манил Алёнку с Павликом раскрасками и детскими часиками, одаривал мятыми рублями. Таисия и потом переводила им с его пенсии, когда после десятилетки ребята запросились к тётке в Усолье…
Изредка объявлялась Катеринка; как в детстве, ходила с отцом в баню. И плакать хотелось Ивану Матвеевичу: бледная, какая-то вся сизая, словно апрельская пороша, лежала она на поло́чке, с острыми девчоночьими коленками и едва поднявшейся грудкой, и бёдра её, которые он охаживал веником, ревниво поглядывая на совсем себе бабий, взрослый кусток лобка, были несуразно тонкие, не расшатанные родами. Что-то не заладилось у Катеринки с мужем, извела ребёнка в зародыше, как ни стращала её Таисия, а Иван Матвеевич даже грозился не пустить на порог! Но без Катеринки словно мор навалился, сам же и запросил мира…
– Челомбитько, ты и есть Челомбитько! – в пылу да с жару бранила его Таисия, лила свой ушат. – Всю жизнь как прокажённый, кланяешься башкой налево-направо, а толку?!
Какого ей, дуре, толку надо? Вернулся с войны – пой, полёг с честью – вой! Твоё бабье дело, а в мужскую душу не лезь…
Напопадали одни ерши; расшиперясь колючками, бултыхались на поводках. Хлопотно снимать щуку или налима – те заглатывают крючок целиком, но этот обмылок сопливый всех перещеголял, заглубляя и вовсе до самого желудка. Главное, глаза Ивана Матвеевича подсели, куда им до такой крохи, как крючок! Он червей-то наживлял, протыкая во многих местах и матерясь. А тут ещё руки деревенели, не пальцы, а колотушки – сиди и тарабань по лавке, пой «Калинку-малинку», смеши последних деревенских старух.
– А-а, чтоб тебя! – захлестнув за сапог так, что ершей срывало от этого движения, Иван Матвеевич расправлял перекрутившуюся леску, оскребал с крючка алые жабры и потроха.
Ерши, разинув от боли рты, с выпученными глазами приземлялись недалеко от реки. Шевелились, пустые, в прошлогодней траве, где кошка кончала их лапой и жрала – с треском, напарываясь на колючки и давясь песчано-жёлтой икрой. А раньше рыбалка была-а! В цинковой ванне гнулись полозом бодастые тёмно-синие таймени с медной сыпью по бокам, отливали чёрными спинами широченные вальки и сиги, а уж ельца, сороги и прочей сорной рыбы по ведру вытрясал из корчаги, рубил в корыте курам и поросятам…
Он обошёл закидушки, поднявшись по берегу до галечного мыска, где приставал путейский катер. Но, возвращаясь своим следом, начинять не стал, смотал все четыре на разбухшие мотовильца. На последней томился дохленький елец. Иван Матвеевич пожалел его и бросил в реку. Ему бы юркнуть на дно, затеряться среди камней, а он, глотнув воздуха, простёрся на воде, как снулый, – и подоспевшая чайка, косо взмыв, с криком ударила по нему, выхватила и понесла, точно серебряную ложку.
3
Была у него заначка – бутылка белой, которую он выудил из ямы и припрятал, не надеясь получить в праздник подъёмные от старухи.
В кухне Иван Матвеевич, накренив стакан, отлил на пол и, пока утекало между половиц, держал свои неполные сто навесу. В стакане дрожало, выплёскиваясь через край.
– Ну, братики-солдатики, будьте! – И, помолчав, словно в ожидании ответа, за павших в бою и умерших уже в мирную пору раздавил свои законные фронтовые. Впрочем, это он погордился, что раздавил, а на деле осилил в три захода и скорее закусил, вдогон водке опаляя нутро термоядерным чесноком собственной посадки.
Он покатал туда-сюда колёсико радиоприёмника, не чая выудить в мутном потоке сегодняшних передач что-либо полезное, а тем более спасительное для души. Из динамика, на удивление, не завыло и не зарычало, а потянуло, словно ветром с Лены, когда стронет весенний лёд. Только всё ещё что-то чавкало и похрюкивало, как будто и самой музыке чьи-то свиные рожи чинили запрет. Наконец, с грохотом труб и барабанов прорвалось, как сквозь оцепление. И больше не теснимая ничем и никем, под громовые раскаты «Катюш», зубной скрежет штыков и дробный стук фашистских стягов, повергаемых на Красную площадь, песня двинула могучим народным маршем, наворачиваясь на глаза сплошной краснознамённой болью:
Встава-а-а-ай, страна огро-о-о-омная!..
Она, эта песня, полыхнула Минском и Смоленском, выдюжила сибирской дивизией под Москвой, ухнула в степях Дона бронебойным, вскрикнула под Нарвой голосом ротного Кулешова, накрытого дымом, смрадом, смертью…
Но к Ивану Матвеевичу она явилась неутешной вдовой. Встала на пороге, на подступе к сердцу, в которое Иван Матвеевич давненько никого не впускал, чтоб не испоганили эту последнюю недотоптаную полянку. Ничего не сказала, только посмотрела, кусая губы. И как было от её молчаливого взгляда, полного скорби и укора, выдержать осаду? Всего и смог, что наглухо закрутил колёсико, укрощая песню, но оставаясь со своими печалями на этой эфирной волне, на той войне. И развезло-то его, конечно, не от водки, так что, поднимаясь, Иван Матвеевич пошатнул стол и кое-какую посудишку на нём, хоть он и обвык, что все кругом называли его последним ветераном…
Последним из стольких русских мужиков, которых встречало с Победой село!
…В тёплый, после дождика, весенний день сорок пятого Иван Матвеевич ехал домой в тряской грузовухе, которую на свою удачу скараулил в райцентре. Туда днём ранее он приплыл из Качуга на пароходе. А до этого, если отмотать назад, были Иркутск, мотострелковый батальон, уходящий на Запад, потом Днепр, госпиталь в Омске, снова фронт, стыковка с остатками разбитой части под Будапештом, второе пулевое, на этот раз в предплечье, и, наконец, долгое возвращение из Кёнигсберга санитарным эшелоном, заселённым до отказа.
Он измаялся, скрадывая попутку до села, и уже погулял по главной районной площади, поел в столовой «Голубой Дунай» бесплатных пирожных, посмотрел постановку – на площади выставили машину с открытым верхом, и артистка Смирнова, напустив на грудь красный платок, молотила в дощатый настил чёрными лакированными туфельками, распевая старые частушки – победных ещё не сложили:
Разобьём фашистских гадов,
Скоро Гитлеру капут,
И вернутся все ребята
К нам домой, в родной Усть-Кут!
Паренёк – водитель грузовухи – был чубатый. Так славно из-под козырька, наверное, отцовской кепки лезли непокорные вихры. Солнцем, молодостью играло круглое, как подсолнух, лицо, всё в конопушках. Он доставил кемаривших в кузове артистов к бревенчатому Дому культуры, а сам отпросился до утра: дольше было нельзя, каждый день в честь Победы давали концерты по району. Деревня его находилась километрах в десяти от родного села Ивана Матвеевича, и для последнего это было как нельзя кстати, потому что с объездной пешего хода до дома – всего ничего. Звали паренька Славик. И это весеннее, нежное имя понравилось Ивану Матвеевичу, который наскучал по бабам, по ребятишкам, загваздал ногти землёй и кровью.
– Как отец-то? – едва въехали в лес и поверх приспущенного стекла повеяло сыростью и мокрой лесной прелью, спросил Иван Матвеевич. И зажмурился, боясь встряхнуть головой и очутиться снова где-нибудь под Оршей.
Славик перекатил в горле кадык. Ничего не сказал. Только сухой огонёк финской зажигалки, стрельнувшей у него в руке, свободной от баранки, заплясал фиолетовой тенью на омрачившемся лице.
– Отвоевался! – швырнул папиросную пачку в бардачок. – Ещё в сорок первом бумага пришла.
– Где?
– На Втором Прибалтийском, – дымнул, этими словами, как священной оградой, обнося и жизнь, и смерть отца.
– Война… – ничего не выдумал Иван Матвеевич, сказал, как говорили до него, и весь оставшийся путь молчал, глядя на дорогу.
…Не переваривал Иван Матвеевич, когда на казённых встречах в школе ребятишки, настропалённые учителками, допекали его вопросами, а если Таисия брала за ноздри и гнала в сельпо за разным дефицитом – само собой, поперёк очереди, – он, изматерив её до жути и едва не поколотив, убегал в баню и баррикадировался: вязал сети, подшивал валенки или выстругивал из полена зубья для граблей.
В прежнее время в клубе вращалась ручка киноаппарата, стрекотали бобины. Из маленькой амбразурки лупил свет, в котором клубились кольца душной застоялой пыли, а на белом дерматине экрана распевали бравые песенки и форсили на передовой чистые глянцевые вояки. Они бесстрашно форсировали реки, в которых фашисты тонули, как слепые котята, без единой потери занимали немецкие укрепления, дурачили гитлеровских генералов да налево-направо крутили любовь с вечерними, после ратных подвигов, прогулками под ручку и с ломанием черёмухи у реки. Едва высидев первые эпизоды, Иван Матвеевич стукал откидной сидулкой, на мгновение загородив своей скорбной пригнутой тенью какую-то другую, ему не ведомую войну, и уходил, плакал на тёмном пустом крыльце.
Но это было давно, впереди маячила целая жизнь. И казалось, что все его обиды и слёзы – от обострённого восприятия молодости, оттого, что война только-только миновала, и что всё в конце концов перетрётся-перемелется, пойдёт прежней бороздой, лишь на время порушенной войной, а боли иступятся, перестанут саднить и шпынять воспалённую память…
Однако, остарев в труху, застыв перед гробом в ярости выстывающей седины, он, как минувшее утро, и поныне помнил всё: пыль и духоту землянок, осеннее кисельное мокро и вязкую грязь передовых, бездомный холод равнин и огонь штурмуемых рек, а больше всего почему-то безвкусную, отдающую болотиной воду в котелке, мглистую от песка, который беспрестанно сыпался с потолка блиндажа, будто отчисляя часы жизни, – пробежит ли с катушкой проволоки связной, громыхнёт ли вблизи немецкая «пантера» или расцветёт багровым цветком прикопанная мина, порвёт одёжку на ещё одном несчастном солдатике. И, чем бы ни полнилась голова Ивана Матвеевича, о чём бы ни тужило сердце – главной тяжестью висела эта непроходящая боль за страшное смертоубийство, царившее тогда на земле, а уже за этой болью вставали рядком другие, которые только ныли, только зудели, только царапали, тявкали из-под лавки, не продирая до души.
Тая свою боль от всех и не умея похоронить её для себя самого, – как вчерашнее, милое, дорогое вспоминал Иван Матвеевич далёкий весенний день и тот до войны исхоженный, а нынче сведённый вырубками лес, который рос при дороге, а над ним синилось небо, тоже победное. Да и всё в этот день было не таким, как всегда, каким его оставлял Иван Матвеевич, уходя на фронт! Даже нудное дребезжание грузовухи было исполнено какого-то сокровенного смысла и торжества. И когда Славик высадил его на повороте, а сам покатился под горку, и расхлябанные борта весело забрякали скрипучими железными затворами, Иван Матвеевич уже знал, в чём тут дело. Грузовуха будто прощалась с ним, отлетая в другие края за живыми, мёртвыми ли фронтовиками. Все они, живые и мёртвые, как он сам тогда, только и делали, что ждали: первые – скорейшего возвращения, вторые – полного успокоения хотя бы под тонкой кожурой наползшей свежей земли и зелени…
– Давай, Славик, ровной тебе дороги! – Иван Матвеевич по-отцовски махнул в сторону отъезжающей машины.
И Славик заметил в боковое зеркало, надавил чёрную грыжу гудка, посигналив раз и другой.
В глазах Ивана Матвеевича засвербело. Он отвернулся, сел прямо на землю, чтоб его ниоткуда не было видно, и лишь потом сообразил: кому смотреть? Он один.
…Своротка к дому вела всё время под гору, мимо леса. И шёл Иван Матвеевич, шалея от резкости воздуха, разряженного недавней грозой. Над дорогой, как бабочки, порхали золотистые сосновые коринки, которые лущил ветер, в свалявшейся прошлогодней траве светились паутинки, в небе пели чибисы и, обнажив белые подмышки, высоко над миром стоял молодой сильный коршун.
Но совсем невообразимое сотворилось с Иваном Матвеевичем, когда в свежевспаханном поле он увидел две берёзки. На фоне чёрной, надранной плугом земли они белели, как не стаявший снег. Ветви, уже опушенные первой зеленью, качались и сверкали кусочками слюды. Иван Матвеевич с колотившим в спину вещмешком подбежал, сминая пашню, и, потянув, как лось, жадно перекусил веточку. Почти сразу навернулся сок. Он уже пошёл на убыль, но всё ещё был сахарным и прозрачным, и скоро натёк в ладонь, в которую Иван Матвеевич помакал пересохшие губы. И это-то нечаянное вино победы, пригубленное солдатом по дороге к дому, было и его первым горьким помином после войны.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.