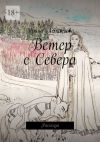Текст книги "Радуница"

Автор книги: Андрей Антипин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 31 страниц)
9
У Дядьки была удача в жизни, он часто ловил руками то неуловимое, что в сибирских сказках и легендах выковалось в одно короткое слово – фарт. Он, скажем, нюхом чуял разные полезные штуки, незримо окружающие нас, будь то дюралевая лопошайка или медвежий капкан, банка с коркастой краской, которую Дядька подновлял бензином, или топор советского производства, за гостовское клеймо ценимый в народе как особенно бриткий. А то он средь бела дня поднимал на лобном месте деньги… Шёл однажды по утреннему холодку в Подымахино, где после ругани со Старухой отлёживался у родителей, во рту – пустыня, в кармане – пыль да дыра! И вдруг увидел пять рублей, потом ещё пятак и дальше россыпью. Когда пересчитал, оказалось ровно на бутылку «катанки» («Катюша», «Катюха» – так он ласково называл её, она стоила тогда двадцать рублей)! Или нанялся к Снегирю косить и ставить сено на той стороне Лены. С другими мужиками сшибал сочную пену июля, словно выбирал веслом зелёную реку. Но вдруг встрепенулся, точно поймал жаркий запах дичи, за каким-то бесом полез в ольховник, нагнулся и, разорвав корешки трав, по-звериному стал рыть мягкую землю руками… Из кустов вышел с курковой двустволкой шестнадцатого калибра! Водит пальцем по разбухшему прикладу, в котором жучки проточили ходы, скребёт ногтем по ржавым стволам с раковинами внутри, показывает, где и насколько отпилит.
– Ну, Длинный на большую дорогу собрался! – с восхищением качали головами мужики.
В другой раз Дядька с утра пошёл на свой покос. К обеду припекло, и траву точно присыпало песком, а вчерашняя кошенина ещё обдувалась в валках. Дядька наловил кузнечиков, настроил сосновую удочку и, закатав штаны, забрёл в реку. Светлая мальчишеская мечта, за которой он гнался всю жизнь, но вот изноровился и поймал, насадил, длинноногую и прыгучую, на крючок! И было так: паутинный блеск лески, чуткое колебание пробочного поплавка под стрекозой, присевшей на миг передохнуть, затем глубокий чмок… И вот с литым ворочающимся свистом сорога вываливается на берег, а стрекоза, слепя бирюзовыми крыльями, висит в воздухе на одном месте и ждёт, когда пробка снова упадёт на воду! Но в эту чудную пору: жёлтое плавленье солнца, стеклянное течение реки и шорох поспевающего сена, а хрустящий домашний хлеб и утреннее молоко в бутылке – в прохладной осоке у ручья! – нога возьми да споткнись на чём-то скользком, как налим. Бросил удочку, выпер из реки добычу – лодочный мотор «Ветерок-12». Как он там оказался?! Его напрочь затёрло илом и песком – ни разобрать поршневую, ни провернуть заклинивший винт, и Дядька оприходовал его кувалдой, сдал по кускам скупщику цветных металлов, а сам под завязку затарился водкой. От покоса он сразу устал. А в августе загрохотали грозы с ливнями, и валки «проросли» – как волосы на своей непутёвой голове, уже осенью отрывал Дядька граблями от молодой отавы сопревшее чёрное сено…
Косил он до самых картошек, а иногда и в разгар листопада. Траву не нужно было поднимать в валки – она стояла сухой на корню, коси да копни под вечер. Косы от её мёртвой шершавости быстро тупились, и через час-два Дядька меткими кивками молотка оттягивал свою «девятку», щупал пальцем кривое лезвие, и оно, нашлифованное до трудового блеска, едва слышно звенело от ногтяного щелчка. Комсомольской спешки на сенокосе Дядька не терпел ещё больше, чем при любой другой работе. Смётывая сено, кружил подле заложенной копны, подыскивая навильнику «самое место», и над ним, над его всклоченными волосами и неприбранным сеном посверкивали тучи, полные ливня и голубого электричества. Его поторапливали: «Солнце к закату идёт!» или «Дождь закрапал!» – а он лишь пялил наружу кончик языка, воздев над головой вилы на длинном черенке, будто вершил какую-то свою революцию. Сено, как флаг, трепалось на ветру, соря́сь травинками, зато когда обретало своё гнездо, все вдруг видели, что так-то и вправду лучше.
Ещё Дядька сгородил навес из жёрдочек и полиэтилена, из досок – столик и лавку. С утра кипятил на костре смородиновый чай. Хлебал, обжигаясь об эмалированную кружку, с которой уже не мог совладать и обеими руками, заедал подвяленной на солнце последней луговой земляникой, на коленях выщипав её из-под косы. И, может быть, в эти блаженные минуты думал о том, что ещё годков десять-пятнадцать – и он уйдёт за Орлом-столяром, Лёхой-кузнецом, Венкой с Береговой и другими мужиками. А навес останется! Лишь столик с лавкой потрескаются и побуреют, но в лиственничной чурке будет по-прежнему виден трёхгранный прокол – след от стальной наковаленки, на которой он выправлял свои косы. И всё здесь сохранится как при нём! Даже бутылки с питьём будут дневать в траве, а от них – вернись он облаком и открути пробку! – прямо в ноздри пахнёт кислым квасом из жжёных корок. Только лес, надвинув зелёные шеломы, плотнее наступит на луг. И сосны с ёлками, берёзы с осинами через много лет подкрадутся к навесу. А там вздыбятся, втопчут деревянными копытами, обратят в пыль и быль и навес, и луг, и луговую Россию, и судьбу самого Дядьки, и землянику, духмяную, как память о земной жизни. О, как они высоко и юно зашумят-закачаются! И уже не вспомнят ни косаря, ни его шепчущей косы, ни однообразного дымка «Примы» в то священное время, когда Дядька, прислонив литовку к копне, сидел на лавке и мастерил пилотку из газеты, слюнявя уголки языком, а то глядел на скошенную поляну, на солнце, затухавшее в консервной банке вместе с огоньком окурка, на алмазную после грибного дождя дрожь листвы…
С ним стало твориться что-то невообразимое, чего и мы не ожидали от него.
За год до своей смерти он кинул в бабушку поленом. Была сухая погожая осень, все копали картошки. А Дядька, плюнув на всё, кочегарил в поварке печь, выпаривая из горсти макарон нечто обильное и склизкое, чтобы сразу заткнуть глотку. Бабушка крутилась рядом, налаживая оперативную работу, беспричинно отворяла дверь и запускала в поварку последних злых мух. И злые мухи кусали Дядьку, и с этими укусами Дядька сам злел, нервно припадая к бутылке и забывая прикрыть дверцу. Из печи выпрыгивали угольки, погасая на полу, прижатые старухиным суконным ботом, и бабушка боялась, что Дядька спалит поварку, а потом и село. Наконец слежка опостылела, а ядовитые замечания костровыми искрами выстрелили в душу, где и так всё насторожилось в порох. И Дядька вспыхнул, с рёвом схватился за полено и, когда мать сиганула на крыльцо, метнул через двор со всей нагноившей в сердце яростью. Бабушка сверзилась, как подкошенная…
С огорода прибежали на её гортанный крик, сцапали обидчика за руки-ноги и под бабушкины слёзы, под скорбный причет и мольбу пожалеть «зайца глупого» выбросили, как мразь, в проулок. Дядька, со стуком упав на спину и от боли закатив глаза, простёрся под ногами, всеми презираемый и расхристанный. И вдруг тихо засмеялся! И страшен был этот осмысленный трезвый смех в поверженном, и клохтал он в Дядькином горле, словно свеча на окне, когда во дворе буран и в доме качает занавески. Но вот раму толкнут, но вот нахлынет разом…
– Чего ты – как дурак-то?! – спросили Дядьку.
– Мамку жалко…
И уже не только он ведал о себе всё, но и бабушка, на хромой ноге провожая за ворота, смотрела в ссутуленную спину сына и горевала о нём, вызнанном до запретного знания. И тоже смиренно ждала восковую жуть, прозревая, что печаль эту не обойдёшь, не объедешь. Она лишь согласно кивала головой, уже не веря ни в свои, ни в небесные силы, и если заклинала не шляться в мороз и не лихачить на мотоцикле, то без особой надежды. Когда Старуха заболела, понадобились деньги, и Дядька свёл коняшку со двора, а вернулся пёхом, бабушка вздохнула вольготнее:
– Слава тебе, Господи, сплавили заразу с рук! Как бы ещё уследить, чтоб не замёрз в дороге…
Однако это она помечтала, что с продажей мотоцикла всё решится само собой.
Теперь, как на танке, Дядька патрулировал из села в посёлок и обратно на тракторе, нигде не встречая преграды. В метельную непогодь, когда воровски притащил из леса связку хлыстов и пропил Снегирю, он сокрушил у Катанаевых палисадник, причём сделал это с тем великолепным равнодушием к случившемуся, которое так свойственно нашему человеку. Бабка Зоя, соседка Катанаевых, в одном платьишке и в обрезанных валенках преградив ему дорогу, от возмущенья трясла головёнкой и то фехтовала посохом, то с подскока плевала в стекло, норовя так или иначе поразить открывавшийся её гневному взору неясный силуэт лихача:
– Дак ты, моэть, и в избу ко мне заедешь?! А то дава-ай, ё-ё-ёп т-твою мать!!!
Но Дядька чего-то не заехал, газанул, погрузив бабку Зою в копоть, на повороте у почты лягнул и расщепил основание электрического столба…
И так-то, бывало, до утра жёлтый свет фары метался в зге, как спятивший мотылёк, отображая петлистое Дядькино настроение.
И только вспашка оставалась изящной и ровной, словно прочерченной по ниточке! Но было что-то лишнее и бессмысленное в этой неизбывности, вроде единственного целого окна в готовом к сносу доме, да и управлялись с пахотой, севом и уборкой рано. В зимнее бессезонье, обострявшее в людях чувство общего безвременья и тоску, кроме вывозки сена-дров и ремонта техники не было мужикам заделья. Кто-то уезжал в город или нанимался стричь для китайцев лес. Кто-то занимал ссуду в банке и обрастал подсобным хозяйством, на облупленном, но безотказном жигулёнке мотался по районным школам и детсадам, пристраивая картошку с капустой и мясо с молочкой, и скоро вылетал в трубу, на выходе из которой его уже караулили рассерженные кредиторы и сотрудники милиции. А кто-то ничего не хотел и со страстью глушил водку, следом за другими спускаясь в могилу. Но были и такие, которые хомутали себя охотой или рыбалкой.
О рыбалке нужно рассказать подробно.
10
Глубокой осенью под за́береги, а с замерзанием реки под окрепший лёд на Лене ставят налимьи уды. Это древесная, чаще ольховая, вешка около двух метров в длину, заострённая с комля. С этого конца, на некотором расстоянии от него, вырезают ножом бороздку и опоясывают её капроновым поводком с крючком крупного номера, на который насаживается живая рыбка. Наживляют чаще за хвост, причём ищут такую заветную точку между малым задним плавником и хвостом, где нет позвонков, или продевают со спины и тоже норовят подцепить за мясо, не повредив костей, иначе рыбка быстро погибнет. Уду с живцом поскорее в прорубь, которую накрывают льдиной или дощечками и утепляют снегом. Рыбка на поводке плавает у самого дна, и налим, в зимнее время наведываясь из илистых ям к берегу, заглатывает наживку, раззявив пасть и образовав обратное движение воды.
Лунки дырявят вдоль брустверов, на выходе из омутов и в местах впадений боковых речек, и не выдвигаются на глубину, как на некоторых других северных реках, а, наоборот, жмутся к мелководью. Бывает, что расстояние до дна – не больше пяди, а вот здесь-то и колобродят самые большие! И в калёный, ядрёный, опаляющий дыхание мороз, когда туманом завешен мир и чёрная, с седой подпушью заиндевелых лиственниц и горловой желтизной сосен, изгибается в хребтах тайга, стекая к реке еловыми распадками и сумасшедшей гонкой заячьих троп, а над избами с утра до́ ночи бурятся напористые дымы, даруя надежду на тепло и уют в холодной России, нужно смотреть уды. В противном случае лунки промёрзнут насквозь – и тогда попробуй отвоюй уду с налимом у реки, у мороза, у жестокой рыбацкой судьбы!
В такие дни, собираясь на реку, надевают всё тёплое, спасительное, лучше шерстяное, в чём запутались бы мороз и хиуз ещё на дальних подступах к телу. Обувают обычно бахилы или валенки на галошах. Штаны суконные или ватные, чтоб не процеживали ветер. Куртка суконная, стёганка или полушубок. И меховые рукавицы-шубенки. Ушанку обязательно из натурального материала – синтетика на улице встанет коробом. Если хиуз или особенно сильный холод, такой, что и северянам невтерпёж, – на лицо пуховый шарф или специальную трикотажную маску, глядят одни глаза.
Вот на самодельных лыжах приходят к первой вешке, проступаясь на задутой лыжне, которую зоркий рыбак угадывает по едва видимой тени или по волнистой снежной зыби, убирают снег и дощечку. Иногда покажется гладкий тёмный лёд. И это значит, что прорубь взялась тонкой скорлупой. Однако чаще лёд бывает ноздреватый и слоистый, грязно-голубого оттенка, и бьёшь такой, раз за разом отчерпывая сухую крошку совковой лопатой с множеством отверстий, а уж только потом в малый прокол с шипением брызнет вода. Но вот и снег откидан. В оборот идёт четырёхгранная пешня с берёзовым черенком, округло утолщённым на конце. Ниже этого головастого стопора имеется верёвочная петля под руку. И утолщение, и петля для того, чтобы пешня внезапно не юркнула на дно.
Прорубь долбят с краёв по кругу. Первый зимний лёд, ещё не давший осадку, под ударами пешни содрогается, колется длящейся трещиной и впадает с жестяным грохотом. Если жмёт за сорок и обжёвывает мочки ушей, шарф от дыхания куржавеет и надирает лицо куском жести. И не только река, но всё вокруг, каждый предмет, будь то занесённый вьюгой камень или ольховый куст, представляется промороженным до основания, утратившим первоначальную прочность. Тогда кажется, что если упадёшь, то непременно отломишь нос, а обледенелая пешня – в масштабах реки иголке ровня – с очередным взмахом и мощным вонзанием рассыплется, как стеклянная.
Ледяная горка рядом с лункой прибывает. Мокрая крошка, искрясь на солнце, трепещет голубой рыбёшкой, моментально склеиваясь на морозе и постепенно тускнея. Накатанный шубенками и оттого точно глянцевый черенок лопаты скользит обмылком. Куртка на спине и боках белеет от изморози. Скинешь с пылу с жару – через миг совершенная фанера, раскорячится сама по себе, словно кулачный боец. Застынув в свитере, потянешь, будто с чужого плеча, хрустит, распяливается на задранных руках, трескается всей своей льдистостью. Но вот последний укол. Кончик пешни, раскалённый в банной печи и выкованный до жалящей остроты, прорывается в журчащую верть. Пешенная сталь, ухнув на миг и уже вынырнув, осаженная спасительной уздой, по мере выхода из воды покрывается студёной полудой.
Когда прорубь очищена и вешка сколота, начинается самое интересное. Становишься на колени и, как в первобытное языческое таинство, заглядываешь внутрь. Хищно рыщешь глазами по дну. Но со свету ничего не видишь, а поэтому, замирая дыханием (чтоб не рябить воду), возвращаешься к точке отсчёта – и уже медленно идёшь взглядом от конца вешки, утопленного в грунт, по поводку к крючку. И если обнаруживаешь его голым, лежащим на дне знаком вопроса, или с гольяном, который играет на течении или уже уткнулся в камни, а то с пучком мёртвых водорослей, называемых на Лене по-эвенкийски – ня́шей, всё в тебя вваливается этим донным сумраком, неблагодарностью жизни, суровой правдой промысла, всем тем, о чём ты в азарте даже не думал, а вот сейчас, с этой маленькой неудачей, сник от одной только мысли об этом и почти пропал. Зато уж если взгляд твой, как на обломок склизкого топляка, наткнётся на рыбину, разботевшую от икры, принявшую форму реки, её фарватерной силы и стремления, а на фоне жёлтых и чёрных камешков всю камуфлированную и потому едва различимую, из сплюснутого рта которой вьётся капроновый ус, всё в тебе взведётся стальной пружиной.
Ты сбросишь горячие шубенки и, примерзая пальцами к металлически холодной вешке, провернёшь уду несколько раз, пока поводок не выберется весь. Рыба упрётся мордой в вешку, лишаясь простора для рывка, а ты ловко подёрнешь уду косым движением вверх и, встречая тугое, секущееся в лунке сопротивление, вынешь на лёд красивое речное тело. Тут же со сноровкой оглоушишь и, грубо отомкнув пасть, вырежешь крючок, заякорившийся глубоко в бледной, вязкой, как раскисшее мыло, и предсмертно сокращающейся глотке. Потом, когда добыча немеет у проруби, а из жабр течёт густая красная кровь и, смешанная со снегом, марает нож, руки, заскорузлый рюкзак, сырыми шлепками металла по живому мясу обойдёшь всю налимью тушу лопатой, старательно колотя по напряжённым бокам. С этими отбивными ударами печень в налиме чудовищно распухает и дома выпрастывается из брюшины молочно-серыми продолговатыми кусками, а с ней горсть-другая песчано-жёлтой жирной икры.
Эта-то печень, макса́, да ещё икра и составляют в налиме основную ценность, несмотря на то что налима справедливо считают сосальщиком утопленников, и мясом его многие брезгуют, и по вешней воде, когда он сослепу сгребает сеть, городские рыбаки вспарывают ему живот ради максы, а пустую тушу вымётывают за борт.
Промышляют налимов иногда до самого реколома, когда просыпаются грунтовые воды. Но основной клёв, как известно, по первому льду и во второй половине декабря, а потом после нереста – в феврале-марте. Налимятники из местных делят реку в строжайшем порядке. Вдоль бруствера, что напротив Старых Казарок, и до устья Казарихи настораживает свои крючки Никанорыч. Чуть выше полтораста-двести метров – угодья Толи Подымахина. Таюрские ездят на «попрошайке» за Глубокий ручей. По другую сторону реки лениво смотрит дюжину крючков Плотников. Где-то там снова втыкаются Таюрские. Напротив Никанорыча по правому берегу – Валентин Ильич. Ниже напором лезет неуёмный Никанорыч. За ним дядя Милентий. Иногда встрянут братья Логиновы. А уж дядя Володя Петрович неизменно рыбачит у Заостровки. И это ещё не все, кто-то уехал, состарился или умер, а кому-то стало не до того…
Все давно знают границы без карт и схем!
Но в ноябре, едва отропщет шуга и ещё не срастутся спаи между льдинами, рыбаки уже застолбляют своё мелкобережье частоколом из вешек, прокалывая тонкий лёд одним клевком пешни. От азарта нарочно покушаются на соседнюю территорию. Орут, доказывая законность притязаний, а чтобы с вешками не возникало путаницы, вырубают какие-нибудь «не такие». Например, с рогаткой на конце или кривые с сучками, но чаще просто окунают в прорубь не комлем, а вершиной. Словом, мудрят!
…И вместе со всеми бегал, застолблял реку, ругался и мудрил Дядька.
11
И вот она снова наступала – очарованная пора! С вечера шло-ехало, табуня рыбу в бестечье у брустверов, и в ночь перед ледоставом ямы закипали от живого серебра, затыкающего ячеи ельцовых сеток, а вдоль береговых припаев моргали огоньки и стучали по́ льду деревянные колотушки, которыми глушили налимов, завороженных светом фонаря или игрой колокольчика. Утром белым-белым простором полыхала река, где стекольно-гладкая, где являющая напластование одних льдин на другие, иначе – торо́сы. И улово снималось, кочуя по отшумевшей реке. На другой день сети приходили пустыми, а рыбаки с бурами и ящиками на стропяных ремнях сверлились подальше от полыней, которые щерились на морозе и лакали воздух голубыми языками, пар от их сиплого дыхания длинно и чудно разматывался над смирённой Леной.
У Дядьки к тому часу всё было готово: пешня – оттянута, лопата – починена. Крючки с проржавленными от давнего пользования ушками наколоты на пенопластовый прямоугольник от спасательного жилета, и поводки подвязаны за цевьё. А гольяны тучищей до двух сотен плещутся в эмалированной кастрюле, спущенной в прохладное подполье.
Был у Дядьки под водой счастливый камень, возле которого пролегала налимья тропа. Каждый год после ледостава он искал его, выстекливая одну лунку за другой, и если долго не мог наткнуться, психовал и даже швырял шубенки. Но едва древневековый, весь в бурой слизи валун открывался в очередной проруби, Дядька радовался по-детски, будто нашёл пятачок, и тут же успокаивался, неспешно ставил здесь уду с самым жирным гольяном и даже в бесклёвье добывал возле этого камня налимов. Также Дядька узнал от стариков, сам ли смикитил, что налим охотнее изымается с жёлтых камушков. Тоже, как заведённый, искал их, без устали дробил лёд, утоплял, а после поддевал проволочной петлёй пешню, наживлял, но через день передвигал вешки на новые места. И всё-таки обретал драгоценные, дрожащими руками запускал живца и весь затаивался в предчувствии удачи, добычи, победы.
Зимой 1993 года налим шёл как чумовой. Пуще, до визга и драной шерсти, воевали из-за реки, лепили уды одну на другую, долбили лёд с яростью, и осколки сверкали на солнце пригоршней серебра, и нищая деревня, ничего более не имея, богата была этой щедростью зимы, Сибири, Лены. Из лунок фонтанировала вода, ширилась вдоль берега, отрезая сухой подступ к удам. Тогда соревновались в прыгании по торосам, занятии тем более несерьёзном, что дед не хотел и не умел скакать по-жабьи, а посему напяливал на валенки галоши, с давних и будто бы сказочно дешёвых пор водившиеся у него в изрядном избытке, или кропотливым муравьём трелевал с угора и стелил на лёд мостки из досок. Отец в азарте утопил очки, которые слизало течением по жёлтым Дядькиным камушкам. Старик, не сразу пережив потерю, выдал окуляры из своего пенсионерского запаса, примотав к душкам что-то вроде уздечки, и потом нет-нет, а присматривал за сыном, чтобы тот не стряхнул его очки вместе со своей головой.
В ту трагическую зиму Лена словно провожала народ невиданным пиром, последним накануне чёрного затишья России и скорого безрыбья в реке! Налимы тогда были огромны, каких, казалось, не было и уже не будет, а щуки изумрудны и острозубы, так что если при снятии их с крючка пальцы соскальзывали под жабры, выскребались они, как из тёрок, – в глубоких, до мяса, порезах, невозможно болезненных на столкновении мороза, крови и щучьей смазки. Зато прогонистые ленки с восхищающими радужными хвостами и плавниками цвета февральской синевы и остывающей меди клевали, слегка загубив крючок, впрочем, едва уздавший тайменей с бульдожьей челюстью и атомоходным напором в поведении. Последние заламывали вешки с такой изуверской силой, что по одному косому положению уды было ясно, кто сидит на крючке или уже разогнул его, как соломинку.
Промёрзших и глухих, как поленья, рыб складывали в уличной кладовке. Белая рыба, которой было немного, солилась в бачке, а налимов дед пилил ножовкой на пороге. Бабушка жарила-парила на двух сковородах, обваливая в подсоленной муке и запашисто, с золотистой корочкой, запекая максу, которую мы, ребятишки, воровали из-под носа по типу объявленной приватизации. Или она варила уху, от риса и рыбьего жира набухавшую до состояния студня, так что ложка ради научного эксперимента стояла торчком, неизменно удовлетворяя гастрономические запросы деда. При этом его удивляла слабость наших пищеварительных систем, ведь только в кишках у старика резьба была крупная и нерушимая, а наши гайки срывало на второй или третий день, и бабушка в качестве закрепителя прописывала горсть-другую сушёной черёмухи.
По праздникам или именинам бабушка варганила в русской печке пироги, промасливала, высаженные и горячие, заячьей лапой, давала напреть под рушниками, напитаться сытностью и духом. Но налимы к Новому году приедались настолько, что, отпросясь с куском пирога во двор, мы тайком скармливали рыбную прослойку собакам, пользуя только рис и пышный мякиш с манной посыпкой. В собачью столовую, которой командовал дед, шли также налимьи головы. Корм от этих голов был жирный и клейкий, и собаки жадно хапали его из чашек, брели после по двору шатаясь и, будто с великого похмелья, опухали в своих щелястых будках, лишь по неотложной нужде задирая лапу на огородный столбик.
В это фартовое времечко Дядька шалел, а терпенье его источалось на проверке дюжины уд, после чего он затаптывал лопату и пешню в снег и убегал «в одно место». Оглушённые налимы копались у него за пазухой, и от их залоснившейся слизи телогрейка была «хромированная», как с усмешкой говорил сам Дядька. Когда он запивал на долгие дни и ночи, смыкавшиеся в полосу сплошного горельника, как будто Дядька выжигал один отрезок жизни, чтобы через него зараза не переметнулась на другой, где последняя светлая полянка, он освобождал из вольера молодого дурковатого Тарзана и этому действию вверял какой-то особый, вящий смысл.
После отсидки в загоне кобель, словно сама Дядькина душа, пьянел от свободы и уличного многолюдства, с бабьим визгом обнимался и слюнявил лицо языком, а то, спружинив лапами в грудь, для полноты ощущения ронял на спину и, завихрившись, срывал шапку. С добычей в зубах улепётывал в проулок, чтобы растерзать за поленницей, откуда Дядька манил его коркой, а тот довольно урчал и вопреки логике не вёлся на дешёвку, как бы говоря: «А ху-ху не хо-хо?!»
Все запойные дни хозяина кобель следовал за ним, готовый схлестнуться со всяким, кто перейдёт им дорогу. Оставаясь на стрёме у чужих ворот, ждал, иногда всю ночь, когда Дядька покажется из шумной избы и, сев рядом, облапит за шею. От этой благодарности за службу Тарзан, будь он человеком, непременно разрыдался бы солёными слезами. Но он лишь чесал за ухом и чихал, как если бы к носу приклеился тополиный пух, да заглядывал голодными глазами в пустые руки. Или поскуливал, тычась мордой в коленку, может быть, от жалости к дорогому существу, так ласково ворошившему его загривок и тоже едва не плакавшему от любви к своему верному другу:
– Что-о-о, Тарзанка?! Только ты, бедолага, и ждёшь Длинного…
К середине зимы Дядька забрасывал свой промысел, замораживая с удами поймавшихся налимов, а складированных в сарае пропивал. Но и это не могло его остепенить – и он отчерпывал в склянку живцов и вскоре переводил на водку. В апреле, когда синели снега, он, словно очнувшись от наркоза, выползал на реку. На солнце всё нагревалось, спектрально отражая тепло, и лёд вокруг вешек вытаивал сквозной воронкой. Дядька колебал их, пробуя выдрать, как сорняк, и если удавалось вызволить крючки, это, наверное, как-то утешало его в горе и ненадолго окапывало чёрную полосу, всё разраставшуюся в нём. Однако чаще снасть защемляло намертво, а с нею и надежды, которые Дядька возлагал на рыбалку. Вешки словно в укор качались на тронувшейся реке, к Первомаю убиравшей от берега все ледяные сходни, и всё бесконечно, губительно, замкнуто повторялось из года в год…
Бабушка однажды подковырнула:
– Налимов ловишь, а всех пропивашь! Хоть бы рукавички мало-малишные справил себе, а то ходишь как пролетарий: ни ва-а-режек, ни ша-апки путной! Всё как есть дедово потаскал-сносил…
Дед (он к тому времени ослеп, возили в область вживлять хрустальные глаза, однако было уже поздно) всё слышал. Но неожиданно не закричал, не устроил перепалку, а дождался окончания разговора и кротко, но со значением вклинил незнакомое, по-своему понятое слово, услышанное от городского человека, который скупал по осени картошку:
– Бо-ом!
Дядька, загремев табуреткой, взмыл встрёпанный и раздувший ноздри.
– Кто-о бо-о-омж?! – после чего спикировал на тракторе к вечерней реке и, светя фарами, с ожесточённым восторгом смолотил гусеницами все свои вешки.
Потом с рыбалкой стало глухо, а тракторным ремеслом без топлива не разжиться. И Дядька то и дело являлся с реки порожним, стеснительно обедал и, повертев в зубной дыре, задумчиво глядел на изжёванную спичку с капелькой крови на конце. Он, как раньше, иногда ночевал у родителей, может быть, казнясь тем, что нужно возвращаться к Старухе ни с чем. Воду гольянам он забывал менять, а Старуха не делала этого ему назло, и рыбки всплывали животами вверх, к неописуемой радости кошака, караулившего маленькие смерти на проволочной крышке.
В это лихолетье он перемогался случайным хлебом: грузил навоз, чистил снег, колол дрова и носил воду, а иногда отоваривался «катюхой» под какие-то будущие дела и пропадал бесследно и бесславно. На радость мужикам взыграла лихорадка с цветными, а потом и с чёрными металлами, и в посёлке заработала приёмная точка, в которой оканчивали свои дни сковородки, самовары, топоры, шестерни, медные патрубки, «сапоги» и винты лодочных моторов, радиаторы, катушки электрообмотки и многое другое. Но всё это были пустяки. А вот когда в половодье сбрило льдинами паром, разом лишив связи с соседним берегом, где летняя дойка и сенокосы, то-то было потехи: дизельную распотрошили автогеном, а уж останки расковыряли ломиками! И Дядька тоже подсуетился, смял сапогами и сдал корчаги из алюминиевой проволоки, которыми запасал живцов, и после этого словно какой-то люфт образовался в нём, всё зашаталось и окончательно пошло пропадом…
За корчагами он вынес через бабушкин огород дюралевые желоба, поднял выдергой амбарную половицу и конфисковал все медные и латунные чайники с отгнившими носиками, запчасти от «Ветерков» и бензопил. А то и вовсе волок приёмщику – молодому и цельному двухметровому мужику, уже медленному и тягучему, никогда не ручкавшемуся с клиентурой и вообще равнодушному к чужой гибели, – всё, что найдёт, украдёт, разроет. Но когда все овраги и ямы прошерстили, а трактор, который Дядька начал развинчивать на чермет, с волнением видя неохватный объём работы, отняли с позором, он за стакан водки сбагрил Хохлу грохочущие в кармане гаечные ключи. Это было как будто последнее его, ещё державшее на земле, и наутро он сам, должно быть, удивился своей внезапной лёгкости.
Однако не всё ещё было потеряно. Едва весной вымывало из снега залежи полезных предметов, Дядька бродил по посёлку и собирал в мешок алюминиевые консервные банки, прессовал камнем на пустыре, дабы придать товару требуемый габарит и способность к удобной транспортировке. Плющил заодно и жестяные, но обман рано или поздно раскрывался, и поставщика учили, стараясь не повредить телесную подробность рук и рёбер.
– Ну, Бомжара где-то чего-то надыбал целый куль! – злословили вчерашние мальчишки, недавно окружавшие его с деревянными автоматами, и эта грязная недеревенская кликуха вилась и каркала над Дядькой до его смерти.
Она, шпана, скрадывала его в проулке, или со спины ради смеха спинывала шапку, когда, один-одинёшенек, он сидел на теплотрассе и вышелушивал в газетный обрывок найденные окурки. Теперь его облаживали, чтобы завладеть водкой. И уже настолько Дядька был немощен и безвреден, что и лопата с пешнёй не спасали, и даже силы – взмахнуть, пусть не самому ударить, но хотя бы накрыть себя от чужих ударов – не осталось в нём. Всё изошло, истаяло, иссякло! Одна прежняя крохотная слава землепашца пылилась с районными газетами в могильных склепах библиотек.
С землёй Дядьку связывало ныне лишь картофельное поле, после вспашки разделяемое тычками на две половины – его и Старухину. Свою картошку он ещё в августе прямо с куста разбазаривал горожанам, искавшим в деревнях дармовщину, к осени корыстился Старухиной, и Старуха объявляла очередную мобилизацию. Дядьку пробовали обуздать, возились с ним, как тараканы с немытой поварёшкой, а если ничего не получалось, Старуха вырубала нарушителя границ чем-нибудь не подсудным, но действенным.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.