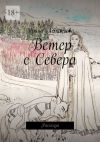Текст книги "Радуница"

Автор книги: Андрей Антипин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)
5
Раз в три дня с вечера Саня принимал дежурство, а остальное время существовал мелкой шабашкой.
На битьё могил Саню сомустил Борька-юморист, весёлый матерщинник с натасканными в драках кулаками, которые он регулярно выгуливал, и они сцеплялись с такими же наторевшими кипящей сварой, выходя из неё победителями, после чего Борька как ни в чём не бывало шёл дальше, скусывая с костяшек надорванную кожу…
Борьку ценили и уважали.
Он тоже, заодно со всеми, пожелтел от водки и почти пропал в районной больнице, но спас отец. Старикан вырос из каких-то глубинных неразрывных корней, всего в нём намешано было помногу, словно ручейки и малые речки стекались в него разные крови, на скулах и резких надбровных дугах бурля азиатчиной. Словом, повалить такого непросто. Поэтому халявные лекарства старик не пользовал, а выбирал льготу деньгами, от пенсии неукоснительно откладывал и к своей смерти кое-что скулачил, так что Борька чудесно одыбал, а вместе с ним и старик отсрочил своё отбытие на тот свет – на неопределённое время.
Спустя месяц-другой желтизна слезла, а с появлением над котельной печной трубы Борька уже состоял при важном деле. Бросая в топку уголь, он любил повторять: «Ох, распинал бы я голубятню тому, кто подписал меня на эту чахотку!» – и от раскрытого ревущего огня оплывало его багровое худое лицо, метались на сальном бронзовые тени.
Досуг Борька посвящал занятиям более приятным.
Он объявил себя директором кладбища, а замом назначил косоротого хромого Гондураса, по первому снегу откинувшегося из тюряги. Вместе они обслужили уже не одного покойника, всё больше пьяниц и стариков, которых мочалил и обряжал в дорогу хархотник Гошка. Цену просили умеренную. Чаще закруглялись магарычом, варили на старых могилах чай в обожжённой консервной банке…
На Духов день, тёплый и светлый после утреннего дождика, хоронили старуху Никитину, которую Саня встречал весной в поле.
Она жила в избёнке на берегу, в подпёртой со всех сторон угловой ограде, уже давно, не дожидаясь старухиной смерти, задурившей полынью. Ссечь её у обветшавшей старухи никак не сговаривались руки: правая сжимала гладкий, как кость, посошок, левая ковыряла под подбородком тугой узел надавившего платка, тёрла слезящиеся кроткие глаза, а то сменяла на посту правую, а та, в свою очередь, заступала на смену левой. Старик мог бы отлопатить косу и поправить дело, но самого наперёд скосила костлявая, его собачья ушанка истлела на крюку, вверченном в стену бани. Был ещё, правда, сын Юрка, беглый алиментщик и диджей, пальцем крутивший в старом клубе пластинки. Но этот слинял в Кунарейку, куда-то под Иркутск, и не казал носа. Когда ему отписали про мать, он перевёл через сельсовет деньги для погребения, а уже отсюда наняли копальщиков. Поселковые женщины собрали бабу Шуру в последний путь, сгоношили поминки. Старухи посуху, без слёз, проводили подружку до электроподстанции: там начинался сворот на кладбище. Здесь гроб водрузили на дощатую телегу колёсного трактора, которым управлял Ёлочка. Ну, поволоклись через поле в лесок, где серебрились на свету опушившиеся берёзки и осинки. В паху у Ёлочки соскочил волдырь, каждую минуту Ёлочка ждал своей погибели, был набожен и не пил. Он выгрузил гроб и суеверно упылил, бросив копальщиков наедине со старухой, с их чёрным делом…
У Сани это были первые профессиональные похороны.
Жуть напала на его сердце ещё в посёлке, когда бабу Шуру выносили из её некорыстной избы, а потом через большой старинный двор, в котором пахло отцветшей черёмухой и тленом русской уходящей жизни. И теперь эта жуть не отпускала, лапала потными руками, трясла за глотку, колотилась под коленками. Он был сам не свой. Водка, которой он глушил волнение, не лезла, выливалась на рубаху, к вящему неудовольствию мужиков. Едва гроб поставили на свежий воздух, как лицо старухи почернело, запали в рот синие губы, руки измялись и стали фиолетовыми ногти. Саня боялся взглянуть, обмирая от стука крышки, прыгавшей на кочках. Юморист сел на крышку – и Саню помутило, окунуло сначала в жар, затем в холод. Он раз или два срыгнул с телеги зелёной селезёночной пеной. Гондурас, однообразно кидая на дорогу пихтовые ветки, плоско зевнул, надышав на Саню гнилыми зубами, и вручил мокрый от слюны окурок:
– На, керя, сделай пару зябок!
Уже на кладбище Саня суетился без причины, обвалил в могилу часть глины, едва не спровадил туда же доски на полати, пока Борька не огрел его черенком лопаты. А стали стравливать гроб в могилу и Саня услышал: «Отпускаем!» – он, по своему обыкновению, понял буквально – и отпустил верёвку…
Гроб на лету перевернулся, отскочила неприлаженная крышка. Баба Шура, роняя из рук ветки сирени, врезалась лицом в красную холодную яму и уже оттуда, из глубины, ударенная о твердь, отпахнула потемневшее от пятака веко и оглядела свет заволочённым мёртвым глазом.
– Ты чё сделал, образина? – медленно сказал Борька. – Она, бедолага, аж сандали потеряла!
Саня весь съёжился, не находя своей безмерной глупости оправданья. Очки сползли на кончик носа, как две огромные слезы.
– Ты же сам сказал!
– Я тебе ка-а-ак сказал, ушлёпок?!
– Отпуска-ай…
– Дак гроб отпускай, а не верёвку!
Гондурас спрыгнул на гроб, обнял бабу Шуру под мышки и ласково уложил в домовину, надвинул безжизненное веко, а серебряный крестик, сорвав с нитки, сунул себе в карман. Саваном утёр своё потное рыло и грязные руки, потом уже накрыл им сморщенное неживое личико.
– Ну и ладушки, старая, лежи с миром! – И нахлобучил крышку, защёлкнул на два зажима.
В три лопаты зарыли скоро, как собаку.
Саня, тяготясь могильной зовущей пустотой, кидал глину со стоном, не делая передышки, лишь бы скорее заткнуть эту разверзшуюся бездну. Но вдруг застыл в ужасе, увидев старухины туфли, прижавшиеся друг к другу, как в шторм лодочки:
– Туфли-то забыли!
Борька, не меняя сосредоточенного рабочего лица, хмыкнул:
– Их Гондя своей блатной шмаре прибакланил!
Воткнули в бугор, поднявшийся над старухой, самодельный крест. На нём Гондурас выскреб гвоздём и обвёл краской старухины метрики, взятые в сельсовете. Отчество горе-ученик начеркал с ошибками, но исправлять не стали.
– Без чирика сотку оттянула Милентьевна на белом свете! – оскалился прочифиренными зубами, озирая своё творение. – Зажилась, зажилась!
– Рот закрой, придурок лагерный! – сказал отрезвевший на ветру Борька и вытряхнул из сумки, в которую им собирали обед.
6
Поминали тут же, на бугорке, повесив потные рубахи на изгородь, обнёсшую кладбище с трёх сторон. С четвёртой, к лесу, изгородь проломили, сожгли, когда по зиме кострили землю. Отсюда наступали, окапываясь в бесхозном поле, свежие могилы, глядели на посёлок перископами крестов.
С утра заморочи́ло на непогоду, но к выносу ударила вспышка света, соткалась в мире яркость настывающей синевы, перемежаемой нежнейшими, как валки тополиного пуха, облаками. Но всё чаще, застилая небосвод плотной тенью, вздымалось нечто огромное, очень тёмное не чернотой, а сгущённой синевой, и от этого поминутного ожидания грозы, грома, смерти неизъяснимый трепет творился на душе.
Гондурас, у которого от водки больше скривился верблюжий рот, опять вспомнил случай из своей тюремной практики:
– Подтянули, короче, меня и ещё двух отморозков к проходной, дали лопаты и ломы – гоните на пустырь, долбите землю! Я, короче, такой стою, в падлу вся эта канитель. Ну, зарядили прикладом в грудак: ништя-як, равнение на середину! Почесали на скотомогильник, где бесхозных трупаков хоронят. А жмурик, короче, орясина метра два, ему бестолковку кирпичом отоварили. Мы с Дуршлагом типа ковыряем ямку, а Перхоть с Лаптем колотят гроб из горбыля. Слепили какой-то ящик – а этот, жмурик-то, не залазит, ноги мешают! Прибежал Навальный, начальник смены, слюна на пять метров. Приволок топор: нате! Через час проверка. Ну, Лапоть ноги мужику отрубил, запаковал туда же, в гроб. Так зарыли…
Саня тоже вспомнил, как отца повезли в березняк за пашней.
– И? – когда его скучный рассказ был закончен, серьёзно спросил Борька, давая понять, что Сане с его языком лучше не высовываться.
На пиру сидел Саня, а не пилось, кусок острым колом полезал в рот и долго стоял в кишках. От разговоров, которые вели его грубые кореша, судорога продирала Саню от макушки до пят, тело и душу будто разрубали надвое. На всякий случай он пас вилки и нож, а если они исчезали из виду, весь обмирал и поднимался.
Набыченный, с отвисшей челюстью Гондурас, по слухам, убил родную мать, пнув её в висок кирзовым сапогом с железной набойкой, скрывался у бабки в Серпухове, пока та обо всём не прознала и не настучала в милицию. Теперь он, как так и надо, жил-был на свете, тырил Санины папиросы, смешивая табак с катышками конопляного масла, серого от карманной пыли, часто и мелко подрагивал беломориной, вшёптывая в себя волоокий дым, и нудно, поднарной блохой ржал, напрягая открытые, как у лошади, ноздри и стукая неровными щербатыми зубищами. А спустя миг он уже орал что-то, несоотносимое с темой разговора, месил воздух руками и глядел сквозь, вращая двумя загашенными глазами-скорлупами. Наблюдая за Гондурасом, Саня даже трезвел, будто шёл по зелёному тихому лугу, где думалось хорошо и, ломая смычки, играли кузнечики, – и вдруг его перекрестили жердью…
Один Борька всё презирал, а паче страхи и сомнения. Споря с Гондурасом, тоже что-то кричал, тугой кадык, словно поршень в насосе, с напором ходил в красной шее, то выталкивая наружу литое, мокрое и солёное словцо, – и тогда всем становилось печально и больно, а то давая горлу набраться воздухом, чтобы снова выстрелить наповал или сплюнуть. И тоже что-то дикое, бог весть чем сдерживаемое было в Борьке, в его бритких кулаках, уже раз или два предупредительно разорвавших воздух, в коротких сильных ногах с крепкими, как булыжник, коленками, которыми он мог устроить месиво во рту, в нервных частящих движениях по траектории стакан-бутылка, вообще во всём этом быстром, неровно стареющем, порывистом теле.
– Не бзди-и-и, не бзди-и-и-и! Будете бзде-е-еть на своих похоронах! – время от времени страстно, но экономно предупреждал Борька, выплетая свой голос из какого-то очень едкого веретья. Смысл его кратких, как у спартанца, слов был яснее синего неба: говорить, при Борькиной-то жизни, они никогда не будут.
За короткие промельки мысли и духа Саня ещё догонял умом, что вот живёт он в глухом краю, сидит на чужбинном кладбище, где лежат неизвестные ему люди, молчит среди живых, но также посторонних для него людей, и чужая земля его холодит. А где-то родная мать жуёт хлебную корку, макая в кипяток, или, может быть, руками таких же, как он сам, шабашников для неё роется вечное становище! И вот эти-то случайные люди, эти равнодушные скоты кое-как обрядят её – маленькую и сухонькую, словно выветрившуюся, с заострившимся носом, – впихнут в гроб и столкнут в могилу, а затем под хохот и мат справят свой собачий праздник. Но как же он тогда может существовать на белом свете? Чего же не провалится в тартарары? Почему не разразится гром, не прольёт на его беспутную голову чашу, полную дымной серы?..
Этот-то карающий гром, эта-то накренившаяся небесная чаша, точнее, страх непременного возмездия за грехи – всё то, чем пугали его ещё в детстве, какое-то время держало Саню в узде. А вот же, пришёл час смятения и смуты – и ничто уже не могло его стреножить! Саня однажды будто взбурлил и разом выкипел до дна, до горьких одоньев, до золотой клёпки, которой Создатель закрепил в его теле больную, шальную, чумную душу, а ныне подписал ей увольнительную…
Прощай, прощай!
Наполняли ещё и ещё – и вот уже не только далёкий, туманный лик матери сиял на Санином небе едва-едва, но и лица напротив затягивало тучками, шурум-бурумом относило за горизонт – или это его, Саню, отшатывало от них? И всей связкой, в эти мгновения существовавшей между Саней и его подельниками, вообще этим чужим другим миром, была лишь Санина выставленная рука со стаканом. Забываясь, Саня кого-то искал по сторонам пустыми глазами. Но никого и ничего уже не находил – даже надгробий и оград, от которых ещё утром было пёстро и тесно, словно его обложили в этом кладбищенском сосняке. Слух его, как два ватных шара, мягко оседал в некую яму и, увлекая Саню за собой, молчал сам и его звал молчать на этом пропащем дне. Саня помнил только, что Гондурас на трёх ногах – Юморист для пущей скорости выделил ему черенок от лопаты – бегал за водкой в посёлок, попутно завоевал у кого-то полбулки хлеба и солёные огурцы, смявшиеся в кармане. И всё это смели одним хапом. Громко орали, махали руками. А затем Борька за снятый с бабы Шуры крест бил Гондураса смертным боем прямо на старухиной могиле.
…К ночи вызвездило и остыло, Саня проснулся от холода. Он резко разомкнул веки и увидел двух себя, склонившихся над ним. Оказалось, припозднившаяся корова явилась на кладбище, и глаза её были большие и влажные, как от слёз. Ни Юмориста, ни Гондураса не было. Исчезла и общаковская сумка. В голове у Сани было чугунно от водки, во рту – кисло от табака. Пальцы, которыми он пытался выскоблить ремень из бляшки, его не понимали.
– Ох, мамка! Эх, Родя! Отлить хочу, как медведь бороться! – пробормотал Саня и не узнал своего голоса.
Прыгая на одной ноге, Саня зажмурился и со злости рванул распаряху, с которой посыпались пуговки. От жажды какого-нибудь яркого подвига, внезапно пробудившейся в нём, он помочился бы на люминесцентную луну, стоявшую над чёрным в ночи кладбищем. Но с пары литров было не достать, в него ведро заливай для напряжения в пузыре. И он, кряхтя и отплёвывая вязкую пену, сослепу навёл серебряную косую струю на свежую могилу. Мерцали на комьях глины срезы от лопат, дул в лицо ветер и разбрызгивал струю на грубый крест.
7
Со дня тех похорон, с той ужасной июньской ночи, когда он очнулся на кладбище, с Саней стряслось что-то необъяснимое.
Это что-то давно, как видно, назревало в нём и только подгадывало час, чтобы проклюнуться и стоптать с себя скорлупу. Когда он в очередной раз явился на смену, Юморист, концом заточенной ложки резавший на пороге сало, посмотрел в Санино землистое лицо и сказал:
– Как будто хрен у соседа съел или гудок чесноком помазал!
Он чутко спал, пробуждаясь оттого, что кто-то медленно, разлучая шов за швом, нитку за ниткой, вспарывал над ним плотную ткань. Проблескивали в темноте два кружочка – Саня брал со стола очки, – и странный звук исчезал, но едва Саня забывался, как снова начинали рвать и кромсать, и он, открыв глаза, остаток ночи лежал с расколотой башкой.
Но и днём Саня не находил покоя, и даже ел урывками, на хвату, лишь бы мало-мало заморить червячка, этим животным, организменным забалтывая и утомляя высокое и летучее, нывшее взаперти под рёбрами.
Вся прошлая жизнь словно вздыбилась в его четырёх глазах и, свистя и гикая, пошла на него.
На стене, как на клубном экране, оживали и обрастали подробностями два печальных силуэта, объятых кинематографическим искусственным мороком. Но и сквозь эту кольцевую завесу, сквозь рубиновую пыль Саня узнавал их, ясно слыша за стрелянием раскручиваемой вертушки хриплые, как в старых фильмах, и такие родные голоса. Затем раздавался смачный не то хряск, не то треск. Изображение распадалось – и меркло, как застывающее олово, а кончик оборванной плёнки вращался на бобине, точно стараясь нагнать и удержать ускользавшее дыхание, убегавшее движение, утекавшую речь…
Саня вскакивал и, промазывая ногами по тапочкам, с крупным потом на лбу обходил котельную, светя в углы фонариком, и брезгливо различал в себе, мокром, как лягушка, преступную подлость ушей, потому что в минуты трепета и ужаса только уши оставались сухими.
Его бледное лицо, отражаясь, безобразно расплывалось в лужицах, образуемых на бетонном полу прогнившей сливной системой и золотившихся от света фонарика, и через весь его мученический лик, рябивший от падающих капель, с хлюпом проносились на красных лапах мерзкие облезлые крысы. Никого, кроме крыс, не найдя, Саня с ногами выстелался на кушетке и бессмысленно встречал рассвет, ржавевший над крышами посёлка. И так-то, наблюдая однажды это молодое, но уже конченое солнце, слушая мертвецкое молчание стены, на которой больше никто не оживал, Саня с замахом, как палёную водку, заглотил своё бездомное одиночество, никчёмность всего, чем он до этого жил на земле, и словно увидел за собой сгоревшую степную полосу, а впереди – совсем ничего, только мрак, пустоту да зияющее открытой грудной клеткой кладбище, – и содрогнулся навек растраченному себе…
На другой день он сграбастал и сжёг в бочке все книги, что натаскал в свою клетушку, и чёрные испепелённые страницы, как вороньё, кружили над огородом и человеком, стоявшим посреди с непокрытой головой. Бочку с ещё горячим прахом опрокинул вверх дном, над шапкой бумажной слоистой золы возвёл узкий бугор из глины.
Обвязав бритую голову косынкой, Ёлочка второй раз за лето огребал картошку. Но, молодая и шебутливая, она кипуче росла, спустя неделю победно разваливая земляной купол, в который её заточили, – Ёлочке опять заделье на весь день. К сорока годам он пропил последнюю совесть, а предпоследнюю берёг в загашнике, и чтобы её, тайную, не спёрли по пьянке, с некоторых пор он сидел дома и кое-что кумекал, но доискаться до всего смысла разом – пугался.
Он спросил об этом смысле у Сани:
– Болты с гайками сводишь, сосед?
Саня, обмыв из ведра со вчерашним дождём руки и лицо, с наслаждением встряхнул волосами:
– «Мы – бо́мжи от поэзии, мы – шваль!..» Как говорил мой друг Лёша Решетов, царство ему небесное.
– А-а! – рассыпался Ёлочка сухим трезвым смехом.
От шабашек Саня по возможности косил и, оставаясь дома, хитроумно запирал ворота изнутри. Но скрываться, между прочим, было просто глупо, когда ждала великая работа. Борька с Гондурасом получили от сельсовета сказочный калым: ожидая по зиме большой людской мор, строили на кладбище тёплую избушку с печкой и нарами, кладовку под инвентарь и крытую уборную, а Саня им нужен был подносить топоры-гвозди да шестерить у кухонного котла.
Юморист, не умея зайти в ограду, с дороги пулял камешками в провисший оконный целлофан, а Саня, прорезав в целлофане глазок, подсматривал и ждал, когда человек устанет и сгинет.
– Нету его, слышь?! По грибы, что ли, учесал… – врал сообразительный Ёлочка, покуривая на терраске, и черемуховой веткой отмахивал от дышащей форточки дым и комаров, потому что за окном жена Зоя кормила пшенично-смуглой грудью что-то розовое и душистое, как банное мыло.
Борька сомневался, качаясь с носка на пятку и презирая Ёлочку за его тихий уют, за измену былым принципам и передовой морали, а больше за тёплую податливую жену, которая ждала Ёлочку в постели:
– Какие грибы, придурок, в час ночи? Разбежись и шибанись об угол!
Всё в Сане натянулось в одну тугую звонкую боль, и куда бы он ни шёл, по делу, а чаще без него, шатался ли в ограде и по дому, задевая то сырой куст сирени, то самого себя в мутном омуте трюмо, всякое прикасание чувствовалось особенно сильно. Было это так, как будто всё Санино тело опухло от ударов, а уже в теле вместе с кровью запеклась и схватилась корками душа, и когда ворошили тело, душа мелконько трескалась, расползалась кусками и кричала. Она словно бы лизала сама себя шершавым языком и оттуда, из Саниного нутра, озирала хозяина голубыми преданными глазами да тяжко вздыхала, изымая это дыхание уже из своей душевной глуби. И если Саня кое-как, но управлялся с душой в себе, то с тем, что было в самой душе, он совладать не мог, слабо представляя, что ту, душевную боль, сестру его внешней боли, руками не согнуть. Но было, наверное, какое-то вышнее знамение, стояло над грешным существом, отводило от его чела смертные удары, раз уж сам человек всё ещё жил, слабой былинкой колеблясь на ветру…
Сны ему не снились, и если он засыпал под утро или в дождь, когда с крыш рыдало, чавкали дороги и посёлок погружался в мозглую мглу, то в глазах у Сани, как стопкадр, замирал чёрный квадрат. В квадрат лезли безмозглые существа с крысиными хвостами вместо усов и куда-то манили. Пробуждаясь, Саня видел, что это не квадрат, а дверь в дежурку, и в дверь ломилась красная от жары и похмелья морда Гондураса, искавшего носки:
– Сандро, мои бумеранги не пролетали?
Глаза у Сани запали, из них вымыло былой металлический блеск, и даже ранний стакан водки, которым он опалял нутро, не задувал в него февральской метелью.
Пьянства он тоже, впрочем, стал сторониться, а мужикам объяснял свой отказ, положив руку на сердце.
– Моторчик! – душевно сочувствовали мужики.
Борька, как путный, наказывал съездить в больницу:
– А то я руки порву тебя хоронить…
Но до Борькиных тягот было далеко, а в больницу Саня с гнилой душой и со своими страхами не ездок.
И, засмотревшись в себя, Саня наконец свыкся со своей новой болью, обжился в ней, как в наросшей скорлупе, и мало-мало разобрался с новым собой, как с руководством к незнакомому электрооборудованию, которое в конце месяца завезли в котельную на смену старому.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.