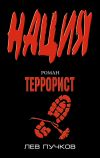Текст книги "Ось земли"
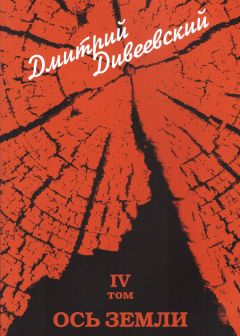
Автор книги: Дмитрий Дивеевский
Жанр: Политические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц)
1934. Воля
Воля шагала впереди пионерского отряда по набережной Волги. Позади нее громко трубил горн и стучал барабан. Отряд направлялся на агитспектакль в клуб пролетариев Поволжья, расположенный неподалеку от речного вокзала. Сердце Воли прыгало от восторга. Она шла впереди отряда, а над Волгой плыли высокие белые облака, волны плескались в берег и сверкали солнечными зайчиками. С реки слышались гудки буксиров. Воля чувствовала себя участницей этой интересной и радостной жизни. Отряд строем вошел в клуб, где его ждала заведующая.
– Ребята поспешайте, все уже собрались. Какую композицию подготовили?
– «Скажем фашизму нет!»
– А, понятно, очень хорошо. Давайте переодевайтесь, через десять минут ваш выход.
После доклада о международном положении, который делал представитель горкома партии, в зале притушили свет и занавес раздвинулся. Зрителям открылась сцена с письменным столом в центре. За столом стоял Витька Пузин с зачесанной набок челкой и усиками под Гитлера. Он упер руки в бока, выпятил живот и смотрел в зал остекленевшим взглядом. За его спиной на стене висела большая черная свастика.
Витька начал:
Могучий самый в мире я
Имею очень планы.
Мне нужен русская земля
Моря и океаны.
Я скоро буду нападай
И всех возьму в рабы я
А первым делом – упадай
Советская Россия.
На сцене появляется еще один фашист, он же пионер Витя Худяков
Я-я, мой фюрер, хорошо,
Быстрее бы дорваться,
И разотрем мы в порошок
Всех красных оборванцев.
В зале засвистели. Кто-то бросил арбузную корку. На сцену выходит третий артист в цилиндре и подложенной под фрак подушкой. Это буржуй. Он обращается к фашистам:
Вы что-то очень медлить.
Давай-давай война.
Нам красные соседи
Не надо ни хрена.
Появляется немецкий офицер.
Мои войска готовы
Вы только приказать
И будем над Москвою
Победу получать
За сценой раздается шум, гам, хлопают хлопушки, гудит горн, появляется отряд пролетариев во главе с Волей. Пролетарии плотным строем подступают к фашистам. Воля встает лицом к зрителям, поднимает руку и декламирует:
Есть далеко на Востоке
Лучшая в мире страна
Люди куют себе счастье
Никому не грозит она.
И я, пролетарий немецкий
Знаю, что счастье мое
Лежит далеко на Востоке
Не дам я в обиду ее.
Врагам и отпетым фашистам
Скажу я слово свое:
Чтоб не было вас даже близко
От светлых границ ее.
С этими словами Воля поворачивается к пролетариям и восклицает:
Товарищ рабочий немец
Сегодня на много лет
Ты должен сказать открыто
Фашизму решительно нет.
Пролетарии хором повторяют:
– Фашизму нет! – и плотным строем наступают на фашистов и их приспешников. Те отступают сначала медленно, а потом бегут. Пролетарии преследуют их, размахивая флагами и исчезают за кулисами. Зал топает ногами и свистит.
Воля остается на сцене одна и слезы восторга текут по ее щекам. Она счастлива. Она в центре жизни. Она строит новый мир и идет в первых рядах его строителей.
Зал требует на бис остальных артистов и они тоже выбегают из-за кулис. Следом выходит заведующая клубом и обращается к залу:
– Товарищи! Вы просмотрели инсценировку пионерского отряда пятой городской школы, которую пионеры придумали сами. Руководителем их творческого коллектива является Воля Хлунова.
Она подтолкнула девочку вперед. Воля сделала шаг и отдала пионерский салют. Аплодисменты в зале и свистки усилились. Ребята явно попали в яблочко. В Европе разгорался фашистский пожар и не было на Поволжье пролетария, который не следил бы за ним с возрастающим напряжением.
Потом отряд разошелся по домам. Воля шла по набережной Волги, под Кремлем, наполненная переживаниями от успеха и думала о себе и своих родителях.
Она очень уважает своих родителей и делает все так, как хочет мама. Воля очень любит маму, хотя мама не очень ласковая. Она работает в ОГПУ, у нее тяжелая работа. Она поздно приходит домой, и часто остается на ночь. Она устает и постоянно нервничает. Она строга к Воле, но Воля любит ее и прощает ей ее строгость, потому что мама тоже строит новую жизнь. Волю любят в классе, потому что у нее такие родители. Ее папа тоже работает в ОГПУ. Но Воля никогда не зазнается, потому что это не хорошо. Она никого никогда не обижает, но в ней есть строгость к врагам народа и к врагам товарища Сталина. Воля всегда готова бороться с любыми плохими людьми, которые не хотят счастливого будущего. Она учится быть суровой. Она сурова к мальчикам. От них не нужно ждать ничего хорошего, так говорит мама. Один одноклассник хотел к ней приставать, но она этого не хотела. А он приставал, и Воля дала ему кулаком в нос и у него потекла кровь. Мальчишка убежал, а Воля осталась довольна. Она решила, что будет колотить в нос всех приставал.
У них очень хорошая семья, но мама не любит папиных родителей, которые живут в Кстове. Когда родители приезжают к папе, мама остается на работе и не приходит. Бабушка и дедушка знают про это и потихоньку плачут. Воля спрашивала у мамы, почему они плачут. Мама сказала, что не надо всяким слезам верить, потому что многие люди притворяются. Папины родители тоже притворяются. Они не хотят, чтобы папа работал чекистом и просят его уйти с работы. Мама сердится и их ненавидит. Воля тоже стала их ненавидеть, потому что работа чекиста очень важная и только плохие люди могут об этом просить. Папа расстраивается. Он хороший, хотя и не родной. Он добрый. Иногда по вечерам играет на гармошке и поет песни про Волгу. Но это песни крестьянские и мама говорит, что они отсталые. Еще мама говорит, что в городе много врагов народа и нельзя расслабляться. Раньше Воля об этом не думала, а теперь ей 13 лет и она об этом думает. Лучше бы не знать про врагов народа, но если они есть, то надо думать.
1934. Убийство Кирова
Зенон ловил себя на мысли, что троцкизм стал его фикс-идеей, которая не дает ни спать ни есть. Он уже понимал, что Троцкий не смог бы всколыхнуть такую волну, если бы не внутренняя готовность русского народа к троцкизму. Этот народ был готов к революции, а всякая революция – это насилие. И уж где-где, а именно в области насилия троцкизм появляется легче всего. Поэтому на самом деле он был широко распространенным явлением, готовым прибегать к террору везде, где найдется возможность. Когда очередь в изысканиях Зенона дошла до изучения случая с убийством Сергея Кирова, профессор попытался посмотреть на него с точки зрения сшибки двух общественных волн, каждая из которых была заряжена насилием – волны троцкизма и волны сталинизма.
Зенон перечитал все доступные документы об убийстве Кирова, но так и не сумел сделать однозначных выводов. Хотя кое какие заключения ему в голову пришли. Первое состояло в том, что в ленинградском ОГПУ были работники, сознательно допустившие выстрелы убийцы. Но это совсем не означало, что ими руководила Москва. Во вторых было видно, что множество сил сразу после убийства и годы спустя приложили руку к тому, чтобы запутать следы. Большинство из этих сил старались навести тень на Сталина. Однако со своим опытом пожившего на свете человека и искушенного историка, Александр Александрович не спешил увлечься этой версией. Даже если поверить множеству авторов, которые утверждали, что Сталин видел в Кирове соперника, то эта версия не сходилась по времени.
В начале 1934 года Сталин был избран на очередной срок генсеком и Киров для него никакой даже теоретической опасности не мог представить на ближайшие годы. Тем более, если вспомнить, что он ни в какую оппозицию к Сталину никогда не записывался. Все документы показывают, что Киров был доволен своим местом ленинградского начальника и поддерживал самые дружеские отношения со Сталиным. Между ними не было никаких проблем. Зато у питерских недругов Сталина под руководством Зиновьева был прямой интерес в устранении близкого соратника генсека.
После некоторых размышлений Зенон решил наведаться к Порфирию, который в 1934 году здравствовал и являл собою заметный персонаж в бурливой московской жизни. Профессор плюхнулся в кабинет Поцелуева как раз в тот самый момент, когда Порфирий, вдохновленный музой нежной страсти, читал собственные стихи какой-то начинающей поэтессе.
Грузную фигуру критика облекал шелковый халат, из под которого виднелись волосатые ноги со спущенными носками, лицо покрылось испариной вдохновения, вытянутые руки держали синюю рукописную тетрадку. Гостья же распростерлась в необъятной софе Поцелуева и полузакрыв глаза, внимала рифмам в той самой позе, которая предполагает ожидание стремительного броска мэтра.
Ты бросала мне ветки сирени,
И призывно кричала «Ау»,
И бежала быстрее оленя,
По цветному лесному ковру.
Я нагнал тебя словно зайчонка,
Нагоняет стремительный барс,
Обхватил за худые плечонки,
И испил синеву твоих глаз.
Ах, какая чудесная нега,
Расплескалась в болотной заре,
Ты была словно быль или небыль,
В моей жизни. Как снег в сентябре.
Когда Зенон явился в помещении, мутные глазки Порфирия прояснились, а лицо приняло недружелюбное выражение. Поэтесса растворилась в воздухе, а Порфирий внезапно протрезвел и сказал:
– В кои-то веки собрался вернуться в собственное прошлое, чтобы хоть немножко отдохнуть душой и тут появляется этот старый архивариус.
– Лучше бы мне не появляться, право дело. Таких пошлых стихов я в жизни не слыхал. Как это Вы, Порфирий Петрович, строгий ревнитель прекрасного, докатились до таких поганых виршей?
– По правде говоря, стишата эти я написал еще будучи уполномоченным публичного заведения господина Мосина. То есть, совсем безусым мальчишкой. А приплел их сейчас чтобы исполнить с Настюхой дуэт нежной страсти.
– С Настюхой?
– Ну, да. Настюха Лошак, она же Нателла Перецветова. Пишет стихи о комсомольской любви. А я их рецензирую. Такая вот у нас дружба.
– Что-то не помню такую поэтессу.
– Поэты, которые о комсомольских стройках чирикают, это вовсе не поэты, а рифмоплеты. А Настюха-то вообще в поэзии полный лошак. Вот, послушайте:
«Ты вздымал свой увесистый молот
Чтобы крепче отчизна была.
Отдала бы себя комсомолу
Всю, в чем мама меня родила»
И, выпучив глаза, Порфирий громко загоготал, а Зенон подхватил его смех, схватившись за живот. Потом, переведя дух, спросил:
– И Вы ее рецензируете?
Поцелуев глянул на профессора хитрыми глазками:
– Еще бы! Вот написал в «Комсомольской правде», что Нателла Перецветова являет собою редкий поэтический дар, в котором полет духа и стремление плоти переплетаются в органический дуэт. Но, сказать по правде, девка она редкая. Всю ночь без остановки в благодарность за отзыв мочалить может.
– Неужели Вы такой натурой плату берете?
– Вы, что Александр Александрович, за полового хулигана меня принимаете?! Да ни в коем разе! Я от этих поэтесс едва отбиваюсь. Женщины по другому мир воспринимать не умеют. Вы то, слава Богу, на свете пожили, должны бы знать.
– Досадный пропуск, Порфирий Петрович. Не знал-с. Только что-то не пойму, что Вы сейчас-то хотели с ней учинить. Наверное не очень важно, в каком виде Нателла способна отдаться, в чем мама родила или как-то по иному. Мы-то с Вами сегодня тени.
– Очень Вы много понимаете о нашей жизни. Лучше говорите, чего это Вы к нам пожаловали. Я тут отвлекся с поэтессой, не следил за Вашими изысканиями. Вроде и повода особого нет.
– Повод сейчас будет. Сегодня после обеда убьют Кирова.
– Ну и что с того? Мало ли всяких вождей поубивали.
– Какой же вы циник, Порфирий. Ведь это убийство откроет новую эпоху террора! Сталинизм вступает в фазу прямого насилия….
– Экой ты фантазер, Сашхен! Уж сколько времени по эпохам скачешь, а все в сказки веришь. Насилие, бессилие, Кирова, поди, жалко, слезы прошибают. А ты в ленинградский архив ГПУ загляни, ох, сколько приговоров за его подписью сыщешь. Смертных приговоров! Так что кончай мне тут детский сад устраивать. Хочешь, коньячку дернем и Нателлу с подружкой позовем? Там у нее такая французская булочка есть, просто пальчики оближешь.
Профессор взвился от возмущения над Порфирием как коршун:
– Ты что плетешь, негодяй? После этого убийства эшелоны невинных людей в лагеря пойдут. Эшелоны невинных! Как ты можешь…!!!
Порфирий оторопело отшатнулся от Александра Александровича. Таким он его еще не видел.
– Сашхен, дорогой, успокойся. Что ты, право дело, как ребенок. Эшелоны какие то придумал. Да лагеря с восемнадцатого года существуют, вот диво!
Ты, что, о невинных печешься? Тогда почему с сегодняшнего дня? Невинных уж двадцать лет как преследуют. Может, дернешь коньячку? Пять звездочек, «Самтрест».
Он налил профессору в стакан и тот, стуча о стекло зубами, сделал глоток. А Зенон продолжил:
– Ты, Сашхен, похоже, как исправный европейский политолог, весь корень зла видишь в Иосифе. Только это ерунда.
– А что не ерунда, кто тогда корень зла?
– Корень зла, дорогой профессор, в том, что в 1917 году Россию повалила и изнасиловала шайка разбойников. А потом они передрались между собой. Ты думаешь, кто нибудь из этих разбойников будет действовать по правилам? Смешно даже! Они дубасятся без всяких правил.
– Что, и твой любимый Сталин, по твоему, тоже разбойник?
– Ну, если он в молодости инкассаторов грабил, то кто же он еще?
– И это твой кумир?
– Кумир не кумир, а лучше остальных.
– Налей мне еще немножечко и объясни. Я совсем сбился с толку.
– А вот это мужской разговор. Давай по глоточку.
Друзья выпили и Порфирий продолжил:
– Родина наша, Сашхен, своей вселенской роли не выполнила и закономерно была поругана антихристом. Мы сегодня несем ответ за то, что сами допустили. Ну, вот, допустили беснование самых темных сил, которые между собой передрались. И что теперь, не видеть ничего? Ты можешь закрыть глаза, а я вижу, что на Сталина вся надежда. Если бы победил Троцкий, что бы случилось? Не стало бы России окончательно, правильно?
– Видимо, ты прав.
– А как по другому? Он же не скрывал, что для него Россия – бочка с порохом для подрыва всего мира. Но победил Сталин. Чего он хочет? Он хочет построить свою империю. Какую империю? Национальную! Он – национал-коммунист, но как мы с тобой знаем, из этой затеи ничего не получится. Так в чем его заслуга? В том, что он Россию от Троцкого уберег. И на этом низкий ему поклон.
– А цена не велика?
– Ты что, думаешь, мы цену уже заплатили? Нет, Сашхен, все еще впереди! Конечно, хорошо бы чтобы как у Блока, вместо Сталина «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос». А он вместо белого венчика кровавый венец на себе пронес. Кровавый, из трупов сплетенный. Страшный человек, страшный. А Россию для истории сохранил. Приготовил для дальнейшего пути: бери, развивай империю. Только на его место уже толпа убийц и идиотов рвалась. Разве это не наша кара за предательство православия? Или думаешь, ну, теперь наконец-то все, точка, пришел Путин. Будет хорошо? Он и вправду, с царем в голове. А бесовский выводок разве куда нибудь делся? Нет! И он тоже здесь! Мы еще с этими чертями столкнемся, страданиями своими дорогу к справедливости будем прокладывать. Мы за нее большую цену заплатим! Такая уж нам дорога предначертана.
– Ты хочешь сказать, что Третий Рим, это…?
– Чего здесь непонятного? Хочу я того или не хочу, у Господа только одна надежда – на Россию. Вот и спрос такой беспощадный. А деваться то ведь некуда, Сашхен. Никто за нас спасать веру не будет.
– Уж не по всему ли миру ты думаешь ее спасать?
– Я ничего сам давно спасать не могу. А вот, полагаю, годков так через двадцать русский народ перед таким выбором и окажется. И будет ему этот выбор тяжким крестом. Господь-то, помнишь, у Отца в Гефсимании избежать чаши сей просил, да Отец по-другому решил. И мы чаши сей не избежим.
1936 Настя
Настя лежала в мягкой, усыпанной полевыми цветками траве на берегу Казенного пруда и смотрела в небо. Небо текло через ее глаза, а невидимые потоки прохладного воздуха носили душу между белыми облаками как легкую пушинку. Ей казалось, что вся она растворена в окружающем мире. Нет ни тела, ни мыслей, ни желаний. Просто посреди вселенной существует ее душа, готовая любить и приносить счастье. Ей уже немало земных лет, целых шестнадцать, и она прошла их закрытым от мужчин плодом познания. Никому недоступная, никем не тронутая, потому что с первых своих лет знала о будущей главной встрече, для которой ей назначалось беречь полученный от Господа Дар Жизни.
Ей было пять лет, когда мать привезла ее в Саров, к мощам Серафима Саровского. Советская власть во всю учреждала в стране атеизм, но в двадцать шестом году еще стояли многие церкви и монастыри, хотя им приходилось очень трудно. Еще год оставался до разорения Саровского и Дивеевского монастырей, хранителей мощей и реликвий великого молитвенника о земле русской.
Уже при подходе к Свято-Троицому храму, где хранилась рака, сердце девочки забилось громко-громко, наполняя всю грудную клетку ощущением волнующей тяжести. А когда она приблизилась к святыне, то скованное волнением тело ее ощутило теплую и любящую силу, которая будто переливалась ей в душу неизвестным сладостным напитком. Она вышла из храма, неся в себе ощущение внутреннего света. На выходе из храма им улыбнулась какая-то монахиня и погладив Настю по головке сказала:
– В тебе любовь святая, …. Храни себя, берегись бесов…
И затем обратила взгляд к матери:
– К вере ее веди. Не приведешь – грех будет.
Поездка оставила в Насте глубокий след на всю жизнь. Она поняла, что предназначена для чего-то очень важного. Ей трудно было понять, что предрекала монахиня, но зато это поняла ее мать. Она услышала в словах главный смысл: душа девочки настолько хрупка, что без защиты веры погибнет. С тех пор мать старалась брать девочку на все службы и причащать как можно чаще. Уже к десяти годам Настя наполнилась тем светом, которым наполняются люди, души которых посетил Дух Святой. Это было видно и в чистоте ее взгляда, и в необыкновенно искренней улыбке и в не по возрасту смиренном поведении. Уличные подружки дразнили ее монашкой, но она не проявляла никакой склонности подражать им в проказах и забавах. Будто навсегда отпечатался в ее сердце взгляд неизвестной монахини: «В тебе любовь святая, ….храни себя, берегись бесов»».
Когда девочке исполнилось пятнадцать лет, она запросилась в монастырь. На улице шел тридцать пятый год. Церковь уже подвергалась небывалым гонениям, но еще не все храмы разрушили, не все монастыри упразднили. Заключительный акт трагедии предстоял впереди. Идти в монастырь в такую пору было безумием, но мать повела Настю в женскую обитель.
Настоятельница монастыря мать Ирина долго и внимательно беседовала с Настей, а затем сказала:
– Нет, Настенька, не к нам твоя дорожка. Все у тебя правильно в сердечке, всем ты нам подходишь и можно было бы тебя на испытание взять. Только есть для тебя свой путь. Господь в твоем сердечке постоянно живет, и его промыслом все свершится. Не зря дивеевская монахиня о бесах говорила. Тебе среди них жить и свою роль играть. Какую роль – не знаю. То мне не ведомо. Только не в монахинях твоя планида. Поверь мне, не в монахинях. Поэтому иди девочка, в мир. Богу молись так часто, как только сможешь. Он тебе дорогу и укажет.
Настя пошла в мир и устроилась ученицей в швейную мастерскую, которую возглавляла мадам Кацман. Кода-то, при старом режиме, родители мадам Кацман имели на месте мастерской большое «ателье», в котором состояли клиентами все состоятельные люди уезда. Это было очень солидное заведение. Достаточно сказать, что его вестибюль украшали не только зеркала и пальмы, но даже портрет Его Императорского Величества в полный рост. В восемнадцатом году папаша и мамаша не перенесли конфискации их имущества революционным пролетариатом, который растащил швейные машинки и рулоны ткани по домам. Они отправились в лучший мир, а их «ателье» превратилось в постоялый дом для приезжих командированных партработников. Пару лет спустя, с приходом НЭПа дочка старых Кацманов Роза сумела отвоевать себе помещение в родительском доме и возобновить дело на разоренном пепелище. Она быстро стала законодательницей окояновских мод для местных совслужащих и их супруг, проявляя удивительную живучесть перед лицом рабоче-крестьянской инспекции. Но пришла пора и железная рука советской власти задушила это прибежище капитализма, хотя каким то чудом Роза Борисовна из владелицы ателье сумела перековаться в заведующую мастерской индивидуального пошива при районной промкооперации.
Мадам Кацман поручила тихой и незаметной девочке заниматься оторочкой дамских изделий, что оказалось делом довольно тонким. Но у Насти были сноровистые пальчики и уже через несколько дней она могла положить обметку и «елочкой» и «лесенкой» и другими мудреными фигурами. Вскоре она получила персональное рабочее место и день на пролет ловко подгибала и обметывала юбки жен новых хозяев жизни, а также жилеты их супругов. Для нее большая по уездным понятиям мастерская, в которой трудилось полдюжины человек, стала открытием взрослого мира, с его немилосердными законами.
Этот мир ворвался в ее жизнь уже в первые дни работы у мадам Кацман. В заведении трудились четыре швеи и закройщик Николай, мужчина лет тридцати от роду. Все швеи были женщинами в возрасте, две из них работали еще при родителях Розы Борисовны. Настя была единственной молоденькой работницей в этом коллективе. Закройщик, по всеобщему мнению, не смотря на разницу лет в свою пользу, являлся кавалером заведующей. Жена его, худосочная и бледненькая мещанка, ни в какое сравнение с сорокалетней хозяйкой идти не могла. Мадам Кацман считалась в городе первой дамой. Пышные смолистые волосы, игривые серые глаза и роскошный бюст мечтательных размеров делал ее тайным кумиром многих местных подвижников науки сладострастия. Но жизнерадостная улыбка Розы Борисовны и ее веселая манера общения вовсе не свидетельствовали о склонности к полуночным приключениям. Она воспитывала прелестную дочку Женечку, ровесницу Насте и подавала ей пример приличного поведения. Единственным счастливчиком, которому по случаю доставалось немного внимания хозяйки, был закройщик. Правда, будучи моложе ее на десять лет и беднее умом на несколько поколений, он никак не годился в серьез составить ей пару. Мужчина он был видный, гладкий лицом и чистый глазами, но никаких особо интересных качеств за ним не замечалось. Поэтому швеи давно и твердо решили, что Роза «тешит с ним беса», который, как известно у сорокалетних женщин частенько поселяется в складках одеяла и изводит их по ночам щекоткой.
В свободное от клиентов время Николай любил пройтись по помещению выкатив грудь и побалагурить со швеями. Шутки у него были простые, но и швеи тоже не благородных кровей. Смеялись охотно, лишь бы развлечься. Николай был в излишней мужской силе и редких утех с хозяйкой ему явно не хватало. Он частенько пощипывал швей, а при случае и норовил забраться под лифчик. Но те били по рукам и не позволяли баловать. К Насте закройщик не прикасался, словно чувствовал ее чистоту и побаивался ее. Но по его тайным взглядам она видела, что имеется у него к ней интерес и чувствовала, что однажды он этот интерес проявит. Так и случилось. На Духов день, который при советской власти стал рабочим, заведующая все же распустила сотрудников по домам пораньше, Настя задержалась на своем месте. Она не обратила внимания на то, что Николай тоже не ушел, а затих в своем закутке. Вскоре он появился в зале, заметно пьяный, и прямым ходом направился к девочке. Его голубые, на выкате глаза туманились предвкушением удовольствия, по губам блуждала хмельная улыбка. Закройщик сел напротив Насти и не раздумывая положил руку ей на колено.
– Ну что красивая, в игры играешь? – спросил он вкрадчивым голосом, источая запах перегара и лука. Настя в страхе сжалась. Она не знала, что отвечать и как себя вести. Николай понял это по своему, обнял ее за плечи, притянул к себе и шумно дыша, принялся расстегивать пуговицы на блузке. Жар большого чужого тела, запах водки и пота, страстное и шумное сопенье Николая вызвали отвращение у девушки. Страх куда-то делся. Но не гнев, а чувство оскорбленности за происходящее взяло в ней верх. Она уперлась кулачками в грудь мужчины, с трудом отстранилась и глянула ему в глаза.
– Ну что ты, что ты – сказала она дрожащим от обиды голоском – не надо. Ты же добрый.
Николай ошалело взглянул на нее и замер. Он ожидал все, что угодно, только не этих слов. Да и не слова сразили его, а взгляд Насти – взгляд, каким в детстве на него глядела мать, когда он болел. Чистый и милосердный, доходящий до самых корней души. Он встряхнулся, опустил голову. Посидел минуту. Потом, не поднимая головы, сказал:
– Прости, пьяный я.
Встал и вышел из дома, тихо прикрыв за собой дверь.
На следующий день, когда все разошлись по домам, закройщик снова подошел к Насте и сказал:
– Ты это… Если кто чего, мне сообщи. Я тебя в обиду не дам. Тут у нас всяких полно…Так что, если что… поняла?
Настя поняла и хотя ей к защите Николая прибегать не пришлось, ощущение незримой и побеждающей силы добра ее уже не покидало.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.