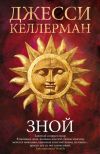Текст книги "Беда"
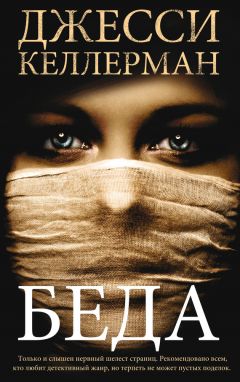
Автор книги: Джесси Келлерман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
33
Выйдя из кухни, Джона нащупал выключатель у двери, и гостиную залил свет. Он зажмурился. А потом заставил себя открыть глаза. Ему плохо, все тело болит, во рту пересохло, ему страшно, и глаза ни за что… Надо открыть.
Он открыл глаза и разом увидел все. Влажные следы через дальнюю комнату, потом на дощатом полу гостиной и дальше темные отметины на лестничном ковре. Он разминулся с Ив: она все это время была наверху. Теперь спустилась.
– Доброе утро, – сказала она.
Остановилась на нижней ступеньке. Босая, где-то успела раздеться и бросила свои вещи – скорее всего, в комнате Ханны, там пряталась. Губы бледные, перемерзла. Волосы сделались жесткими, как у Ханны, когда та выскакивала зимой из душа и бежала через кампус, не высушив голову. Однажды какой-то ублюдок из ее испанской группы отломил замерзшую прядь и вручил ее Ханне: «Сосулька, а сосулька!» Пришлось ей срочно отправляться к парикмахеру, хотя всего за три дня до того Ханна сделала себе стрижку, и недешевую – к рождественскому балу. Джона кипел от возмущения, и Ханна же его утешала: Всего лишь волосы, скоро отрастут.
В правой руке Ив нож.
На камине жужжит цифровая камера.
– Тебе кофе хряпнуть не помешает, – посоветовала она.
Джона кивнул. Про себя прикидывал: расстояние до Ив. Расстояние до двери. До Ханны. Поезд А выходит из точки А со скоростью страха, поезд Б выходит из точки Б со скоростью страсти, а поезд В тем временем сидит наверху, – никогда ему не давались текстовые задачки. Да и математика в целом. Он был, скорее, гуманитарием. Идиотом он был.
– Прости, что так рано тебя подняла. Хотелось поскорее начать день.
Если он кинется обратно в кухню, звонить полицейским, она успеет добраться до него. Успеет добраться до Ханны. Если еще не добралась. Поезд В простаивает на станции. Поезд В истекает кровью.
– Жуть как тяжко было, – сказала Ив. – Дороги перекрыты. Ты знал? Ни одной машины. Не уверена, работает ли «скорая». Пришлось идти пешком. Очень долго. Ты только посмотри. – Она продемонстрировала свою руку, дрожащую, почти что синюю. – Никак не согреюсь. Прямо зомби, вот кто я, Джона Стэм. Отломи руку – я, наверное, ничего не почувствую. Смешно, правда?
Позвонить? Броситься на нее? Ну да, в руках у нее лезвие, сантиметров десять. Стеклянный подсвечник остался в дальнем углу гостиной. (Треск в кустах – ветви, ломавшиеся под тяжестью снега, или шаги по промерзшим клумбам? Он проморгал? Она давно уже здесь?) Еще вариант – броситься в кухню и тоже вооружиться ножом, но для этого придется повернуться к ней спиной. За это время – сколько понадобится? тридцать секунд? – она успеет вернуться наверх. Или набросится на него сзади. Впрочем, вряд ли она попытается ранить его. С какой стати? Она же его любит.
– Ну, – произнесла она. – Скажи что-нибудь и ты.
Единственный тяжелый предмет в пределах досягаемости – большой словарь для кроссвордов. Лежит на журнальном столике между диваном и широким креслом.
– Говори! – Она шагнула к нему.
Кожа под глазами набрякшая, в пятнах. Ив тряслась всем телом, как в ту ночь, когда разбила чашку и порезалась. Джоне припомнилась кровь в кухонной раковине, завитки крови на нержавеющей стали, быстро скапливающиеся сгустки смывались водой, уплывали в свинцовый кишечник Города, – Города, который кормится кровью своих жителей, а Ив прижималась к Джоне и вся тряслась.
– Если ты будешь молчать, я рассержусь. Скажи что-нибудь. Сейчас же.
Он произнес ее имя.
Она вдруг перестала дрожать. Выпрямилась. К ней вернулась уверенность. Она отступила, снова загородила от него лестницу.
– Не шепчи, – сказала она. – Никто не спит.
Он спросил:
– Где Ханна?
– И это все, о чем ты думаешь? Я прошла такое расстояние в этот страшный мороз, когда у ведьм титьки отваливаются, а ты только и способен спросить: А что там за той дверью? Да ты шутишь. Или делаешь большую глупость. Я дам тебе еще один шанс, Джона Стэм. И подсказку дам. Скажи мне: «Доброе утро».
– Доброе утро, – повторил он.
– Доброе утро, Ив.
– Доброе утро, Ив.
А если ее стулом огреть?
– Как поживаешь?
– Как поживаешь?
Или кинуть в нее мобильником? Угодит в стену, разобьет телефон, обозлит Ив. Но отвлечет ее на минуту. Или – погоди-ка, – а если в нее кошкой запустить? Или видеокамерой? Или просто броситься на нее, голыми руками схватить… Если б он на собственном горестном опыте не узнал, что может произойти, когда бросаешься на человека, у которого в руках нож.
– Побольше чувства, прошу тебя.
Можно попытаться…
– Еще раз!
– Как поживаешь, Ив?
– Бывало и лучше. Бывало и лучше. – Пронзительный смех. – Все пошло не так, как я задумывала. По правде говоря, не знаю, как быть дальше. Ты же помнишь, я не слишком талантливый режиссер. Мой дар – создавать концепцию, но воплотить ее не так-то просто. Например, при плохом освещении начинаются проблемы с автофокусировкой. Ты заметил это на той записи?
Он кивнул.
– Нам ни разу не представилась возможность обсудить это. Что ты думаешь по этому поводу? Поделись со мной. Но прошу тебя, умоляю, не бормочи «это было очень интересно». Я готова заплакать, если ты вздумаешь так от меня отделаться. Тебе в самом деле было интересно?
– Нет.
– А как было?
– Омерзительно.
– А! – сказала она. – Ну что ж, понятно. Отвращение свойственно человеческой природе. Первоосновы. Ты же читал Пола Экмана.
Он промолчал.
– Не читал? Слушай внимательно. Экман выделил шесть основных реакций, присущих всем людям, – гнев, отвращение, страх, грусть, удивление и радость. Поразительно, не правда ли? Из шести эмоций лишь одна позитивная. Четыре негативные. Удивление, я так понимаю, бывает и такое, и сякое. Как ты думаешь?
Он сказал:
– Думаю, бывает.
Даже если он сумеет как-то обойти ее и подняться наверх, они с Ханной не будут там в безопасности: комната не запирается. По совету психиатра Джордж снял замок в спальне Ханны.
– Но ближе к теме. Мой фильм. Он тебя удивил?
– Да.
– В самом деле?
Он кивнул.
– О, прекрасно. Я надеялась на это. Саспенс. Кино передает это лучше, чем другие виды искусства. В числе прочих его уникальных качеств. Писаное слово не спрыгнет с бумаги и не ужалит так, как иной кадр. Ты согласен?
– Конечно, – сказал он.
– Не очень-то ты разговорчив, Джона Стэм. Я снижу тебе оценку за пассивность.
Он промолчал.
– Я специализировалась на киноискусстве, говорила я тебе? Кажется, я сказала, будто изучала литературу и театр. Не помню, что я тебе говорила, но сейчас я говорю правду. Ты слушаешь? О чем я? Ах да! – Ее вновь затрясло. – Знаешь, что более всего завораживает меня в кино? Вечное настоящее. Кто посмеет утверждать, будто ты и Рэймонд – будто это не происходит сейчас? Где-то, на какой-то пленке, ты убиваешь его прямо сейчас. Вновь и вновь вонзаешь в него нож, и так будет вовеки, пока последняя копия не рассыплется цифровой пылью. Но и после фильм останется у тебя в голове. Образ остается навсегда. Вот почему так важно снимать мое творчество, ведь оно эфемерно. На самом деле никто не хочет, чтобы пятнадцать минут славы длились так долго. Вот почему я предпочитаю работать в сфере воспоминаний. Вот почему я предпочитаю работать с веществом воспоминаний. Не делай этого.
– Чего не делать?
– Не двигайся с места.
– Ты же хотела, чтобы я подошел ближе?
– Не сейчас, – сказала она.
Он остановился.
– Должна кое в чем признаться. Я – глубоко неуверенный в себе человек.
Он молчал.
– Ты знал это?
– Догадывался.
– Ты все это время анализировал меня?
– Нет.
– О чем еще ты догадывался?
– Я не анализировал тебя.
– А вот я тебя анализировала, – сказала она. – Тебя привлекают женщины поврежденные, неуверенные в себе?
– Нет.
– Ханна уверена в себе?
Он затряс головой.
– Трудно разобраться, какая она. Сколько на нее ни смотри. Не такая, как я ожидала.
Он спросил:
– А чего же ты ожидала?
– Честно говоря, не знаю. Но – не этого.
Больше всего Джоне хотелось ее ударить. Но ведь того она и добивалась. И он не станет, он выдержит принцип. Имеет ли это еще хоть какой-то смысл? Если он ударит ее сейчас, то будет бить, бить, пока кто-то или что-то его не остановит. Может быть, этого она и хотела. И он бы так и сделал. Наконец-то их чувства совпали.
– Лапочка, – позвала Ив. – Иди сюда, покажись.
Сперва – никакого ответа, никакого, тишина.
Ему привиделось самое страшное, что возможно в этом мире или в другом: Ханна, зарезанная, как тот человек в канаве, сдувшаяся проколотым шариком.
– Ханна, лапочка, иди сюда. Не бойся.
Она показалась на верхней площадке лестницы.
Облегчение от того, что видит ее живой и невредимой. Ужас от того, что она стоит так близко к Ив.
– Ханна, – сказал он. – Вернись к себе в комнату.
– Спускайся к нам, лапочка, мы хотим, чтобы ты была с нами.
– Ханна, вернись к себе в комнату.
– Тш-ш, мы же тут все друзья, правда, лапочка? Старые друзья всегда ведут себя дружно. Приходят на помощь в беде. Ну вот. (Ханна, дыша ртом, позволила Ив взять себя за руку и свести вниз по ступенькам.) Вот. Погляди-ка на себя. Лапочка, ты только погляди на себя. Не знаю, какой я себе ее воображала, но уж точно не такой. Я ошибалась.
– Ханна. – Нет, он не сумеет голосом подчинить ее. – Иди сюда сейчас же.
Ив улыбнулась, погладила Ханну по мятой щеке, – обычно от чужого прикосновения Ханна шарахалась, но не в этот раз: ее словно загипнотизировали.
– Пожалуйста, – сказал он. – Пожалуйста, уходи.
– Не двигайся.
Он остановился.
– Проси прощения.
– Извини.
Ив сказала:
– Ты меня перебил.
– Извини.
– Я тебя прощаю. Но ты рассердил меня, Джона Стэм. Ты должен был сам мне рассказать. Должен был давно рассказать, чтобы я сюда не ездила. Пощадить мою гордость. – Она прижала Ханну к себе в пародии на объятия. – Лапочка, ты такая страшная. Ш-ш-ш, не обижайся. Ты ведь даже не понимаешь, о чем я говорю, верно? – Через плечо Ханны Ив смотрела прямо на него. – Ты должен был давно мне рассказать. Показать не старую, а нынешнюю фотографию. Чтобы я убедилась, каким она стала страшилищем. Бедная ты девочка. Уродина ты моя. – То ли обе они тряслись, то ли одна дрожала и трясла другую. – Боже милостивый, Ханна, мерзей тебя не найдется человека во всем округе Нассау. Отвратный гипсовый слепок. По сравнению с тобой я херувим. Воплощение красоты. По сравнению с тобой я головой касаюсь неба. Тебя бы в клетку запереть и в море выбросить. – Она засмеялась, она заплакала. – Ты совсем не такая, как я. Мы даже не принадлежим к одному виду. Ты же не понимаешь, да? Куда тебе понять. Ничего ты не понимаешь, уродливая и тупая. Ты ведь даже не человек, Ханна. Меня это убивает. Ты меня убиваешь. Ты не понимаешь, о чем это говорит, – что он предпочел тебя. Это многое говорит… – Она разомкнула объятия, рука с ножом поднялась – многое говорит о том, что — до уровня их глаз, и он увидел – многое говорит о том, что он, – что они в точности одного роста, что – многое говорит о том, что он чувствует — в каком-то ином времени, в более милосердном мире они могли бы оказаться сестрами – многое говорит о том, что он чувствует ко мне.
В носках он заскользил по деревянному полу, оттолкнулся рукой от подлокотника кресла, и в это мгновение поднял глаза и успел увидеть бессловесный провал лица Ханны и брызнувший вишневый сок.
Эпилог
Семейная терапия
Теперь Джона проводит выходные с родителями. Ему нравится сидеть с новорожденным племянником, которого его мать именует Ангелом, словно так и значится в его свидетельстве о рождении, – вообще-то малыш записан Грэмом Александром Хаузманом. Кейт называет его то Малышом, то (когда непосредственно обращается к нему) Гэ-рэмом, Гууу-рэмом. «Гуу-рэм», – воркует она, щекоча младенческий живот, и младенец улыбается, или пускает газы, или и то и другое одновременно. Гу-гу-рээээм.
Эрих зовет сына Алекс. Он предпочел бы сделать это имя основным в честь своего деда по матери Александра Шлиркампа. В последние месяцы беременности Кейт Эрих развернул кампанию за то, чтобы переставить имена, отодвинуть Грэма на второе место, – если, конечно, нудные разговоры Эриха можно охарактеризовать бравурным словом «кампания». Кейт весело напомнила, что Гретхен имя дал отец, и теперь, по всем правилам, ее очередь. К тому же стоит произнести «Александр Грэм» – и все вспомнят Александра Грэма Белла[31]31
Американский изобретатель, основоположник телефонии.
[Закрыть], а ей ни к чему, чтобы ребенка прозвали «Малышом Беллом» (а ее, о ужас, «мамашей Белл»).
Отец Джоны никак не может взять в толк, зачем нарекать ребенка на один лад, а потом переиначивать его имя. Кроме того, он заметил, что глаза у новорожденного светлым песочным оттенком напоминают хлебцы «Грэм» из непросеянной муки, и с тем большим удовольствием произносит точное – вдвойне точное – имя внука. Джоне он говорит: надо же, кареглазая Кейт и ее сероглазый муж породили мальчика с золотыми глазами. Генетика посложнее будет, чем курс в старших классах, где учат, будто любой вариант фенотипа предсказывается решеткой Паннета. Столько сложных взаимодействий… к тому же, по мере того как ребенок растет, он меняется. У Джоны, к примеру, в первые полгода жизни глаза были голубые, а потом ферменты и белки получили новый приказ и вернули малышу законное наследство – болотно-зеленый цвет. Все это Джона и так знал, но поболтать с отцом было приятно.
Гретхен пока никак не называет братца. Ушла в отказ. Ведет себя так, словно этот вопящий сверток, требующий от ее родителей все больше времени и сил, – лишь временная неприятность, а не серьезное покушение на ее суверенные права. Она посоветовала засунуть его обратно маме в живот. Кейт и посмеялась, и озаботилась: Так с малышами не поступают. С мамочками тоже.
Джона пока еще не определился. Сперва звал племянника по инициалам, Г-А-Х. Потом Грэммэн, но это прозвище легко сокращалось в Грэмма, а далее следовали Грэмбо, Грэмкрача, Конан Граммар, Жан-Клон ван Грам. Пустился болтать со скандинавским акцентом, эдакий шведский шеф-повар: Ja de furden blurden bardy fordy firk. При таком раскладе Грэм сделался Свеном. Когда Кейт пригрозила, что больше не впустит его в дом, Джона стал звать мальчика просто Г. Как дела, Г? Но он сомневался, чтобы этот невыигрышный вариант зацепился надолго.
Эрих считает, что они запутают малыша. Вслух Джона соглашается с ним, но про себя не очень-то из-за этого переживает. Имя – ответственное решение, тут нужно время. От того, как назовешь человека, зависит его образ в твоем сердце.
Страница 42 «Руководства для студентов третьего года обучения».
«Третий год обучения – время эмоционального и духовного роста. Чтобы стать врачом, требуется время: накопление знаний и совершенствование в милосердии приходят с опытом. Студенты узнают о самих себе больше, чем на других академических курсах».
Страница 67 той же Книги:
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ,
или
КАК Я ПЕРЕСТАЛ БЕСПОКОИТЬСЯ И ПОЛЮБИЛ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В самом деле, кроме шуток, начинается лучшее время вашей жизни. Третий год – вихрь и водоворот, но ведь это так круто! Вспомните, как в универе вы отказывались от вечеринки, потому что долбили органику! Вспомните, как подружка или бойфренд обозвали вас лузером и нашли себе другого, потому что вы вечно сидели дома и зубрили. Вспомните о кредитах, которые вам предстоит выплачивать. Вы пошли на все эти жертвы, чтобы стать врачом. Теперь у вас появился шанс быть врачом – так хватайте же свой шанс. Ясно? Лучше стало?
Мы этого не понимали. Нас тоже тянуло блевать от всего этого. Хорошее в жизни и не оценишь, пока малость не поблюешь.
Зато подумайте вот о чем: четвертый курс – чепуха, а потом ты уже интерн, а потом уж и ординатор… немного времени пройдет, и вы станете полноправным врачом, а вам еще не будет и пятидесяти. Когда-то начинать надо, и почему бы не здесь и сейчас. Не на общем же курсе, когда вы еще не выбрали профессию, и не тогда, когда проходили отбор в медицинский. В первый день первой практики. Добро пожаловать в мир боли и исцеления. Мы прошли через это, пройдете и вы.
Он все еще не прошел через это.
«Рождественские каникулы» – туман сделанных под запись заявлений и официальных выражений сочувствия. Похоже на бесконечные ток-шоу, местная знаменитость на канале новостей: интервью полиции Грейт-Нека, полиции Нью-Йорка, трем помощникам окружного прокурора. Мередит Скотт Ваккаро прочла короткую заметку в «Таймс» – а Джона растет над собой – и позвонила спросить, что случилось. Журналисты стучались в дом его родителей, где отсиживался Джона. Друзья присылали письма. Навестили Вик и Ланс – каждый по отдельности. Несколько попыток выяснить отношения с Джорджем – на крике.
Полгода миновало, а он все еще выбит из колеи, и даже долгожданное облегчение саднит: от того, что стало лучше, становится хуже.
Родители Джоны и администрация HUM уговаривали его передохнуть. Пойдет, мол, на пользу. В тот момент он был слишком разбит, чтобы возразить: пропустив начало второго семестра, он вынужден будет пройти недостающую практику на четвертом курсе, за счет каникул, это ему намного дороже обойдется. И он так и не сдал экзамен по психологии. Его досье будет подозрительно тощим. Не хочется, чтобы на бумаге он выглядел ленивым студентом, который кое-как дополз до выпуска, – после стольких-то лет упорной работы. Ему ведь нужна всего пара дней, чтобы оправиться. Конечно, все будет хорошо, как только отпустит паника, вернется сон, когда Джона перестанет все время видеть перед собой разверстый рот Ханны. Плохой был январь.
Видеозапись событий той ночи находится в распоряжении детектива Лютера ван Воорста, департамент полиции Грейт-Нека. Джона один раз видел эту запись – через неделю после беды приезжал в участок с родителями и Чипом Белзером.
Ван Воорст хотел задать ему вопросы по этой записи.
Если вы в состоянии ее посмотреть.
Я все это живьем видел, напомнил ему Джона.
Пять минут на записи гостиная, не в фокусе, Ив то входит в кадр, то выходит, передвигает мебель. Кинорежиссерша. Потом она ушла наверх.
Зачем она пошла наверх?
Посмотреть на Ханну.
Вы можете объяснить, зачем она хотела видеть Ханну?
Джона сказал: Она ревновала.
Из-за вас?
Подумав, он уточнил: Не знаю, в какой мере это связано со мной.
Детектив хотел выяснить умственное состояние Ханны: можно ли ей предъявить обвинение? Он остановил видеозапись: Уверены, что в состоянии снова это увидеть?
Джона кивнул.
Схватка длилась ровно шесть секунд, и проще всего было истолковать это как акт агрессии со стороны Ханны. Обе схватились за нож. Ив подалась назад, но Джона подумал: на самом деле она тянет на себя Ханну. Лезвие сверкнуло и вошло в шею Ив. Огромный, широкий разрез. Руки Ханны на лезвии. Руки Ив на руках Ханны. Или – наоборот: руки Ив направляют руки Ханны, Ханна – прикрытие, марионетка, реквизит.
Давление крови неодинаково в разных точках человеческого тела. Сильнее всего возле сердца. Если одновременно вскрыть сосуды шеи – общую сонную, внутреннюю яремную – и сосуды поменьше, нижнюю щитовидную артерию, позвоночную артерию, то фонтан крови бьет почти что с комической, преувеличенной яростью. Ковер и литографии на стенах и сам пол стремительно пропитываются кровью, и Ханна, бедная Ханна, словно оглушенная ударом тока, падает вместе с Ив, в ее объятиях, в луже крови, хлынувшей из вскрытого горла.
Джона понимал, о чем думает детектив, он и сам думал о том же. Мог ли он искренне уверить себя в том, что Ханна абсолютно невиновна, что она хотя бы не подтолкнула руку с ножом? Могла ли Ив так ненавидеть себя – может ли человек так ненавидеть себя, – чтобы чуть не до шейных позвонков перерезать собственную глотку?
Переоценил Джона свои силы: пришлось подняться и выползти из комнаты. В коридоре упал на колени. Чья-то рука легла ему на плечо:
Не торопитесь, придите в себя.
Он вернулся в ту комнату: стул и стол, адвокат и детектив, стакан воды, телевизор выключен. Ван Воорст протянул ему салфетку, Джона утерся.
Знаете, вам понадобится время, чтобы оправиться. В смысле, я же вижу, с чем вам пришлось иметь дело.
Ему пришлось иметь дело с Ханной: оттащить ее от Ив, волочить по кровавым лужам, она лягалась, пнула его в пах, пока он полз, подтаскивая ее за собой. До чего ж сильная.
Когда вы позвонили в полицию?
Через несколько минут.
Помните, через сколько?
Три-четыре.
Детектив кивнул.
Прошло больше трех-четырех минут, сообразил Джона. Ведь когда он вошел в кухню, чтобы позвонить со стационарного телефона (свой мобильник, упавший и закатившийся под кресло, он получит обратно лишь в мае, полиция вышлет его хозяину в пакете, в какие пакуют улики с места преступления), часы на микроволновой печи показывали четыре двадцать четыре.
Я был, – сказал он, – я был…
Он торчал в кухне с трубкой в руках. Ханна на полу у двери, дом звенел от ее воплей.
«Скорая» долго ехала, – сказал он.
Плохая погода, – согласился детектив.
Он промедлил восемь минут. Пока Ив не затихла. И тогда вызвал подмогу.
Детектив сказал: Я забыл спросить, как вы вообще оказались в том доме?
Джона кивнул: Хороший вопрос.
Он больше не навещает Ханну. До того медицинского заведения, куда ее поместили на неопределенный срок, несколько часов езды. Он звонил, но ему ответили, что разрешение видеть Ханну и даже говорить с ней по телефону подписывает Джордж. Ему он, конечно, ничего не подпишет, понял Джона. Джордж винит его во всем и, в частности, в юридических проблемах, которые могут воспоследовать для него и Ханны из-за смерти Кармен Коув.
К марту окружной прокурор все еще не принял решение. Ван Воорст подозревает, что Ханна действовала осознанно. Окружной прокурор сообщил Джоне, что они обсуждают несколько противоречащих друг другу версий: рука Ханны на ноже, рука Ив на том же ноже. Фокус размыт. Самозащита? Акт воли? И если да, то чьей? Имеется предыстория: гибель Рэймонда Инигеса, угрозы Джоне. Теперь-то они спохватились и спрашивают Джону (таким тоном, словно сомневаются в его здравом рассудке), почему он давно не предупредил власти о девиантном поведении Ив. Ханна душевно больна: могут ли они предъявить ей обвинение, когда вполне здоровые люди… и так далее.
Статья в «Таймс» зловеще намекала на возможность гражданского иска. Родители Кармен Коув – действительно бухгалтер и учительница из Лоравиля, штат Мериленд, – никак не могли смириться с таким концом своей выучившейся в Плющевом университете разумницы-дочки.
Версия Ханны о событиях той ночи останется тайной: с тех пор она перестала разговаривать. В последний раз Джона слышал ее голос, когда полицейские помогали запихнуть Ханну в машину «скорой помощи», чтобы доставить в местную больницу. Она сказала: Нет.
В апреле, в день ее рождения, Джона позвонил, но сиделка отказалась передать ей трубку. Несколько дней спустя Джона послал ей черно-белую открытку с обезьянкой в праздничном колпаке и надписью: ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ, СКАЧИ МАРТЫШКОЙ.
Джордж заявил, что Джона его предал, подвел. Джона так и не узнал, обеспечил ли Джордж ему подмену на Рождество.
Из Ист-Виллиджа он переехал в квартиру-студию в большом здании на Третьей авеню. Ланс не обиделся, тем более что и сам думал прикрыть лавочку: с сентября в Амстердаме начиналась офигенная программа по международным отношениям, будущее мировой дипломатии.
На новом месте – не таком уж новом, он почти три года ездил сюда каждый день – Джона снова занялся бегом. Готовится к марафону. За четыре с половиной месяца, пожалуй, успеет.
Бегает вдоль променада Ист-Ривер, мимо знака с названием «Дорожка Джона Финли», сквозь открытую раму с фигурой идущего против ветра мужчины в котелке распахивается вид на воды Квинз. Бегает вокруг Центрального парка, два полных круга, не отлынивая. Добегает до Бруклинского моста и обратно, к останкам Всемирного торгового центра. От усталости болит голова – зато как восхитительно себя чувствуешь, когда мигрень проходит.
Прибежав домой, нажирается макарон. Разгар лета, обнаженные ноги, он смотрит из окна шестого этажа на людей, идущих к северу, на автомобили, проносящиеся в южном направлении, прислушивается к неидентифицируемому, негромкому шуму, к присутствию звука, без которого в Нью-Йорке никогда не обходится. Звук движения, разговоров за закрытыми дверями, сумма жизней на публику и смертей в одиночку, множества драм, которых ему не суждено увидеть.
Вторник, 21 июня 2005
Семейная терапия, первая неделя
– Сынок, давно не слыхал тебя!
Клиника в районе Джамайка соседствовала с недостроенным комплексом жилых зданий. Повсюду разбросаны скомканные объявления, призывающие клиентов в офис продаж в Кью-Гарденз: одно-, двух– и трехкомнатные квартиры. По пути от метро Джона проходил мимо строительного участка. На ярких плакатах красовались будущие обитатели, гипотетическая община безликая, без выраженных расовых признаков община. А так, если не считать свежей кладки, эти здания ничем не отличались от прочих кротовых нор городской окраины.
Подпорная стенка превратила переулок позади клиники в тупик. Кто-то сообразил: прекрасный тихий уголок. Выставил сюда пять складных стульев, пластиковый, испачканный сажей стол. Здесь Джона перекусывает – либо с приятелями-студентами, нынче вот один.
– Видел бы ты своими глазами это послание, сынок. Невероятно-на-хрен-не. Пребывая, как и мой клиент, в уверенности, что наши действия были и остаются вполне оправданными… бла-бла-бла… настаивая бла-бла Рэймонд Инигес был бла-бла под бла-бла-блааааа жирный шрифт, однако, запятая. Однако. Продолжающиеся попытки осуществить… бла-бла… кавычки открыть источником напрасного горя и треволнений для переживших это несчастье членов семейства Инигес кавычки закрыть. «Переживших несчастье» – господи помилуй, словно ты саранча, пожравшая их урожай. Этот парень прям искусник, на хрен, его бы писульки в музей. Дайте ему мегафон. «Горя и треволнений»? Они отказались от дела, потому что заведомо проиграли. Единственный источник их треволнений – никчемный адвокатишка. – Белзер фыркнул. – Я эту бумажку обрамлю и повешу. Парень на зависть владеет пером. Сумел между строк намекнуть, что, по его мнению, они бы выиграли, но он опасается, что присяжные могли бы проявить предвзятость. Вот так оборот. Опасается, что могли бы. Придурок. В детстве его небось задразнили. Но оставим это.
– Я…
– Добавь радости в голос.
– Я удивлен.
– Чему удивляться-то? Я тебе говорил: они прогнутся, никуда не денутся. Возвращайся к работе. Спасай жизни. А как то дело? Ей предъявили обвинение?
– Нет, – сказал Джона. – Пока нет.
– И не предъявят. Помяни мое слово. Все образуется. Родителям привет передавай.
Джона отключил телефон. Аппетит пропал. Он швырнул сэндвич в урну и поплелся обратно в клинику.
Много, много времени спустя он получит бандероль с обратным адресом Бронкса. Внутри диск. Джона сунет диск в ноутбук, ноутбук уложит себе на колени, почувствует, как вращается CD в приводе. Сквозь наушники просочится знакомая мелодия, озорная гитара, нежный контрабас сольются воедино. Знакомое соло, восходящее, уходящее.
Джона запишет песню в свой MP3, добавит к списку мелодий, под которые он бегает. Не самый подходящий мотив – слишком медленный, – но пока что Джона оставит его в MP3, хотя бы на денек, не помешает подумать обо всем этом еще один день.
В тот день он побежит на север, мимо домов, в одном из которых живет ДеШона. Он часто бегает там. Сворачивает на тропу, ведущую к детской площадке с качелями, хотя ни разу еще не встретил там девочку. Быть может, никогда не встретит. Или он ее увидит, а она не повернет головы. Или заметит его, но не узнает, узнает, но не помашет в ответ рукой. Горько ему придется, если так. Но ведь может быть и по-другому: улыбнется и помашет. Стоит пробежаться в ту сторону, на авось.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.