Текст книги "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева"
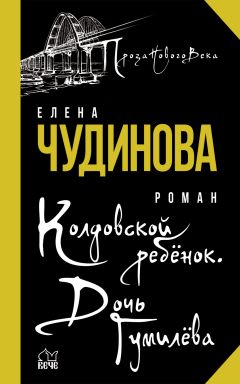
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
«Каждый рубль, сданный в сберкассу на хранение, ускоряет победу социализма», – заявляла картинка на успевшем помяться дорогой конверте.
«Стихов сегодня не будет, Линор, но не недостатку впечатлений. Напротив, их слишком уж много, они пока не сложились правильным узором.
С прошлой недели я – обитатель Каунчи, это километрах в тридцати от Ташкента. Не враз по прибытии, но удалось найти здесь жильё. Что за странное жилище, если бы ты видела! Мне принадлежит маленькая комнатка с окном на двор (здесь дома поворачиваются к улице только глухой стеной), с плоской крышей, на которую можно подняться (говорят, летом здесь будет прохладно спать), крошечной открытой верандой и глиняным полом. Здесь всё глиняное, от домов до посуды. Мебели не водится, но удалось купить на базаре большой и толстый мат из соломы, это взамен кровати. Он новый и чистый, что большое облегчение. Сидят здесь все на корточках. Книжным шкафом мне служит один чемодан, другой теперь гардероб. Электричество работает слабо, но само по себе восхитительно, что оно все же есть. Я не настолько люблю читать при свечах, при всем романтизме.
Я угодил сюда в самое, как мне рассказали другие русские, некрасивое время. В окне поезда сливались в мутное полотно серые и бурые виды. Уныло и блёкло. Только один раз мелькнула волшебная опаловая голубизна: Аральское море.
Но через месяц обещают чудеса: цветы и травы несказанной красоты. Через два-три месяца обещают фрукты из “Тысячи и одной ночи”. Хотелось бы вкусить, ибо покуда невкусно и голодновато. Самое съедобное блюдо тут отварной горох, картошка наша немалая редкость. Хлеб по карточкам, после скучных скитаний в казенный дом и я стал обладателем таковой, на 400 граммов. Хлеб тоже казенный, пропечён плохо. Говорят, что очень хороши местные круглые лепёшки, которые пекут внутри печи, которая называется тандыр. Но на базаре лепешек почти не продают, муки так просто не добыть. Чаще мука идёт в так называемую “шурпу”, нечто вроде лапши. Вообрази только, для этой лапши тесто не режут, но растягивают, крутя над головой словно пращу.
Да, восточное слово “базар” прозвучало. Это в самом деле немыслимое зрелище, даже в такое время. Это городок внутри городка. Здесь продают тюбетейки, халаты (очень всё яркое), гончарную посуду, которую вертят на древнем круге прямо на глазах у покупателей. Тут же чайные, где курят что-то наподобие самодельного кальяна из полой тыквы. Тут же гадальщики, а еще рядом (прямо со сластями и похлёбками) располагаются цирюльники. У них местные мужчины бреют головы. Гигиены, надо сказать, при этих процедурах никакой.
Если бы я мог положить в конверт немного шума и запаха! На базаре стоит сплошной многоголосый крик, под аккомпанемент ослиного рёва. Вообрази, здесь есть и верблюды! Горбы ещё не сосчитал, и в меня покуда не плевались. Они ходят настоящими караванами. И да, над базаром непременно гремит своеобразная музыка – это “карнай”, двухметровая труба. Не могу сказать, что ее отличает чрезмерное благозвучие. Но громкости “карнаю” не занимать стать.
Страннейшее ощущение: я будто бы странствовал сквозь время, а не пространство. Вокруг – живое средневековье, только не наше, европейское, а восточное. Но очень легко поверить, что на дворе стоит какой-нибудь давний век, неважно, семнадцатый или двенадцатый, этот мир представляется неизменным.
Здесь можно увидеть настоящую арбу – с цельными колёсами, тяжеленными, строго вроде тех, по которым, помнишь, монголы измеряли рост вражьих детей – дорос до колеса, считается врагом, которого можно казнить. У арбы только два колеса и площадка-тележка жестко прибита к оглоблям.
Женщины здесь носят паранджу. Я сначала испугался, принявши за привидение бредущий по улице бесформенный куль. У этого балахона нет даже рукавов, он набрасывается через голову. Лицо закрывает черная сетка, сплетенная из конского волоса, вроде решетки. При этом не жалеют на это дорогих тканей – бархата, сукна, а еще это одеяние щедро обшивают сверху донизу бисером.
Я уже немыслимо скучаю по нашей щедрой большой северной воде. Здесь, стоит отдалиться от реки, вода только в арыках, пересекающих поля и городские улицы, что покрупнее. В маленьких улицах арыки обычно проведены через двор. Вроде бы – вода в наличии. Но не стану вдаваться в подробности, пользоваться этой водой я брезгую. По нескольку раз в день хожу с ведром к цистерне с водой для питья. Хозяева, старик с двумя женами, одну из которых я сперва принимал за дочь, несомненно, считают эти мои походы блажью.
С занятием я еще не определился, но предполагаю научиться водить грузовой АМО. Местные плохо ладят с техникой, так что это вполне возможно. Но записываться в местную школу не считаю нужным. Как-нибудь постараюсь договориться о сдаче экзаменов на аттестат. Так, мне рассказывали, делают.
От моих покуда не имею вестей.
Ни с кем из русских до сих пор не сошелся, но ты ведь знаешь, что я обычно непросто схожусь с людьми.
Напиши мне стихов, дорогая. Постараюсь в другой раз тоже не быть столь прозаичен.
Твой П.О.
11 февраля 1935,
Эски Каунчи».
Конверт, украшенный картинкой «Дадим тару социалистическому государству!».
«Петя, ты очень небрежно запечатал свое письмо. Ты помнишь, мой дедушка всегда советует нам быть аккуратными.
На Востоке теперь ты, а я почему-то пишу восточные мотивы. Извини, если тебе сейчас и без меня их хватает. Но мне это стихтворение кажется не самым плохим. Называется – Восход Ра. Песня Египтянки.
Взойди, о Ра! Окрась огнём Восток!
В туманной дымке ждёт рассвета сад.
Раскрой, о лотос, нежный лепесток!
Спит темный пруд и пальм нечёткий ряд.
Взойди, о Ра! Мой дом стоит в саду,
Спускаясь к Нилу, тянется мой сад.
С рассветом я дорожки обойду
От старых пальм до глиняных оград.
Взойди, о Ра! Цветов живой ковёр
О свете грезит. Пусть сверкнёт роса!
В златых лучах под сенью сикомор
Поднимется цветистая пыльца.
Взойди, о Ра! В лучах растает сон.
Я в дом вернусь, в душе покой явлю.
Я облачусь в тончайший белый лён
И лазуритом косы заколю.
Только не смей мне говорить, что один лепесток нельзя раскрыть, нужно несколько. Но ведь всё-таки это же лучше глупого “и клонила пирамида тень на наши вечера”, правда же, лучше? Ему что пирамида, что миртовый кустик, лишь бы названиями побрякать. Да, не люблю.
Еще о Египте: сфинксы передают тебе привет. Они смотрят на нашу большую воду – и ты ее тоже увидишь снова. Я знаю.
Прости, письмо выходит неуклюжее. Я еще не привыкла к тебе писать. Вообрази, это ведь вовсе первое письмо в моей жизни. Как-то и не к кому было писать, стареньким тётушкам пишет мама, Галина еще мала. Я привыкну.
Дедушка передает тебе привет вслед за сфинксами, а ещё мама. Журов сам ждёт от тебя письма, просил сказать, что без письма никаких приветов. Он рисует сейчас эскизы для маминых спектаклей, получается очень необычно.
Я уже не знала, что подумать, так долго не было от тебя вести. Ты пиши, пожалуйста, почаще пиши.
твоя Л.
1 марта 1935, Эртелев».
Конверт с монохромной картинкой «Над страной должны летать советские дирижабли!».
«Спасибо за письма с египетскими стихами, Линор. Я вижу, у тебя весьма египетское настроение. Но ты ошибаешься в одном: мое местопребывание не вызывает таких ассоциаций. Я себя скорее ощущаю в древней Акре. Особенно теперь, когда в пиджаке можно погибнуть от жары не хуже, чем в броне.
Но все чудеса, что мне сулили, сбылись с лихвой. Еще лишь июнь, но наши базарные кварталы изобилуют немыслимыми дарами “Тысячи и одной ночи”. Это настолько красиво, что вызывает скорее восторг, чем аппетит. Теперь только май, а уже торгуют алой клубникой, волшебной черешней – от янтарной и белой до черной, огромной, светящимися изнутри абрикосами.
Я тут кое с кем сдружился, но нет настроения об этом писать, твой дедушка прав. Скажу вкратце – у меня появилось несколько друзей наших лет. Мы много бродим пешком, разговариваем. Отчасти наши прогулки оказались вынужденными. Не могу тебе объяснить подробнее, но многие из наших днем заняты работой, а маленьких детей, особенно мальчиков, нельзя оставлять без присмотра. Я освобождаюсь после возни с автомобильным мотором часа в три пополудни, и мы подменяем иногда друг друга в наших променадах.
В ближний выходной, впрочем, строим планы дойти до городища Каунчи-тепа. Древность дикая, доисламская. В позапрошлом году, рассказывают, здесь много копали археологи. Вроде бы и еще приедут. Мне этого хотелось бы, ты можешь себе вообразить, какой это хлеб для души. Может быть, удастся подрядиться к археологам рабочим.
Так или иначе – а на днях я буду много говорить с развалинами. А то стихов всё нет, и меня это нервит. Ты мне шли свои, шли ещё.
Библиотека тут ужасная, хорошо, что я на нее не понадеялся. Церкви нет даже православной, в ее стенах теперь лаборатория удобрений. О том, что нужно мне, ясен день, не приходится и мечтать. Покуда не знаю, как с этим в Ташкенте. Со временем я попробую туда съездить, это возможно.
Побольше пиши мне, Линор.
Твой П.О.
2 мая, Каунчи (или Янгиюль, доходит по обоим названиям)».
1936
Глава XXII. Павел Васильев– Проходи, – вместо приветствия повелела Лена, одной рукою придерживая дверь, другой – поправляя тяжелый узел отросших волос на затылке. Митя в который раз обратил внимание: чаще у блондинок коса не толста, слишком тонки и нежны бывают обыкновенно светлые волосы. У Лены волосы тоже тонкие и нежные, но их так густо, что, под тяжестью золотой короны, шейка кажется особенно хрупка. Раньше не так было заметно, а теперь, когда коса отросла почти до поясницы, ох, какие прически может она теперь делать. Но Лена редко этим себя утруждает. Носит обыкновенно то косу, то ходит простоволосой. Ей, впрочем, это больше всего к лицу.
– И что ты на меня так смотришь, Журов? Что-то не в порядке?
– У тебя коса совсем длинная.
– Только на голове не держится никак, – Лена, рассмеявшись, чем-то щелкнула на затылке. По плечам рассыпался простоволосый златопад.
Митя вдруг увидел, что довольно большая прядь небрежно отхвачена ножницами. Неровно, непонятно зачем.
Под косым взглядом соседки Анюты, невнятно бормотнувшей под нос об «ухажерах», Лена провела гостя в комнату.
– А у нас неприятность, – уронила она. – Мама ногу растянула. Сильно, хотя – ну вовсе на ровном месте. И это некстати пришлось.
– Более, чем некстати, – отозвалась Анна Николаевна с кушетки. Журналы, книги и чашечка у изголовья глядели приметами нездоровья. – Еле хожу, нога не гнется. А между тем мне бы срочно ехать в Москву. Уж сегодня собиралась покупать билет. А новых кукол мне нужно забирать срочно, пора спектакль репетировать. Знаю я эти растяжения противные – дня ведь три так будет, если не больше. Не Лену же отпускать одну.
– Я уже заканчиваю школу, – возразила Лена, очевидно продолжая начатый еще до Митиного появления разговор.
– Но еще не закончила. Дедушка не позволит тебе ехать одной. – В последней фразе прозвучала ощутимо поставленная точка. – Придется повременить.
Лена, немного надувшись, вышла из комнаты.
– Анна Николаевна, я могу съездить, – поспешил предложить Митя. – У нас ведь теперь каникулы. Вы бы мне все рассказали, что да как. Я вполне разберусь. Тем паче – кукол не перепутаю, уж будьте уверены.
– Съездите, Митенька, – Анна Николаевна печально улыбнулась. Она никогда не улыбалась иначе. А так хотелось иногда увидеть другую ее улыбку. – В самом деле: не Лену же мне отпускать. Да вы и лучше разберетесь, чем Лена.
– Отчего это он лучше разберется? – переспросила Лена, входя теперь со свинцовой примочкой в эмалированной мисочке. Вид у нее был, как отметил Митя, престрогий: сестра милосердия да и только.
– Анна Николаевна, вы в самом деле думаете, что удастся провести через цензуру такую вещь, как «Элексир сатаны»? – заинтересованно спросил Митя.
– Гофман пока что классик литературы. Его еще не отменили. – Анна Николаевна оборотилась к дочери. – Эскизы рисовал Митя. И у него много больше интереса к моим сказкам, чем у тебя.
– Знаю. Мама, ну это не для меня. Твои куклы замечательные, но они не оставляют места воображению. Во всяком случае, моему. Журов, брысь, я буду менять маме повязку.
– Елена… Как вульгарно. Извините ее, Митя.
– Я Елену Николаевну извинил на всю жизнь вперед, Анна Николаевна.
Митя, небрежно поднявшись, вдруг помрачнел. Скверно, ах, как скверно. Он же зарекался ничего не говорить о своих чувствах к Лене, крепко зарекался. Пока Оборин не воротится из ссылки, это подло. Только воротится ли Оборин? Отчего он так долго не пишет?
Ноги вынесли на коммунальную кухню, к «проклятому очагу». Митя сердито выбил из коробочки папиросу. Закурил с полным, еще непривычным правом.
– Fi donc. – Вошедшая Лена выразительно сморщила нос. – Я тоже хочу в Москву.
– Я в самом деле буду больше полезен Анне Николаевне, – мягко ответил Митя. – А со мной вдвоем тебе ехать неприлично, ты же это понимаешь самое.
– Экие у всех изумительно справедливые доводы. – Недовольная Лена села на табуретку около примуса. – К тебе Оборин не писал?
– Нет. К тебе, судя по всему, тоже, иначе бы ты не спросила сейчас. – Митя нахмурился.
– Тоже не писал. Я вчера писала. – Лена почему-то задумчиво опустила глаза на обкромсанную прядь волос. – Уже третье письмо. На предыдущие два ответа не было.
– Это же Средняя Азия. Почта идет долго, что-то теряется. Половина почтальонов там, говорят, еще и буквы еле-еле разбирают.
– Да, конечно. – Лена легко вздохнула. – Вероятно, он скоро напишет. И тебе и мне.
– Гумилева, привет! О, Журов, и ты тут, оказывается. А я с твоей соседкой в двери вошла, ну такая, знаешь, недоверчивая баба. Ведь все одно дверь отворяет, а впускать не хотела. К кому да куда. – Клара, тряхнув коротко стриженными волосами, окинула обоих слишком уж внимательным взглядом. Вне сомнения – прикидывала, в какие обертки заворачивать сплетни. – Хотела к твоей маме постучать, а слышу – на кухне голоса.
– Привет, садись. Мама нездорова, могу предложить чаю, но только здесь.
– Да я ненадолго. На минуточку, чаю не хочу. – Клара не стала садиться, но повела плечиками, давая новому платью разгуляться. Платье было пестрое, с черным фоном. С цветочками? Нет. По блестящей, еще не стиранной ткани выстраивались в ряды фигурки. Бесполые и безликие, в шортах и пионерских галстуках, похожих на противогазы.
Митя и Лена переглянулись.
– Нравится? – Клара ничего не заметила. – Агитационный текстиль. Самая мода. Так я вот зачем пришла, Гумилева. У тебя есть словарь Боянуса и Мюллера. Ну тот, тридцать первого года. Лариса Ивановна говорила, он самый хороший, с фразеологизмами. Ты мне его не дашь до осени?
– Я сама им пользуюсь.
– А ты возьми мой, поменьше. – Клара щелкнула замком черной сумочки – в тон платью.
– Мне мой словарь нравится.
– Так ты по любому выпускные сдашь. – Клара поправила юбку. – Хоть вовсе без словаря. А Боянус это для подготовки к поступлению в вуз хорошо. Тебе-то не надо. А я хочу, знаешь, на филологический.
– Хотеть не вредно. – Митя прищурился.
– И поступлю. Так ты дашь словарь? Тебе же он в самом деле не нужен, такой полный. Ты ж не собираешься документы подавать? У тебя их и не примут. Товарищ Калинин, конечно, вам разрешил полное среднее, но не вуз же.
– Своего словаря я тебе не дам, – лицо Лены было безмятежно спокойным. – Коль скоро меня не пустят в университет, стало быть, мне много придется заниматься языками самостоятельно. Я, конечно, владею французским и немецким, английским похуже, к сожалению. Но тому, кто никогда не был в странах, где язык звучит, очень непросто добиться совершенства.
– Но если тебе не поступать, зачем тебе много заниматься? – Клара удивилась неподдельно, даже села, перестав демонстративно колыхать подолом. – Тебе в заграничные командировки опять же не ездить. Тебя не пустят. Вас ведь только пусти, вы и останетесь заграницей. Так к чему зря над книжками сидеть?
– Просто потому, что мне свойственно жить так, а не иначе. И на моего Боянуса не рассчитывай.
– Ну и не очень-то и надо. – Клара фыркнула. – Могу и в книжной лавке поискать. Журов, ты чего на меня уставился?
Вопрос Клары показался Мите антитезой к словам, с которыми Лена открывала дверь.
– На твое платье смотрю, – ответил Митя с самым простодушным видом. – Оно, конечно, модное. Но знаешь – тебя старит. Ты в нем прямо на двадцать пять лет глядишь. Я сперва тебя даже с сестрой твоей перепутал.
Кларина Римма, уже три года замужняя и детная, имела самые рубенсовские очертания фигуры: из одной старшей сестры легко выкроились бы две младших.
– Дурак!
Дверь хлопнула громко, даже что-то из кухонной утвари задребезжало.
– Ты знаешь, я ведь даже не могу ее ненавидеть, – тихо произнесла Лена, подходя к окну. – Она даже по-своему не хочет ничего плохого. Просто всё вокруг как-то непросто и очень противно.
– Погоди… Как знать. Может статься, у тебя и возьмут документы. Лев ведь в свое время поступил.
– Он много старше, сейчас с этим опять хуже, ты знаешь. – Слушать утешения Лена расположена не была. – Кроме того, он же, хоть и сын Гумилева, но всего лишь Горенко. А я – еще и Энгельгардт.
Ее подбородок высоко вскинулся. Но личико казалось сейчас совсем бледным.
– Я хочу учиться, Журов… Ты знаешь, я так хочу учиться в университете…
Неожиданно для себя Митя приблизился к Лене. Уверенно, словно и не в первый раз в жизни, он обнял ее одной рукой, другой прижав эту золотистую головку к своей груди. Он знал – сейчас это позволительно. Позволительно потому, что сердце билось странно ровно, и ничто не перехватывало дыхания. Сейчас это не было предательством к Пете. И любовью, как ни странно, тоже. Сейчас он обнимал ее как маленькую, очень несправедливо обиженную сестру.
…
Когда дети, ах, ведь не совсем уже и уместно это слово, уединились на кухне, Анна Николаевна позволила огорчению и заботе проступить в лице. Как оно некстати вышло! Слов нет, до чего некстати…
Впрочем, по крайности можно немного оттянуть неприятный разговор с отцом. Быть может, он и не осудит, но все ж для такого повествования надлежало собраться с духом. Анна отдавала себе отчет, что в обществе отца она дважды, по сути, овдовевшая, мать двух дочерей, по-прежнему превращается в ждущую оценки девочку. Странно, но Лена много свободнее с Николай Александровичем, чем она. Словно бы и не побаивается деда вовсе, хоть он и бывает с нею строг. Говорят, впрочем, что суровые отцы часто смягчаются на внуках. Князя Трубецкого вон вся семья трепетала. А как-то пошел громы метать – подошла трехлетняя внучка: «Ты зачем сердишься на маму с папой, дедушка?» И разулыбался: «Что ты, Катенька, я не сержусь вовсе, я для порядку».
Но все же посоветоваться с отцом надлежит. В нынешнем, чреватом подводными камнями течении жизни, от отца лучше не утаивать ничего. В том числе и знакомства, едва ли не дружбы, с человеком вопиюще не из своих. До поры это не имело большого значения.
Но теперь… Грешно предавать друзей, любых друзей. Особенно когда они под ударом. Но в самом ли деле Павла ожидает удар? Отец не сможет помочь, но хотя бы поможет разобраться, насколько серьезна угроза.
В последний приезд Анны в Москву Павел Васильев был, против обыкновения, вовсе не весел.
«Не сочтите за дерзость, Анна Николаевна, – с затаенной странной тоской в глазах сказал он тогда. – Нельзя ли будет пригласить вас в кино? Вы поймете, почему мне этого хотелось. Объяснить трудней иной раз, чем показать».
Анна, поколебавшись, согласилась.
Странен показался ей выбор фильма. Она бы предпочла недавнюю экранизацию Островского, ее многие хвалили. Васильев же отдал предпочтение фильму с куда как одиозным названием – «Партийный билет».
Анна терялась иногда с этой новой интеллигенцией, или как это у них называется. Вправду ли это его вкус, или непременное для них швырянье ладана в кадильницу нынешних божков?
Вот же метаморфоза. Как они любили в прежнее время хулить всё и вся, эти свободолюбцы. Ныне любое невосторженное отношение хоть к чему-то из общей суммы новых ценностей почитается у них за ересь. И ересь в прямом смысле опасную.
«Осип Эмильевич мне посоветовал сходить на этот фильм. Но один я, по правде сказать, не решался».
От этих слов Анна вовсе растерялась, не понимая, что и думать.
Ей передалось отчасти странное, немного лихорадочное настроение собеседника. Они еще пили сельтерскую в буфете, когда прогремел звонок. Ударил по нервам, как хлыст.
Свет погас, как будто навсегда.
Черно-белое царство теней наполнило пространство.
По черной реке поплыл под музыку белый пароход – словно прямо в зал. Старое поколение еще пугалось таких фокусов, мелькнуло в голове Анны Николаевны.
Опоздавший пассажир лихо, метнув сперва чемодан, прыгнул на удаляющуюся палубу.
Лицо актера явилось крупным планом. Анна вздрогнула, невольно переведя взгляд на своего спутника. Одно лицо с Васильевым, неотрывно, напряженно глядящим в экран.
Героя звали – Павел. Сибиряк, из деревни.
Вот сибиряк Павел устраивается на завод. Вот женится на красавице-партийке, рабочей девушке. Но обертоны уже намекают – Павел не тот, кем хочет казаться.
Кто же он на самом деле? Кулак. Убийца двадцатипятитысячника.
Прозрение жены. Вот уже она, с искаженным лицом, держит мужа под прицелом нагана. Непосредственно в супружеской спальне, где только что происходили совсем иные сцены.
«Почему ты не признался?» – металлическим голосом спрашивает она.
«Я хотел, хотел!! – разоблаченный в ужасе ползает по полу. – Но ведь расстреляют, милая, они ведь меня расстреляют!»
– Расстреляют, – почти неслышно прошептал рядом Васильев.
И вот уже спальня на экране наполняется мужчинами в весьма узнаваемой форме. Героя уводят. Надпись «Конец».
– Что это все значит, Павел Николаевич? – коснувшись рукава поэта, бредущего словно в полусне, спросила Анна. – Отчего вас так встревожил этот фильм?
– А вы не заметили сходства? – безжизненно отозвался тот.
– Случайность? Стоит ли…
– Не случайность. Об этом говорит уже вся литературная Москва. – Васильев усмехнулся с неожиданной веселостью. – Горький поручил Пырьеву добить меня. Редко кому удается купить билет на собственный расстрел, Анна Николаевна. А мне вот – удалось. Так же, ночью, придут и за мной, хотя, по счастью, подобной подруги жизни у меня нет. Нет, у меня не паранойя. Все читается между строк. Они только немножко упростили. Не «пожалел в своих стихах кулаков», как меня обвиняет Горький, а просто сам и есть кулак. И убийца, разумеется. Простите, Анна Николаевна, что я пригласил вас разделить столь невеселую компанию. Но вы – стойкая и много пережившая, я же вам – почти никто. Если опечалитесь на неделю, когда все случится на самом деле, – и то для меня будет великой честью.
– Допустим даже так, – на бульварах особенно остро, по ночному, дышалось ночной прохладой. – Но ведь это всего лишь фильм. Возможно, что вам и устраивают публичную моральную экзекуцию, но едва ли вы повторите судьбу персонажа. Павел Николаевич, вы же все-таки… свой. Не могут они так с вами поступить.
– Дай Бог, чтобы вы оказались правы, Анна Николаевна. – В темноте вспыхнула спичка, поднесенная к папиросе, красновато осветив на мгновение измученное молодое лицо. – Но они могут. Я уже потерялся в понятиях. Кто тут свой, кто чужой, и чему. Не умею сказать. Я просто хотел писать стихи. Жаль, если не допишу сказки. Хотя, полагаю, теперь ее будет не поставить на сцене.
– Положимся на лучшее.
В безумие коллизии, где человек покупает билет на зрелище собственной гибели, было довольно сложно поверить. Даже для нашего времени такое уж чересчур.
Прошло почти два месяца. Ничего худого с Васильевым не случалось, Анна почти успокоилась на его счет. Хотя киношная эта травля в самом деле – отвратительна душе, что говорить. И надо бы человека ободрить.
И еще – все же рассказать обо всем отцу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































