Текст книги "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева"
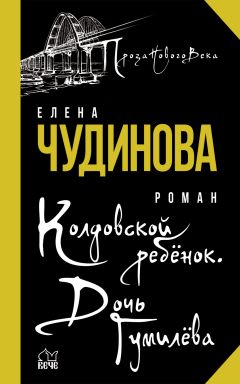
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Глава XVI. Африканская ночь
Соседи переговаривались на кухне, у своего стола с примусом. Приглушенными голосами, как говорят обычно о делах частных.
Странно, что секретничают на кухне, а не у себя, удивилась Лена, помешкавшая в темноте коридора, ожидая, чтобы они завершили свою нехитрую возню. Едой не пахло, скорее всего, Липа просто кипятила воду.
– …Так ты скажешь, наконец, Клава или Лидка? – с глухим раздражением спрашивал жену глава семейства. – Сколько можно воду в ступе толочь?
– Думаешь, вот так вот легко матери решить? – В голосе недавней горожанки ощутимо прозвучали скулящие деревенские интонации. – Сегодня одно думаю, назавтра иное… Лида-то старше, поднимать ее меньше годов осталось… А Клава-то зато крепче… Больше у ей выжить-то возможности!
Ну, все ясно, хотя Лене вовсе и не интересно. Верно есть возможность одну из дочерей отправить с кем-то на Большую землю. Потому и обсуждают не при них. Хотя – что маленькие тут поймут?
– Вот же завыла… – Послышался сплевывающий звук, Лену передернуло. – Я так и без тебя, дуры, разберусь, будешь причитать… До новых карточек три дня. Самый расчет. Не на месяц же откладывать. Ноги все протянем. Лучше, что ли, будет?
Похоже, этот семейный совет грозил затянуться. Возвращаться в комнату не хотелось, коридор такой длинный… Но еще решат, что она тут нарочно их тоскливые секреты слушает.
Об этом разговоре Лена забыла почти мгновенно.
* * *
Спать надлежит раздетым. В любой мороз. Это военное правило Николай Александрович строго напомнил домашним, как только пришел конец паровому отоплению. Солдат спит – не в шинели, а завернувшись в нее. Казалось бы – с чего шинели сделаться теплее от подобной перемены? Но эти приметы лучше нас ведали предки, чье выживание зависело от них много больше. Отчего варежка теплее перчатки? То же и с шинелью. Создай теплое пространство, согреешься.
Но это правило имело и оборотную сторону. Согреться в одной сорочке под грудой одеял и меховой рухляди удавалось действительно легче, но покидать убежище было порой невыносимо тяжело.
А горло немного саднило. Пуховый платочек, который Лена обкрутила вокруг шеи, не помогал. Неужели придется встать и идти на кухню – ставить чайник? Вылезать из нагретого гнездышка в холодный коридор… На кухне тоже как в ледяной пещере. Но ведь так можно и разболеться к утру. А болеть – нельзя. Это то, чего сейчас никак нельзя.
Ноги успели окоченеть за несколько мгновений. Лена влезла в валенки, закуталась с плеч до ног в колючий овечий плед.
Лунный отблеск скользнул по циферблату часов. Половина четвертого.
Коридор разверзся мертвой пещерой. Лена выдохнула, переступая порог.
Странно, но не спалось в этот час не только ей. Шлепанье шагов Лена услышала раньше, чем пригляделась к темноте. Широкая фигура Анюты плыла впереди, в халате, навздетом на пальто. Только б не на кухню… Ох, только б не на кухню…
На кухню, увы… Анюта протопала уже мимо ванной и ретирада. Как худо-то…
Но и к кухне баба не проследовала. Остановилась перед другой соседской дверью. Постучала, легко, не так, как стучит человек, надеющийся кого-то разбудить.
Лена невольно остановилась.
– Я это, я…
Дверь приоткрылась, впуская.
Странно, что у них за сборища по ночам? Да неважно это. Скорее – ставить чайник.
Примус зашипел, отдавая последнее. Но все-таки слабый огонек разгорелся. В бутыли еще осталось, по счастью. Но не разгорись – пришлось бы ворочаться. Бутыль в комнате, ее нельзя оставлять на глазах у Анюты.
Зачем она все-таки к ним пошла в такой час?
В бело-синей изразцовой пещере, освещенной лишь голубоватым огоньком керосинки, вдруг сделалось немного холоднее.
Лена поднесла раскрытые ладони поближе к нагревающимся бокам чайника. Как же чудесно будет напиться сейчас у себя горячей пахучей мяты! Ах, бабушка, бабушка… какой же молодец ты оказалась с этой мятой… Может быть, и маму разбудить, подать ей горячего в постель?
Какая разница, чем там заняты эти соседи. Может, что своровали да делят тайком… Почему ей так страшно?
Чайник закипал. Лена прикрутила горелку.
Теперь бы удачно пройти по коридору, чтобы не столкнуться с Анютой… Или переждать? Она ведь сейчас обратно пойдет.
Анюта всё не выходила. Из-за двери слышался какой-то шум, возня, что-то упало… Что они делают среди ночи?
Сама не понимая, зачем, Лена отложила прихватку и подошла к двери.
Теперь за нею слышался женский плач, но приглушенный, словно плакать женщина боялась.
Лена рывком распахнула чужую дверь. Еще мгновение назад она никак не собиралась этого делать, но отчего-то иначе было нельзя. Словно кто-то решал за нее.
С первого взгляда она поняла, что опоздала.
Липа рыдала в углу, зажимая себе руками рот. Муж ее, в изголовье детской кроватки, еще сгибался, что-то удерживая обеими руками.
Анюта стояла в изголовье с подушкой в руках.
Даже при свете лунных лучей, так и бивших в окно без занавески, было очевидным, что ребенок не спал, а был мертв. Старшая девочка Половинкиных, Лида.
Спал второй ребенок – в дальнем конце комнаты.
Несколько мгновений меж страшной сценой и распахнутой дверью висело молчание.
Липа, в абсолютном ужасе глядя на Лену, кусала себе руки, муж ее держался дрожащей рукой за отвисшую челюсть, словно пытался ее вправить, Анюта таращила круглые глаза.
Первой и пришла в себя Анюта.
– Ты чего врываешься как к себе? Небось не барыня теперь. Без тебя тут горе у людей, не видишь, дитё померло.
– Вижу. – Голос Лены был совершенно спокоен. – А подушка зачем?
– Да вот подложить повыше хотели, – Анюта сделалась вкрадчиво-доверительной. – Дышала плохо.
Что-то вдруг, нарушая ужасную тишину, стукнуло об пол около кроватки.
Липа взвыла, впрочем тихонько, следя за собой.
Кукла. Истрепанная, но покупная, довоенная. Выскользнула из-под одеяла. Свидетельница не хуже, чем журавли Ивика, смутно мелькнуло в голове.
– Вы ее убили, чтобы съесть. – Лена даже не содрогнулась, произнося эти слова.
Людоеды… Это же из «Похитителей бриллиантов» и «Робинзона Крузо». Голые разрисованные негры в бусах, с особенным неживым блеском в глазах… Негра людоеда от нелюдоеда, папа рассказывал дедушке, можно отличить по зубам… У людоедов почему-то разъезжаются зубы.
Но эти – соседи, они не негры и не в ожерельях. Они жалкие и мерзкие, но так обыкновенны на вид… Нет… не так. У Анюты как раз такой взгляд, из «Похитителей бриллиантов»… Особый…
Но людоеды должны быть в Африке, а не в Эртелевом переулке… Не в моей квартире. Нет, не в моей.
– Вон из моего дома. Вы все. Чтобы к утру вас тут не было.
– Какого такого твоего?! – взревел вдруг мужчина, справившись с перепугом. – Сдурела, недобитая? Мы тут живем, и дела наши, и дети наши, куда суешься?
– Это мой дом. Довольно с меня. – Лена ощущала ледяной гнев, огромный, много превышающий ее собственные силы. Рядом с ее матерью этих не будет. Она их гонит, как выгнал бы папа. – Убирайтесь.
– Командовать взялась при советской власти?! – прибавилась Анюта, заводя привычный скандал так, будто стояла в очереди, а не над детским трупиком. – Забыла, барыня, что власть наша советская?
– Советская. Но думаю, и она не хуже всякой другой найдёт у девочки перья в дыхательных путях. Анатомы есть у любой власти.
– Да ты… Да мы… да… – Глаза соседа, извергавшего невнятные обрывки его мечущихся мыслей, наливались кровью и бешенством. – Тебя… ты…
– Вась, держи ее!! – завизжала Анюта. – Нельзя, чтоб в милицу… Милицу приведёт!
Странно, что второй ребенок так ровно дышит во сне, отстраненно подумалось Лене. Будто и не кричат в комнате.
Сосед, растопырив руки, слеповато кинулся к двери.
И тут Липа завопила в полный голос.
– Тихо, дура! – Сосед обернулся, чтобы увидеть, как жена указывает в сторону Лены трясущейся рукой.
– Аааа… Там… Не трожь ее, с ней военный… Щас нас застрелит…
– Не ори! – Василий все же приостановился, вглядываясь. – Какой военный тебе?
– Там… там… – указующая рука ходила ходуном.
– Да мы ничего, товарищ, да просто ребеночек помер… – жалостно запричитала вдруг Анюта. – Господин товарищ, мы ж ничего… Товарищ господин… Никто ж ничего… девушка зря подумала…
Сосед попятился, с грохотом опрокинув табурет. Безумная ярость сошла с его лица, словно переместившийся лунный блик.
Лена очень осторожно, чтобы не дать застать себя врасплох, нашла момент обернуться.
Никого не было – ни за ее спиной, ни в коридоре. Да и кто мог бы быть?
Не иначе сошли с ума от собственной мерзости.
– Мы ж ее не того… не тронули…
– Не успели. – Лена ничего не боялась. Ничего и не капли. Да и может ли остаться в душе место страху, когда она переполнена, набита всеми мыслимыми и немыслимыми бедами? Лена вчуже удивлялась своему спокойствию – чуть-чуть. – Или вас не будет утром, или утром откроют дело об убийстве. С целью антропофагии… человекоядства. За это сейчас расстрел.
– Да куда ж… Елена Николавна… Куда ж идти-то с дитём? Раз уж вы эту жалеете, пожалейте и другую, не выдавайте нас!
– Другую не жалею. Вы ее прокляли своим выбором. Уберетесь – не выдам. Не выдадим. – Последней фразой Лена подыгрывала их безумию. Раз уж им привиделся какой-то военный, надо укрепить их в реальности воображенного. – Но утро скоро. Ступайте куда хотите, вокруг полно пустых квартир. А девочку не смейте трогать, мы позаботимся о ней сами.
– Чего теперь заботиться? – огрызнулась Анюта. – Только пропала без пользы.
Лена не ответила, отступая в коридор.
К шести утра квартира опустела.
Лена вновь вошла в комнату. Когда-то ведь это была одна из гостиных, малая.
Только слишком большой беспорядок говорил о недавних спешных сборах.
Луна по-прежнему светилась ярко, скользя то по личику мертвой девочки, то по туповатому лицу некрасивой большой куклы.
Девочка мертва, а эти – схитрят, выживут, даже придумают, как ловчее продлить карточки по другому жилью. Найдут себе опустевшие пещеры, где никто не помешает быть зверьми.
Бедняжка. Но ей лучше уж так.
Домоуправление еще не открыто. Надо спуститься, чтобы прислали перевозку, как только откроется. Лучше бы мама не увидела мертвого ребенка. Маме будет больно.
Надо пойти одеться. Какой холод в душе… Только одно не дает оборотиться в ледяную статую с ледяной душой. Мешочек-ладанка кажется как будто бы теплым на груди… Кто же ей сейчас помог, кто ее защитил? Папа? Купюра-иконка с Государем? Петя? Граф Сережа Коновницын?
Глава XVII. На ташкентском фронте
Да уж, Ташкент – это получше, чем этот грехи наши тяжкие, Пурунзе.
Трофим Денисович позволил себе смешок. Интересно, понравилось бы покойнику быть Пурунзой? Да кто ж его спрашивал. И как память увековечить, без него разобрались, и с другим делом… тоже. А и пёс бы с ним.
Большой город, хоть и азиатский, а столичный. Яркий, как огромная расписная пиала. А вот такого старорежимного бабья у нас на улицах не увидишь… Прямо потеха. Сверху как попона на голову нахлобучена, всё лицо упрятано, а подол недлинный – наружу во все голенище мужские сапоги. Киргизки, они все ж, по рассказам, не так как здешние. Рожи и не прикрывали никогда. А эти… ну темнота!
Не холодно. Говорят, весной тут – красота невообразимая. Ну да дела и зимой делать надо.
Трофим Денисович прибыл в Ташкент всего на неделю. Хотелось потолковать с местными товарищами про этот самый персик «белый лебедь». Понятное дело, что сейчас попробовать хвалёное чудо можно только маринованным, в варенье или сушеным. Но тема для разговора имеется и обсуждение идет как надо.
Одно неприятно, то вроде вовсе жарко, то вдруг холодно. По десять раз расстегиваешься-застегиваешься. Трофим Денисович вновь расстегнул пальто.
Торговые ряды, мимо которых он шел в гостиницу, и сейчас, в январе, не пустовали. Можно только воображать, что тут делается летом. Видывал он эти восточные базары в летнее время, видывал. Конечно, сказывается время не только зимнее, но и военное. Не продают ни лепешек, ни пирожков. Ничего из муки. Но можно поесть вареного гороха в куркуме, каких-то похлёбок… И уж конечно всякий урюк и курага тут за ничто.
Надо, кстати, перед отъездом для благоверной керамики прикупить, просила. В Москву обратно эту дрянь не потащим, а здесь почему не пользоваться. Оно и занятно.
Что тут у них еще? Эх, какой изюм…
– Фуфа! Ну что вы, право, так хлопочете! – небрежно призвал барственный женский голос.
Он невольно обернулся на двух женщин, что-то выбиравших на прилавке. Вот так сюрприз!
– Разрешите скромному пролетарскому академику выразить восхищение любимой актрисе. – Он приподнял шапку-пирожок. Вот прямо удачно же расстегнулся: видны и орден Трудового Красного Знамени, и орден Ленина.
– Только не надо говорить «Муля, не нервируй», – томно процедила она, зорко скользнув взглядом. – Это иногда просто даже невыносимо. А вы, стало быть, ученый?
– Самый что ни есть. Присел, задумался, открыл. Это можно говорить? – Он приглядывался. Похожа не похожа на себя – черно-белую, огромную и плоскую? Не поймешь. Но видно – не проста, ох, не проста. – К вашим услугам, Фаина Георгиевна. Трофим Денисович Лысенко.
– Тот самый Лысенко? Вам можно. Вы же, в газетах пишут, скоро вырастите картофелины размером с бочку и пшеницу, что колосится по десять раз в год. Приятно, приятно, что находите времечко на наши скромные киноленты, у вас его, поди, немного. А мы тут попросту, на базар выглянули. У нашей дорогой Анны Андреевны упадок сил после блокадного-то города. Надо восстанавливать. Курага, говорят, для сердца хороша.
Трофим Денисович обернулся на вторую даму (тут «женщины» не скажешь, нет, не скажешь) с сугубым интересом. Рослая, моложе актрисы, но тоже в летах, она кивнула с невозмутимым апломбом. Черты лица резкие, виден характерец. Темноволосая. Шляпка, чернобурка на плечах. В теле уже, возрастная полнота. Сохранила, однако.
– Вы давно из Ленинграда, Анна Андреевна?
Вопрос не понравился. Подметив, он перешел к следующему, не ожидая ответа.
– Очень там тяжело? Голод…
– Голод чудовищный. Люди умирают целыми семьями. – Она говорила резко, словно ставя его на место. Кто такая – непонятно, но коли сама Раневская с нею эдак миндальничает, то и пусть.
– Понимаю, настрадались. Не смею и расспрашивать. Понадеемся на скорый прорыв блокады. Как растениевод, могу подтвердить полезные свойства кураги. Хороши и гранаты.
– Гранатов я уже купила. – Актриса обернулась к старому узбеку в ватном халате, сальном до тусклого блеска, поджидавшего, пока важные, ясно, что важные, покупатели завершат разговор меж собой. – Полкило кураги, вот этой. И полкило такого изюма, да нет же, этого! Ничего не понимают, прямо как нерусские.
– Позволите побаловать прекрасных женщин? – Лысенко, легонько перехватив руку Фаины Георгиевны, извлек свой бумажник.
– Давненько мужчины не баловали. Не имей сто рублей, а имей двух грудей. – Актриса по-свойски подмигнула.
Это было неожиданно – и нравилось. С такой, поди, и водочки хлопнуть весело.
– Позволите перед отъездом заскочить засвидетельствовать почтение, Фаина Георгиевна? Я во Фрунзе со своим институтом, через пять дней отбываю. В Пурунзе, как местные говорят.
– У меня такое чувство, что я всю жизнь в какой-то пурунзе. Причем в глубокой. Люди так глупы, а все дуры почему-то такие женщины…
Актриса сообщила адрес. Начали прощаться.
Медленно засовывая бумажник обратно во внутренний карман, Лысенко глядел, как обе удаляются в переулок. Высокие, статные, отнюдь не обременившие себя тяжелой поклажей. Такие никогда не возьмут в руки набитой авоськи. Э, нет. Цену себе понимают. Кто ж, любопытно, вторая?
Подтвердила – голод. Даже, допустим, не только что она оттуда, но ведь не она одна свидетельствует.
Эти мысли не переставали вертеться в голове Трофима Денисовича, когда он шел в гостиницу, поднимался в свой номер. Номер был не ахти. Обои грязноваты, давно не переклеивали. Ковры как в сказке, что в спальне, что в гостиной, а сортир в коридоре. И это у них называется «люкс». Дикость, Азия. Хотя стараются, как могут. Радиоприемник, коньячишко в буфете.
Голод, холод, обстрелы. Отопления нет, воду ведрами таскают из прорубей. Канализация не работает, это тебе не в коридорчик выйти. Мрут, мрут в диком холоде, голоде, грязи и дерьме.
Трофим Денисович, почистив пиджак щеточкой, причесал перед зеркалом редкие волосы. А и что, что редкие, всегда такие были, но плеши-то нету. Седина проблеснула в проборе, немного заметно.
Спустился в ресторан. То ли ресторан, то ли столовая, по военному времени не разберешь. Тоже все простенько. Из мясного в меню – одна баранина, в трех видах. Так ведь что котлеты, что манты, баранина свининой не сделается. А хотелось бы эскалоп. Плохо тут с этим. Картошки, опять же, нету, один рис.
Ладно, перетерпим, мы человечки неприхотливые. Главное – все худшее уже позади.
Ох, седеть он начал в эту проклятую осень… Казалось тогда – всему конец. Хозяин сам говорил (было известно из надежного источника): Ленинград потерян. А немцы пёрли на Москву. Уже и Ленина в Тюмень вывезли, для сохранности. Тюменцы-то не знают, секретность огромная. Но уж если Ленина…
Зимой полегче пошло. После уж того, как водохранилище на Истре взорвали, это немцев хорошо попридержало… Война вовсю идет, но уж не под самой Москвой.
Щекотно было, щекотно… Хозяин-то перед войной по комсоставу прошелся… Ну как бы ему тем же да ответили? Была минута, была… Нет лучше времени военным забрать власть в руки, чем когда враг-то в наступление не идет, а бежит…
Многие тогда, покуда Хозяин тихарился, побаивались военных. Которые люди опытные, поглядывали друг на друга тревожно, с пониманием… Чтоб вслух сказать, конечно, ни-ни, не малолетние. Но – поглядывали. Больше даже и боялись военного переворота, чем немца. Потому как ну что немец? Завоюет, так, поди, всех-то не расстреляет. Уж ученых тем более. Тут бы даже и благорасположение Хозяина не повредило. Что немец подумает? Сталину годился – и нам сгодится. Академики всем нужны. А вот эти – они-то свои… Если припомнят, как их Хозяин словно морковку на грядке прополол, так могут после и другие его решения в пересмотр взять… Вот и воротили бы Барина. А вы, Трофим Денисович, пожалуйте из кресла вон… Если не хуже.
Ох, щекотно было…
Ну да черт Хозяину наворожил… Прошляпили военные. В ноябре Хозяин опять бразды ухватил цепко…
Ленинград все еще в осаде? А и горя мало. Если пораскинуть, так оно и хорошо.
Московское отделение-то к рукам прибрано, а там, в Ленинграде, окопались враженята. До сих пор себя так «вавиловцами» и зовут меж собой.
С голоду, говорите, дохнете?
А мы вам в ответ – мол, не представляют нам ценности ваши коллекции. Как это понимать надо? Не спросим с вас, вот как. Мы ж не злодеи какие, смерти ж вам не хотим.
Кушайте на здоровье, всего вам достанет: и хлебушка, и картошечки, и круп, и орешков.
Мы не изверги. Пусть хоть и Барин живым возвращается теперь. И где, спрашивается, твоя правда? А ее – съели. Твои же собственные верные ученики. Второй жизни тебе не дадут, всё заново собрать, особливо после тюрьмы.
А словеса умные городить – твои против моих, кому дело разбираться?
Вспомнилось источающее презрение юное лицо. Щенок… Думал, тебя не сломать? Хребтом твоим не хрустнуть? А жизнь, она, милый, такая: не продался за большой кус, продашься за крошечный. Жизнь, она красивым никого не оставит.
Почему-то с теплом вспомнилась актриса. Да, с такой по душам хорошо потолковать, до известного предела, понятно. Небось, и огонь и воду до медных труб повидала. Вся наша жизнь – глубокая пурунза.
Уже принесли чай, разумеется зеленый, в расписном большом чайнике. Но молодой плосколикий официант, по местному обычаю, теперь от столика не отходил: наполнял почтенному человеку пиалу не доверху, а ровно на один глоток, чтоб не остывало.
Умеют уважать… На десерт подали вяленые персики. Не тот ли самый «белый лебедь»?
Такая вот пурунза… Не хотел испачкаться ради того, чтоб быть при президиуме, испачкаешься ради того, чтоб не сдохнуть.
Сам выбрал. Себя и вини, когда будешь на примусе жалкую кашу варить из кафиристанской пшеницы…
Себя… только себя. Старшие люди тебе пользы желали.
Жри теперь и злись на себя, что продешевил судьбу… Давиться будешь, но будешь жрать. Голод, он, милый, не тётка.
Можешь возвращаться, Барин. Хоть бы и живым. Возвращаться и – поглядеть, как тебя встретят ученички, сожравшие твое бессмертие?
Глава XVIII. Шестое чувство
Пауль фон Штайн отворил дверь в квартиру Солынина «своим» ключом. Вернее сказать, лишний ключ (и не один) появился у Андрея Ивановича, когда вымерла остальная квартира. Одна соседка, одинокая пожилая женщина, сгинула где-то на улицах, просто не воротилась однажды домой. Ключи, понятное дело, пропали с нею вместе. Но другие соседи, семья из четырех человек, умирали потихоньку дома – и ключей за ними досталось два комплекта. Один Солынин и передал Штайну. Так в самом деле было удобнее.
Пройдя в нетопленную комнату, Пауль лишь расстегнул пальто. Еще не начинало смеркаться, и он не затруднил себя поиском коптилки.
Придет хозяин дома, затеплит сам. А ведь странно… Очень странно. С Солыниным фон Штайн всегда придерживался нарочито вежливой манеры. Отчего же сейчас – вошел, не постучав в дверь? Да, его нет дома, но ведь мог бы и быть. Словно бы знал, что войдет в пустую комнату. На крючке у двери ничего не висит одежды. (Солынин мог бы уже месяц как оставлять пальто в передней, но, привычки, даже неприятной, сразу не одолеть.)
Кресло жалобно скрипнуло больной пружиной. Так почему же все-таки он вошел без стука? Ему всегда было неприятно не понимать даже ничтожнейших мелочей.
Потому ли, что разговор предстоит неприятный? А он, черт побери, будет неприятен.
Фон Штайн хмыкнул. Надо же, он уже чертыхается по-русски. Да, человек думает не на языке, не словами, а как-то иначе, глубже. За шесть лет в стране он почти отстал от родного языка. Но иначе и нельзя.
Опасную игру затеял этот Андрей Иванович, надо сказать. Он и не знает, что самая тайная подоплека его биографии уже внимательно изучена. Хотел лишь отомстить за то, что был вовлечен в дела лаборатории Глеба Бокия. Смешно. У нас в то же самое время шли тем же самым путем. Помощь в наведении на объекты для бомбежек – это, конечно, полезно. Но с одним этим справится публика попроще. А после взятия города к дражайшему Андрею Ивановичу найдется немало интересных вопросов. Он ведь должен многое знать.
Входная дверь, наконец, стукнула. Послышались шаги. Фон Штайн невольно напрягся, рука потянулась к потайному карману пальто, вшитому столь удачно, снизу в полу, что обычное быстрое патрульное прохлопывание его бы не обнаружило. Шаги показались слишком молодыми для Солынина. Молодыми и упругими.
И вошел в самом деле не Солынин. Молодой, не старше двадцати лет, человек, одетый, как большинство мужчин в городе в тяжелое габардиновое пальто черного цвета, меховая шапка с «ушами», подшитые высокие валенки. Серые глаза, прядь почти льняных волос, упавшая на лоб.
Все это быстрый взгляд фон Штайна уцепил за одно мгновение.
Еще несколько мгновений они мерили друг друга взглядом, словно бы договариваясь, кому произнести первые слова.
Молодой человек неожиданно рассмеялся. Смех его был еще моложе, чем он сам.
– Guten Abend. Wеrden Sie mich einladen, mich zu setzen? Der Eigentеmer des Hauses fehlt schlieеlich[28]28
Добрый вечер. Не пригласите ли вы меня присесть? Ведь хозяин дома в нетях (нем.).
[Закрыть].
Ухо Пауля уловило высокое произношение.
– Присаживайтесь, – хладнокровно принимая игру, обязательно произнес он. Мозг работал лихорадочно, перебирая все мыслимые объяснения, но не находя еще хоть одного убедительного. – Этот язык здесь непопулярен сейчас.
– И с чего бы вдруг? – Незнакомец снял шапку. Пальто его было расстегнуто еще раньше, словно он и не замёрз. Это, в отличие от одежды, показалось немного необычным. Горожане сейчас берегут каждую кроху тепла.
Немного необычным было и другое. Нежданный гость разворачивал плечи, высоко держал голову и отличался бросающейся в глаза четкостью каждого движения. Из-за этого его тяжелое пальто и штатский наряд – черный свитер с высоким воротом, заправленные в валенки охотничьи штаны – казался военной формой. Вот только не советской, о, нет…
– Я, собственно, и не к Андрей Ивановичу. – Молодой человек непринужденно сел в кресло напротив фон Штайна. Шагах в четырех. – Я хотел вернуть одну принадлежащую вам вещь. Предупреждаю, я сейчас полезу в карман. Не стоит стрелять, это ни к чему.
– Стрелять? Помилуйте, из чего? – Фон Штайн осклабился в улыбке.
– Из вальтера, я полагаю.
Черт его, вот это уже становится и вовсе неприятным.
Вещь, за которой гость в самом деле полез во внутренний карман, обрадовала еще менее.
Сигнальница. Та самая, что была у Солынина.
Гость не передал сигнальницы Паулю. Выразительно качнув ее в ладони, он просто отложил ее в сторону – на комодик.
– Мой знакомец арестован. Но мой арест не входит в ваши планы, молодой человек. Иначе бы вы не устроили сей эффектной сцены.
Кто же он, этот военный в штатском? В игру вступила третья сила, вне сомнения. Идти ли на разговор – или безопаснее… Квартира провалена, это ясно. Прощупывать ли дальше? Один ли он пришел?
– Он не арестован.
Ответ не приходилось счесть исчерпывающим. Скорее – чуть издевательским. Он в сильной позиции и это превосходнейшим образом понимает. И лицо… это лицо, черт его … Где и когда?
– Может быть, вы начнете уже открывать карты? Игра делается бессмысленной.
– Еще не пройдена нужная точка в нашей беседе. – Юноша усмехнулся.
Держится не по летам. Слишком уверенно, ни капли эмоций.
– Он искренне раскаялся в причиненных бедствиях. Можете в том не сомневаться.
– Неужто сам пришел с повинной? – Фон Штайн раздраженно хмыкнул. – Одна головная боль с этими идейными. То они мстят, то они прощают, то рефлексия одолела… Насколько удобнее те, чьи интересы сводятся к банке «магги» и упаковке гороховой колбасы.
– Да, это ваш серьезный просчет. – Губы вновь сложились в холодной улыбке. Даже светлые маленькие усы не мешали этим губам казаться слишком уж юными. И этот след чернильного карандаша на нижней, как у школьника… А где папироса? Та, что вовсе не сочеталась с этой фиолетовой полосой на губе?
Боже!
– Скажите… Ваш отец не мог быть в девятнадцатом году под Либавой? – Фон Штайн не удержался от вопроса.
В промороженной затхлой комнате запахло вдруг весной, голыми ветвями ракитника, уже торжествующе наполненными скрытыми соками пробуждения. Рука с трехцветным шевроном на рукаве, подносящая ко рту папиросу … нет, самокрутку. Чернильный след на губах и мысль о недавно написанной записке.
– Никак не мог, он тогда уже два года как был мертв.
Что-то не сходилось в этом ответе. Фон Штайн пытался совладать со странной растерянностью, накатывавшей волнами. Это было невозможно непривычным: он всегда умел собраться в решающие минуты, иначе и не стал бы тем, чем был. Иначе не прожил бы здесь так долго.
– Удивительно… Вы очень похожи на некоего молодого офицера, просто одно лицо. Мы курили с ним во время трехчасового перемирия. Он представился как граф… граф…
– На бережку? Еще раз благодарю за спички, мои ведь тогда отсырели. Для врага вы были на редкость обязательны.
Вальтер выскочил из кармана сам. Действовал не Пауль фон Штайн, но черной волной захлестнувший его разум страх.
Прозвучал выстрел. Он не мог промахнуться с такого расстояния. И все же – промахнулся.
– Мы в этой квартире одни, но все же едва ли благоразумно привлекать внимание пальбой. – Молодой человек легко поднялся. Без тени боязни зачем-то поворотясь к фон Штайну спиной, провел рукой по зеленой обивке кресла. Пальцы сложились щепотью и завертелись, словно выкручивая шуруп. – Non bis in idem, знаете ли.
Так страшно Паулю не было лет с пяти, с того раза, как страшно шипящие гуси, вытягивая шеи, преследовали его до спасительного перелаза.
На раскрытой ладони юноши лежала пуля. Та самая, что должна была пробить его сердце.
Пауль, поднявшийся, когда стрелял, рухнул на сиденье, снова отозвавшееся пружинным стоном.
– Вы… Вы… – Даже в состоянии шока он говорил по-русски, столь сильна оказалась въевшаяся привычка.
– Ну да, вы же почти и вспомнили имя. Я тот самый граф Коновницын, с которым вы курили более двадцати лет назад. Тот, что одолжился у вас спичками, но отказался от папиросы. Одолжиться у врага куревом – все одно, что преломить хлеб.
Паника накрывала мысли, как тревожный сигнал – толпу. Он предпринимал отчаянные попытки выстроить их в логическом порядке.
Он отдавал себе отчет – безумец всегда кажется себе вменяемым. Плохой признак – не сомневаться в собственном разуме, когда происходит нечто в подобной мере невообразимое. Но, тем не менее, он спрашивал себя и уверенно отвечал: это не сумасшествие.
Что же тогда?
Неужели…
– Лаборатория Бокия… – Он скорее прошептал для себя, чем спросил. Да и непонятно было, кого спрашивать. В самом ли деле кто-то присутствует в комнате? Или воспоминание извлечено из его подсознания? Излучатель? Вещество?
– Полноте. – Юноша коротко рассмеялся. – Вы же разумный человек. Вы могли достаточно долго наблюдать и Зиверса и Хирта, которые всегда вызывали у вас брезгливость. С чего же вдруг взяться предположению, будто их зеркальное отражение по другую сторону – хоть чем-то умнее? Много ли ума надо, чтобы колотиться лбами в нарисованную дверь?
– Но… Что же мне еще думать? – Во рту отчаянно пересохло. Не безумие, но сон – вот что напоминало происходящее. Но каково же будет пробуждение? – Я тот же самый ваш враг, что и там, на берегу. Но что такое вы?
– Нет, вы враг, но уже иной. Тогда вы были герр, а теперь геноссе. Самому-то не противно?
– Оборотитесь на своих, – огрызнулся фон Штайн.
– Не ваша печаль. – Молодой, молодой ли, собеседник всё вертел в пальцах кусочек свинца. Это придавало происходящему какой-то вовсе невообразимый смысл. – Вы вторглись туда, где вам нет места. Вы хотите умертвить мой город. Стереть его с лица земли, да, я знаю и это. Мой город, мою столицу… Самый красивый это город или не самый – трудно сказать. Но более всех иных исполненный гармонии – вне сомнения. Ни в одном городе мира здания не звучат единой архитектурной симфонией такой силы. Мистический город, в котором родственны люди и тени прошлого, и рождаются те, кому тени прошлого подвластны.
– Сказано пафосно.
– Тем не менее исчерпывающе. Вы ведь хотите курить? На сей раз я не составлю вам компании. Нет. Но в память того перемирия – вам я это позволю. Вы помните – мы даже перебросились тогда мнениями о Шамиссо. – Граф Коновницын улыбнулся. – Только у германцев клеймо образованности пропечатано в лице столь явно. Жаль было не перемолвиться.
– Что вам нужно от меня? – Фон Штайн не воспользовался предложением, даже не подумал лезть в карман.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































