Текст книги "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева"
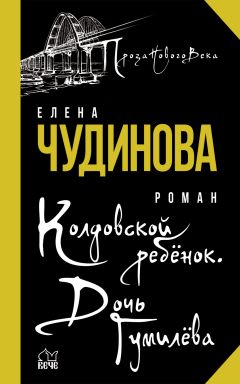
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
«Ну конечно. Для меня ребус был другой, уже как умирать-то перестали. Вот это был ребус так ребус. Попробуете разгадать? Я сутки голову ломал. Отчего умирали почти одни лишь солдаты? Не офицеры. Кухня в походе для всех чинов одна, заметьте. Замучился я, право. Ну не мог уехать, покуда не разберусь».
Несколько минут Задонский шагал в сосредоточенном молчании. Лицо его делалось все мрачнее: разгадка, очевидно, не давалась.
Энгельгардт расхохотался.
«Не терзайте Юрия Сергеевича, Николай Иванович. Он же не жил в деревне».
«Так вы догадались?» – Вавилов шутливо обиделся.
«Конечно. Вы же сказали, что зараженной оказалась мука. Солдаты – они ж из крестьянских семей, большей-то частью. Крестьянина чем ни корми, без хлеба ему не “сытно”. Если подали мясное, дворянин про хлеб и забудет, он на бульонах рос да на жарком. А крестьянин непременно хлебом доберет, любое блюдо. Помню, нянька моя, в имении, даже стакана воды без кусочка хлеба никогда не пила».
«Вот-вот. Как я запретил хлеб давать до новых поставок, не местных, было даже распоряжение – больше мяса в щи класть, в полтора раза. А служивые все одно те щи «пустыми» прозвали. Конечно, им много больше перепало тех ядовитых спор».
«Но пшеницу для коллекции вы брали из других мест», – напомнил Задонский.
«А она там и без дурных плевел скучная была. Нет, это из Персии, это подальше да в сторону. – Вавилов заразительно рассмеялся. – Мне уж намекали, пора-де расставаться. Армии – двигаться на Константинополь, а мне – возвращаться в Петроград. Но как это обратно в Петроград, когда так близко к этой пшеничке, ну той, что вам так приглянулась, голубенькой? Не было ее у меня. Когда еще возможность предоставится? Ну, я к Командующему. Так, мол, и так, Ваше Высокопревосходительство, мне б за пшеничкой небольшой крюк. Юденич, надо признаться, раскричался изрядно. С ума, мол, вы, юноша, сошли, куда вам лезть, кругом театр военных действий. Убьют вас и вся недолга. Так вы, гну свое, мне бы охрану, Ваше Высокопревосходительство. Тогда и не убьют. Я думал, он мне голову откусит. Какую охрану, у меня каждый человек на счету, мне Трапезунд брать! Ради прихоти людей вынимать из строя! Но все ж погорячился, да и дал сопровождение. И пропуск дал».
«Еще бы! – возмутился Задонский. – Скольких вы ему спасли этих самых людей!»
«Ну, я не напоминал все-таки. Неловко. Но с сопровождением он не поскупился. И охрану дал, и лошадей. Всем снабдил в наилучшем виде. На прощанье обнял, перекрестил. Так что – генералу спасибо за ту пшеницу. Занимайтесь ею, Юрий Сергеевич, занимайтесь. Сколько вам времени понадобится на завершение опыта?»
Разговор свернул в сложную для Энгельгардта сторону, посыпались новые термины, наполовину незнакомые ему, невзирая на недавние библиографические труды в Сельскохозяйственной библиотеке. Да уж, со времен «Писем из деревни» изменилось многое в агрономической науке.
– Я этого опасался, Юрий Сергеевич, – медленно, словно выходя из воспоминания в комнату, произнес Энгельгардт. – Один знакомый ксендз подарил мне в юности термин: «пуговица сутаны». Их на сутане тридцать три, пуговиц, от горла до ботинок, длинный ряд петель. Но стоит только одну-единственную пуговку – первую – вдеть не в ее петельку, как весь этот ряд пойдет вкривь. Даже если это пятнадцатая или двадцать пятая пуговица – она далеко от первой, но в чужую петлю она попадет из-за нее.
– Но неужели сегодня в нашей стране вовсе ничем нельзя заниматься? – с болью спросил Задонский. – Ничем таким, чтобы общее искажение миростроя не задело? Причем – не тебя самого, к этому сейчас многие готовы, а твоего дела?
– Не умею вам сказать, – вздохнул Энгельгардт. – Удары еще будут, готовьтесь. Но иного пути, чем делать то, что должно, всё одно нет.
Глава XVI. Лев Тюильри
– Арлекин напевает рондоллу,
Шар воздушный струною звенит,
Ах, скорее, скорее в гондолу,
Что вот-вот, что сейчас полетит!
В синих блестках грустит Коломбина,
В белых блестках Пьеро молчалив.
Над бульварами нашу корзину
Шар несет, выше зелени взмыв.
Прочь мешок, прочь другой! Веселее!
Как танцует плетеное дно!
Сто зевак, от восторга немея,
Обступили площадку давно.
Ах, напев той рондоллы прощальной!
Но промедлим, одно лишь, одно…
…Там, в мансарде, ребенок печальный
Через чистое смотрит окно.
Ноябрьский ветер с Невы облизывал морды сфинксов колючим языком. Доставалось и троим «алхимикам», стоявшим у самой воды. У юношей были подняты воротники не слишком теплых пальто, а их дама прятала руки в старой бабушкиной муфте.
Солнечные лучи, не в силах пробиться сквозь тучи, заливали привычный городской пейзаж странно бронзовым светом.
Миниатюрный старый фонарик, с горевшим в нем стеариновым огарком, еще был в руке у Мити. Редкий фонарик, курьезный, бессмысленный: внутренний светильник кареты. Когда-то фонарик был щегольским, в стиле арт нуво, но густая патина странно его опростила. По принятому правилу, его полагалось держать тому, кто читает стихи. Свои, разумеется. Под крышей для этого затепливали свечу, но на городских ветрах открытая свеча не прожила бы и строфы.
– Сказал бы, что игра избитыми образами простовата, – изрек Петя. – Но последние строки изрядно вывезли остальные. Они были, вероятно, и первые?
– Да. – Митя не обиделся. Это было не принято, к тому же он и сам считал стихотворение не бог весть каким удачным. – А ты как думаешь, Лена? Погоди… Что это тебя огорчило? Я понимаю, вирши не блеск, но не до такой же степени, чтоб от них побледнеть.
Петя лишь молча коснулся Лениного рукава – чуть-чуть.
– Не знаю. – Лена вздохнула. – Твои стихи мне почему-то напомнили одну мою детскую книжку… Про осаду Парижа. Там у тебя бульвары… И мансардные окна. В осаду Парижа пруссаками тоже летали на воздушных шарах… И почему-то вдруг возникло странное чувство, что в этой книжке, детской книжке, как я теперь понимаю, не очень-то и хорошей литературно, спрятан какой-то страшный секрет, а я не могу его разгадать.
Сказать что-либо оказалось не просто. Ни Митя, ни Петя еще не умели справляться с женскими тревогами, а тезис не располагал к развитию. Некоторое время все просто молчали, стоя на ветру между сфинксами.
Место для чтения было не случайным. С подачи Лены считалось, что этот спуск к Неве между двумя древнеегипетскими исполинами был одним из самых любимых в городе мест Николая Степановича. Местом, где являлись первые строки многих из его стихов. Никто из старших Лене ничего подобного не говорил, ей просто так казалось.
Митя протянул фонарик Пете. В полном составе «гильдия» собиралась при условии, что каждый имел представить новое стихотворение.
– Не здесь, пройдем лучше на мост, – Петя промедлил принять огонек. – Сфинксы сегодня будут мною недовольны. При них неуместно читать о других существах.
– Каких это – других? – заинтересовалась Лена.
– Ну… других.
Подсвеченная сквозь тучи ноябрьским солнцем, вода в бронзово-сизой ряби простиралась теперь со всех сторон. Но Петя, уже с фонариком в руке, медлил, глядя вниз.
– Это, знаешь ли, про твоего отца… – наконец произнес он, не глядя на Лену. – Даже не про него, а про его льва.
– Про папиного… Льва?! – В голосе Лены прозвучало гневное изумление. – Ты уверен, что это надо читать в моем обществе? Я так полагаю, что это было бы приятнее той особе, которая надевает узкие юбки, чтоб казаться еще стройней. Хотя, судя по тому, что я о прошлый год лицезрела на Фонтанной, тут уже мало какая юбка может выручить.
– Лена, ну он же все-таки… – поспешил воззвать к справедливости Митя.
– Мне его, конечно, жаль, – тон Лены, впрочем, противоречил словам. – Но не больше, чем дядю Сержа, Галиного папу, и многих еще. Не больше.
– Ну вы и убили бобра, – ядовито восхитился Петя. – Конечно, виноват я: до сих пор не научился обозначать голосом, какая буква прописная, а какая строчная. Не про Льва Гумилева, а про льва Гумилева, Гумилевского льва. При чем тут твой брат?
– Ты про настоящего льва? Но разве у папы был лев?
– А вот вы мне сбили настроение. И свечка скоро догорит. – Петя, впрочем, обижался для порядку. – Про льва Тюильри. Так и называется – «Лев Тюильри».
– Лев? В Тюильри? А я не знаю, о чем ты! Петя, не сердись. Я просто…
– Ты просто не любишь той одесской семьи. Но и незачем видеть ее тени в каждом углу.
– Петя, ну прочитай, я прошу. Получилось глупо.
Предосудительно нарушать поэтическое настроение. Петя позволил еще немного себя поуговаривать.
– Лев Тюильри, – наконец начал он.
Горели розовые свечи
Каштанов, старых, как Париж.
Я помню: был июньский вечер,
На Тюильри сходила тишь.
Листва дышала темной влагой,
И я таил в душе покой,
Упав на бронзовые лапы
Могучей грозной головой.
Закат чуть рдел в печали кроткой,
А из аллеи боковой
Он шел мальчишеской походкой,
Высокий, тонкий и прямой.
В лице улыбка промелькнула,
Но я дремал еще, пока
В извивах гривы не скользнула
Его точеная рука.
И, гордость прежнюю отринув,
Тут встал я, голову склоня:
Он мне, царю, вскочил на спину
Как будто мальчик – на коня.
В каких мы странствовали далях!
Меняясь, плыли времена,
И бронза сердца взору стали
Навеки сделалась верна.
Мой давний всадник своевольный!
Твоя мне слышалась тоска…
Я знал: носить тебя достойны
Цари лишь хищные песка.
Да, я носил его когда-то!
Те времена теперь как сон…
И как-то, тоже в час заката,
Со мной навек простился он.
И сердце бронзовое стонет,
Я, предан всаднику душой,
Смотрю в томительной истоме
На проходящих предо мной.
Не те! И плачет взгляд от боли.
Он мертв, трепещет в тишине.
Его ли, слабые, его ли
Способны вы напомнить мне?!
В столетьях гордого скитальца
Мне не умчать от крестных мук,
Вновь не лизнуть с любовью пальцы
Его точеных белых рук.
– Немного неряшливо, но хорошо, – прервал молчание, воцарившееся, когда Петины строки прошли над Невской водой, сказал, наконец, Митя. – Но придумал ты странно.
– Я не придумывал, – произнес Петя тихо. – Николай Степанович вправду любил ездить на той бронзовой скульптуре льва, что в Тюильри. Я только не знаю, насколько уединенное то место, где скульптура стоит. Вероятно, прохожие удивлялись, что взрослый человек залезает на скульптуру верхом.
– Откуда ты это знаешь?
– Анна Николаевна мне рассказала.
– Но почему она мне не рассказывала? Я ничего не знаю про эту историю, – голос Лены подозрительно зазвенел.
– Не сердись. Иной раз легче рассказать кому-то другому, не родным. Может статься, Анна Николаевна угадала, что стихотворение напишу я. – Петя мягко улыбнулся. – Она ведь такая – она часто угадывает.
Петя открыл фонарик и быстро загасил пальцами огарок: его стихотворение было на сей раз третьим.
Заседаниями своими «алхимики» очень дорожили. На сей раз, впрочем, собрание вышло невеселым. Странные предчувствия Лены, неприятное недоразумение… Некоторая неловкость, ощущаемая Петей из-за того, что он, как бы в обход Лены, узнал красивый эпизод из жизни Николая Степановича…
Но, так или иначе, а заседание состоялось. Стихотворения, которым по определению не суждено было облечься в печатные строчки, прозвучали – подаренные их городу, их воде.
Холодало. Приближался декабрь 1934 года.
Глава XVII. Пляска смерти«Я не могла подумать, что траур может быть непристойным», – сказала вчера мама.
«Чему ты удивляешься, Аня, – ответил дед. – Возвращение во времена до Благой Вести. Вспомни наемных плакальщиц древних цивилизаций, языческие тризны с объеданием и состязаниями… И похороны могут быть мерзостью вне жизни во Христе, и свадьба, и что угодно. Как бы не чрезмерно обильными оказались человеческие жертвоприношения… На могиле, как это обычно бывает у им подобных…»
«Будут жертвы?» – мамин голос дрогнул.
«Бог даст – обойдутся резней в своих кругах».
Этот обрывок разговора Лена услышала, разумеется, случайно. Но сейчас, спустившись на второй, отведенный младшим классам этаж (за палочкой мела в кладовку), она невольно вспомнила слова Анны Николаевны.
Экспозиция «Делаем сами, своими руками!», только что украсившая было рекреационный коридор, со склеенными из картона макетами зданий, вышивками, вязаньями, росписью на деревянных дощечках, бумажными цветами, фигурками из папье-маше и китайскими фонариками, исчезла без следа, словно ее и не было.
Вместо этого на деревянных щитах вдоль стен, под общим черным заголовком «Наша школа скорбит о товарище Кирове» теснились ряды неумелых рисунков. Словно все последние дни у малышей и не было иных уроков, кроме рисования, – столько их было, этих альбомных листков.
Сюжет повторялся, как ни странно, один и тот же. Дети изображали самих себя на одной из многочисленных траурных линеек. Актовый зал, учителя, пионерские вожатые, директор, ровно выстроившиеся ряды в красных галстуках. Обведенные черным портреты с надписью «Киров». И – самое выразительное – пустота внутри траурных рамок.
Рисовать сообразно своему умению портреты «товарища Кирова» младшим ученикам было запрещено.
Эта многократно повторенная белая пустота завораживала. Словно втягивала взгляд. Куда-то в абсолютное небытие. Было одновременно и жутко и почему-то противно. Словно маленьких в самом деле заставили сделать что-то неприличное.
«Траур может быть непристойным…»
Лена обратила внимание также на то, что галстуки нарисованы на всех без исключения детях. Что это, тоже «так надо» для идейности изображения, или же она не обратила внимания на то, что в пионеры стали принимать теперь легче?
– Почему не на уроке? – гаркнула издалека одна из учительниц младших классов. Не та, что была у Лены, да и вовсе недавно появившаяся, Лена ее по имени не знала. Учительница тяжеловато торопилась куда-то по коридору: красные пятна на щеках, волосы растрепались.
– Я за мелом к тете Шуре. – Дома Лену сурово остерегали от вульгарной манеры называть чужих людей «тетями» и «дядями», но для старенькой школьной кладовщицы нельзя было не сделать исключения.
– А, ну иди. – Учительница, заметив, что Лена рассматривает рисунки, судорожно выдохнула. – Видишь, маленькие, а все понимают уже, чувствуют, что без товарища Кирова осиротели… Ну ладно, ступай, ступай, учиться все равно надо! Товарищ Киров бы сказал – не плачь, а учись!
«Траур может быть непристойным…»
Но ведь вот что странно: Лена чувствовала, что учительница вовсе не притворяется. Опухшее лицо, мутный взгляд, растрепанные волосы. И все это из-за смерти чужого человека, чиновника, даже не какого-нибудь их революционного светоча, но одного из многих.
Расстроенный вид оказался и у Шуры. Ее доброе лицо, уменьшившееся от старости, из тех, которые уютно сравнивают с печеными яблочками, не осветилось приветливой улыбкой, какой она встречала всех, а особенно девочек.
– Вот ведь, мила дочь, какие дела… Мел, говоришь? Вот тебе мел… Чего неладно? А, красный я тебе дала, ну вот, возьми обычный. Случайно я.
– Спасибо, тетя Шура.
– Ну, беги, беги… Ты девочка хорошая. Храни тебя Господь… – Старушка мелко перекрестила Лену.
Странно, пожилые люди вправду меньше боялись совершать крестное знамение, особенно пожилые из простых, но все же в школе Шура так обычно не делала.
Но надлежало уже вправду спешить. Лена выбежала на лестницу.
Кабинет ботаники и географии был в самом конце коридора. Из-за дверей других классов, как обычно бывает, когда проходишь мимо во время занятий, доносились отдельные фразы.
«…Импульсом, или количеством движения, называется произведение массы тела, помноженное…»
«…Это предложение – сложноподчиненое…»
«…Ты был близок всем нам, товарищ Киров, как верный друг, любимый товарищ, надежный соратник. До последних дней своей жизни и борьбы мы будем вспоминать себя, дорогой друг, и будем чувствовать горечь нашей утраты…»
Ну почему «себя»? Эту ошибку, кочевавшую из газеты в газету, Лена слышала уже неизвестно который раз. Почему никто ее не исправит, когда читает вслух?
Школа гудит как сумасшедший улей, но ведь и на улицу не хочется. Там не лучше. Несется какая-то страшная музыка из репродукторов, колышутся на декабрьском ветру обшитые черным красные знамена. Люди нервозны, раздражаются от пустяка. В трамвай – просто не войди. Тебя же толкнут, на тебя же и накричат при этом.
А все ж на улице лучше. В школе безумие заперто в четырех стенах, набито как в коробочку. Лена потерла руки в варежках. Все равно мерзнут пальцы, хоть и оставила с неохотой перчатки. Еще в конце ноября. А так неприятно, как маленькой, в этих варежках ходить.
Где можно, кроме заводов, люди не работают, а постоянно митингуют. Но хотя кажется, что никто этого не только не говорит, но и не может сказать, везде, даже в старших классах в их школе, безликой поземкой ползут слухи: убит любовником жены. Нет, мужем любовницы. Любовницей, бывшей.
Бабушка была эпатирована, что Лена рассказала дома одну из этих версий. По бабушкиному, молодая девушка вовсе не должна знать, что такое «любовница». Тем более, произносить подобное слово вслух. Ну, в бабушкино время и книги делили на позволительные девушкам и позволительные после замужества. Хорошо, что бабушка вообразить себе не может, о чем говорят некоторые девчонки на переменках. Но Лена ей не расскажет, тем паче, ей вовсе не все понятно, и она честно старается не прислушиваться. Очень уж все это противно. С младших классов изменилось только одно: раньше шептались про посещение ретирада, а сейчас – про отношения женщины и мужчины. Но выражение лиц осталось ровно то же самое.
А Лена и так дольше всех, класса до шестого, думала, что выражение «обманывать мужа» означает «говорить мужу неправду». Кларка очень гадко хихикала, когда, сплетничая про Розалию, услышала Ленин вопрос: «А в чем?»
Ох, как задувает! Лена прибавила шагу, надеясь согреться быстротой.
Затем слухи об убийстве из ревности вступили в спор с сенсационными газетными заголовками: оказывается, у ревнивца по имени Николаев (имя тоже проскочило не сразу) было множество сообщников. И все, разумеется, зиновьевцы. Сталин призвал к «чистке» внутри партии.
Скорей бы все это закончилось… Лена сворачивала уже в свой переулок.
Неожиданный плач, поразивший прозвучавшей в нем чистотой искренности, неистерический, обычный, заставил ее обернуться.
Дверь парадного, которое она только что миновала, выпустила нескольких человек, нагруженных какой-то кладью. Старуху в еле живой енотовой шубе и муфте, вне сомнения «из бывших», женщину, одетую несколько неприметнее, в пуховой шали, мужчину с мальчиком лет двух на руках. Плакала женщина помоложе. Плакала, но не могла утереть слез, поскольку несла объемистый саквояж.
– Успокойся, Nadine, – сурово изрекла старшая. – Это стыдная слабость.
В следующее мгновение дверь отворилась вновь, выпуская на этот раз красноармейца. Самого обычного красноармейца, разве что не с малиновой, а с кирпичного цвета звездой на богатырке. Верно, у них малиновая ткань вся вышла, мелькнула вовсе лишняя мысль. Так что же это? Арест? Но отчего с багажом и с ребенком? Детей ведь при аресте отдельно увозят, в детские дома особого назначения. И вещей позволяют взять вовсе немного. Да и арестовывают обычно по ночам.
– Мама, у Ванечки ведь жар… Не прошел еще… Ты же знаешь, с утра был. Как мы поедем? Куда?
– Мы не в силах ничего изменить, – отчеканила старшая дама. – Но достоинства никто не отменял. Молчи и молись.
Мужчина, прижав ребенка еще ближе к груди, постарался свободной взять у молодой женщины ее ношу.
– Я справлюсь. Неси Ваню. – Женщина выпрямила спину.
К парадному подъехал грузовик.
– Чего так долго, Косой? – недовольно крикнул шоферу красноармеец. – Опять в пивной грелся? Если не успею лишенцев на поезд загрузить, отвечать будешь.
– Да ладно, есть еще время.
…Лена прошла дальше. Вот оно что: кого-то выселяют из города. Жалко людей… Куда-нибудь в Бологое или в Лугу… Но почему тогда – поезд? У Таты Ивановой тоже папа выслан, но он-то живет в Павловске. Часто приезжает домой, главное только – не надо оставаться на ночь. По ночам милиция проверяет квартиры, где у высланных семьи. Но и Тата с мамой к отцу ездят хоть на неделю, он комнатку с верандой снимает у какой-то старухи. До Павловска недалеко электричкой. Надо деду рассказать. А маме лучше не рассказывать. Ей будет тревожно за мальчика Ваню и всех жалко.
Но около собственного подъезда громоздился еще один длинномордый грузовик. Сердце пискнуло, как испуганный мышонок. Мама! Мама не станет плакать, но как она сможет жить без Петрограда! Это – за нами?!
Красноармеец вышел из подъезда, сопровождая… еще одну старуху, вовсе дряхлую. Веру Иларионовну, соседку снизу. Но ведь Вере Иларионовне – далеко за восемьдесят лет! Она совсем одинока, с крошечным своим хозяйством не справляется. Вместо нее и за покупками ходит Зина, молодая родственница близкой семье прислуги.
Тяжело опираясь на трость, Вера Иларионовна медленно спускалась по ступеням. Другой рукой она держалась за перила, вещевой же мешок из шотландки висел у нее через плечо. Отдельно к мешку были приторочены медный чайник и фарфоровая кружечка.
– Вера Иларионовна! – Лена в ужасе кинулась помогать старухе.
– Проходите, девушка, не положено, – буркнул красноармеец без злобы. – Ежели родственница, можете проводить на вокзал. Но только по документам, без документа на платформу не допустят.
– У меня нет родственников, я одинока, – старая дама кинула Лене значительный взгляд. – Ступай домой, деточка. Ты ведь, кажется, Анастасия? Кланяйся родителям, помню их. Ступай с Богом.
Никогда ступени родного парадного, любимого и такого светлого, летящего вверх, не казались Лене такими длинными. Каждый шаг словно отнимал силы.
Барбосиха, возившаяся в своем сундуке близ дверей, проводила Лену долгим взглядом, в котором плескалось не замеченное девочкой злорадное довольство.
– Дедушка!
– Я хотел за тобой в школу идти. – Александр Николаевич снял наброшенное было кашне. – Нехорошо в городе. Но у тебя же должен быть еще один урок, Лена?
– Отменили. У пионеров и комсомольцев внеочередное собрание. Траурное. Дедушка… что это всё? Что происходит?
– Я полагаю, ты знаешь, – Николай Александрович выразительно кивнул на дверь, привычно призывая не говорить лишнего, не проверив, не подслушивают ли соседи. Подошел к двери, слегка приоткрыл. Воротился обратно.
– Знаю… – продолжила Лена. – Только сегодня я на улице видела грузовые автомобили. В них куда-то вывозили людей. Одну семью, четверых человек, и нашу соседку Веру Иларионовну.
– Семью тоже – нашего круга?
– Да.
– Значит, опять взялись за дворян. Можно было предположить. – Энгельгардт взялся за папиросы, хотя обыкновенно при детях курить избегал.
– Но дедушка! – возмутилась Лена. – При чем тут мы? Их Кирова убил собственный их партиец, все говорят.
– Мы всегда у них причем, Ленок. Каплан была тоже из их своры, а убивали нас. Что свою грызню они опять оборотят против нас, это можно было предугадать. Вопрос сводится лишь к тому, сколь широко это нас затронет. Мне уже звонили Орловы, их тоже высылают. – Дед говорил сейчас с Леной словно со взрослой. Это было немного странным, но вместе с тем заставило подбородок вскинуться выше, а плечи – развернуться. – В газетах они пока что выискивают сообщников убийцы среди своих, но на самом деле, как видишь. Не стану скрывать от тебя, друг мой: в ссылку можем отправиться и мы. Хотя я постараюсь кое-что сделать, дабы этого не произошло. Но увы, ссылка все же возможна.
– А разве можно жить без Петрограда? – голос Лены упал. – Без Летнего сада, без Петра Великого, без Аничкова моста, без Сфинксов…
– Твой отец жил и в Африке. Сфинксы там, впрочем, иногда попадаются. – Энгельгардт улыбнулся. – Но помимо них хорошего мало. Там дико, опасно и тяжело. Твой отец был воином. В тебе кровь многих воинов, Елена. Кровь крестоносцев. Помни об этом… если что-нибудь случится. Яви волю к жизни, единственно не в ущерб чести. Человек способен вынести непостижимо многое, если он не сломлен изнутри.
– Я запомню, дедушка. – Лена промолчала немного. – А куда выслали Орловых? Тоже на поезде? Далеко?
– Да. Куда-то в Среднюю Азию. В сельскую местность. Это теперь будет иное, нежели обычные ссылки. А толком они и не знают, да и никто, похоже, не знает. Бабушка ушла за хлебом и в бакалею. Скоро воротится. Посиди сегодня дома, Ленок.
– А ты?
– Я тоже ненадолго. У меня вышли папиросы. В наши времена, знаешь ли, неприличным считалось просить женщину покупать табаку либо вина, даже если она самое их употребляла. Нам с бабушкой менять свычаи поздно. Уж она и знает, что я без «Иры», а покупать не станет.
Лена вздохнула, снимая старенькую цигейковую шубку, удлиненную кроличьими манжетами и таким же низом. Проскользнула в «гумилевскую» комнату мимо одевающегося деда.
Однако, выйдя из дому, Энгельгардт отнюдь не направился к табачному ларьку. Вынув из кармана почти полную коробочку «Иры», он вытряхнул папиросу и закурил, остановившись около фонаря. За первой папиросой последовала сразу вторая. Неистовое напряжение сосредоточенной на чем-то мысли, отражающееся в его лице, казалось доходящим до физической боли.
Затем Энгельгардт решительным жестом швырнул недокуренную папиросу в урну и быстрыми шагами направился в противоположную от «Табака» сторону – к отделению почты и междугородной телефонной связи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































