Текст книги "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева"
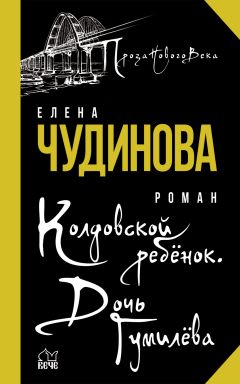
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
– Ну и что теперь – дуэль? – Митя Журов, не обращая внимания на дебелую продавщицу, доливавшую вишневый сироп в длинную колбу, запил вопрос глотком «газировки», ледяной и колючей, ядовито розового цвета. Стакан розовой стоил сорок копеек, а желтой – тридцать пять, но розовая считалась вкуснее. (Воды без сиропа можно было напиться всего за гривенник, но пили ее разве что взрослые.)
– Ты закончи. – Петя многозначительно покосился в сторону тележки. Он воды не пил, отдав предпочтение зажатому между двух вафельных кружков шарику пломбира.
– Да полно. – Митя, поставив стакан на поднос для грязной посуды, молча прошел по Невскому несколько шагов. – Пролетарии не знают нашего языка. Раньше при прислуге «французили». Теперь даже это лишнее, пролетарии просто не понимают слов.
– Никогда нельзя недооценивать врага. – Петя жестко усмехнулся. – Знаешь ведь, как сейчас много доносят.
– Да знаю… Хорошо, ты прав. Но оставим этих врагов, Оборин. Нам надобно решить вопрос поважнее. Враги ли мы? Ты и я? Повторюсь, я увидел довольно. Ты всю неделю встречаешь Лену после классов, сам, поди, сбегаешь с последнего урока, так? И эта сирень позавчера… Я думаю, нам, как порядочным людям, надлежит попытаться все решить без дуэли, но если не получится… Огнестрельного нет, но уж шпаги всяко найдутся.
– Ладно, погоди о шпагах. – Петя был серьезен, чему нимало не мешало мороженое в руке, хотя за последним и требовался пригляд: не лизни вовремя, капнет на рукав. – В самом деле, попробуем сперва разобраться на словах. Да, я люблю Елену Николаевну Гумилеву.
– А ты сейчас произнес ключевые слова, – прищурился Митя. – Только по чести, ответь не мне, а себе. Ты любишь – Гумилеву с отчеством Николаевна. А я люблю Лену. Я еще не слишком-то разбирался в поэзии, когда играл с ней в «барыня прислала сто рублей» и «бояре, а мы к вам пришли». И когда защищал ее от наших уродов в классе, хотя она самое преотлично дралась, ты, небось, не поверишь. Но ее все равно хотелось защитить. Не скрою, то, что она – дочь поэта, всё украсило и даже весьма. Но для меня на первом месте Лена, а не Гумилева. А для тебя?
– Ты хочешь простого ответа? – Петя вытер пальцы белоснежным батистовым платком. – А все не так просто. Пойми. Ты мог этого не понимать, но не ощущать ты не мог. Шестым чувством. Она все равно – плоть от плоти величия. Она не такая, как все. Она словом дождь останавливает. Только разве что красивая.
– Была некрасивая. – Митя тоже улыбнулся. – Как гадкий утенок. С год, как начала хорошеть, не больше. А будет еще лучше.
Течение проспекта то подхватывало двух мальчиков, то разбивалось о них, как о волнорезы. Дамские шляпки, надвинутые криво на одну тонкую бровь, завитые кудри, красные косынки комсомолок, вышагивающих мужской грубой походкой, сплюснутые кепки рабочих парней, полосатые рубахи со шнуровкой у ворота, нравящиеся любителям спорта, сердитые старухи с кошелками, деловито приложенные к своим портфелям толстяки средних лет, облаченные в непременные толстовки, дети в панамках и восточных тюбетейках, дико глядевших на льняных волосах; все это двигалось, галдело, покрикивало и рябило в глазах. Меж двух тротуаров грохотали длинномордые автобусы, гудели автомобили АМО, мнили себя дирижерами города милиционеры в белых летних рубахах.
Здесь было безопасно разговаривать – безопаснее, чем в пустынном парке. Если, конечно, не останавливаться нигде подолгу.
– А некрасивую ты любил? – серьезно спросил Петя.
Они шагали рядом и казались со стороны давними приятелями, даже друзьями, хотя в действительности познакомились лишь утром, когда Журов изыскал все же возможность наедине представиться Оборину.
– Не знаю. Дети любить не умеют. Она просто всегда была. Сколько я себя помню. – Митя нахмурился. – Твой шанс больше. Ни ты не видал ее с измазанными в чернилах пальцами, ни она тебя – с расквашенным носом. Ты тут явился новеньким с иголочки, уже взрослым. А я привычный, в принцы не гожусь. Говорят, девушкам это важно.
– Девушкам – или Лене Гумилевой? – Петя резко остановился, вынудив собеседника последовать его примеру. Теперь они смотрели в глаза друг дружке, благо одинаковый примерно рост позволял. В остальном мальчики были разные: темноволосый красивый Петя и светло-русый, с резкими чертами Митя в его серьезных роговых очках. – Она не такая, как все. Она не здешняя. Не стоит гадать, что ей важно. Знаешь что, Журов? Давай не станем драться. Только ты не воображай, что я тебя испугался.
– Нет, я так не думаю. Ты о том, что нас мало?
– Не только, хотя и это тоже. Может так получиться, что мы понадобимся ей оба. Главное сейчас – беречь ее, как сумеем. Она же – как под анчаром живет, а вокруг капает яд. А кто ей больше дорог, это ведь ей решать, не нам. И не непременно это будет один из нас. Я только одно тебе скажу наверное. Другой в моей жизни мне не надо. С другой я сделаюсь как все… А я… у меня другие планы. Только ради Лены Гумилевой я могу их переменить. Только с ней я себе не изменю.
– Я понимаю. И да, ты прав. Мы можем оба потребоваться ей. Только если… – Митино лицо сделалось вдруг старше. – Если и нас обоих будет мало, что тогда?
– Не знаю. Но может статься, ее охраняем не только мы? Она же все-таки – колдовской ребенок. Так или иначе сейчас мы есть – и давай будем. Мир?
– Мир.
Руки встретились в крепком пожатии.
…В это же время в Эртелевом переулке, стоя у окна, Николай Александрович, с неподвластным ни одному живописцу, окажись тот рядом, сплавом боли и восхищения в лице, всё не мог оторвать взгляда от листка бумаги, зажатого в руке. Бумага была тетрадной, клетчатой, с размеченными по линейке полями. Почерк – неустоявшийся, неуклюжий. Химический карандаш – то лиловым, то бледным, когда забывал попадать в рот. Случайный листок, небрежно оставленный на столе – рядом с учебником географии.
Ты упырь, самозванка-звезда!
Разгадала я красный твой цвет.
Ты ведь папиной кровью сыта,
Ты взошла как знамение бед.
Самозванка-звезда, ты вампир!
Кровь живую сосешь да сосешь.
Дальше несколько строк были густо зачеркнуты, оставив лишь «пир».
Пять зубцов твои, каждый как нож.
Опять зачеркнутые строчки, слов разобрать не удавалось.
Каждый лоб, что помечен тобой,
Прячет мысли о крови моей.
Остальные строки тонули в перечеркиваниях и исправлениях, таких обильных, что разобрать написанное не представлялось возможным.
Глава XIV. Гильдия алхимиковПорог дома (в немыслимом нынешнем смысле – порог одной из двух комнат) Гумилевых-Энгельгардтов Петя переступил очень серьезным и немного бледным. В руке он держал розу, как потом выяснилось по пятнышкам крови на ладони – слишком крепко, не замечая укола шипов. Роза была, как отметила Лена, правильной: не ярко-красная, не белая, разумеется, и уж никак не желтая. Нежная, бледно-коралловая. Очень уместная.
– Мама, позволь тебе представить Петю… Петра Викторовича.
– Дочь о вас рассказывала, Петенька.
Еще очень красивая и такая молодая женщина, устроившаяся с книгой на маленькой софе, ласково улыбнулась. Ее платье тоже было темно-синим, как и Ленин костюмчик. Вероятно, обе, как золотистые блондинки, этот цвет жаловали.
Похожи? Непохожи? Черты Анны Николаевны казались правильнее Лениных. И все-таки мать и дочь угадывались в них сразу.
Немного как во сне: эта яркая от эскизов декораций и больших кукол комната, закругленная тремя узкими окнами, эта чуть неловкая еще девочка, воцарившаяся теперь в его душе так властно, словно он ждал этого всю жизнь, эта женщина, о которой – над одним из самых любимых стихотворений – было начертано «моей жене Анне Николаевне Энгельгардт».
Петя пересек комнату, и, преклонив колено, протянул этой женщине цветок.
– Благодарю. – Анна Николаевна ласковым жестом коснулась Петиного затылка, принимая другой рукой розу. – Вы угадали мою банальность: розы я в самом деле очень люблю. Более утонченные дамы предпочитают, вероятно, орхидеи.
– Анна Николаевна, – Петя остался серьезен, не улыбнувшись в ответ на шутку – вне сомнения имевшую целью ободрить его. – Анна Николаевна, я хотел сказать вам: вы всегда можете располагать мною, если я понадоблюсь. Понимаю, что это дерзость – надеяться на то, что я могу понадобиться, ведь вас окружают, конечно, настоящие ученики Николая Степановича, те, кому он в самом деле доверил вас и Елену Николаевну… А я всего лишь…
– Для учеников Николая Степановича нашлась другая вдова, – холодно произнесла Лена.
– Елена, это нехорошо, – Анна Николаевна нахмурилась.
– А хорошо придумывать о тебе гадкие сплетни? – парировала дочь. – А хорошо – предавать?
– Елена, – Анна Николаевна выразительно кивнула на Петю.
– Мама, Петя не чужой и ему не все равно.
– Как же быстро дружатся в ваши годы, – Анна Николаевна чуть улыбнулась. – Но это не в укор. Вы часто бываете больше правы, чем мы, недоверчивые взрослые. Хорошо, коль скоро ты считаешь Петра другом, так приму его и я. Но вот наш дедушка вам, Петя, не обессудьте, устроит настоящий экзамен.
– Да, я понимаю. – Петя очень серьезно кивнул. – Николай Александрович должен знать, кто встречается с Леной. Пусть экзамен. Только вот… я иногда пользуюсь шпаргалками.
Присутствующие рассмеялись, сделалось свободно и легко.
– О друге, сдается, следует позаботиться. Поставь чайник, дорогая. И накрой затем на стол. – Анна Николаевна уронила на пол книгу, оказавшуюся старым томиком Стриндберга. – Я так набегалась давеча, что хочу лениться. Не поднимайте, Петенька. Пусть ее валяется, книга преглупая. Тоже мне, «пламенный Август».
Последние слова прозвучали несомненно так, словно Анна Николаевна кого-то чуть передразнивала. В следующее мгновение Петя понял, что эти интонации относились к Александру Блоку, но не как к известному поэту, а как к не самому приятному знакомому.
– Я все сделаю, мама. – Лена вышла, постукивая подбитыми каблуками. Она все еще носила не туфли, а ботинки.
– К сожалению, моя дочь, хотя и резка в оценках, но права по сути, – опережая вопрос, который Петя и не очень решался задать, сказала Анна Николаевна. – Нас ни разу не навестил ни один из учеников или друзей Николая Степановича.
– Даже… даже Осип Эмильевич? – тихо спросил Петя.
– Увы. Это, конечно, особенно печально. Но я давно об этом не грущу. Что мне они? Говорят, что девочки чаще похожи на отцов, чем на матерей. В моем случае это правило не сработало. Но зато Лена так напоминает мне ее отца… Ранимая, смелая, слишком прямая… То неимоверно застенчивая, то повелительная. А жесты и интонации порой таковы, что я верю – мой муж не покинул нас вовсе. Который класс вы заканчиваете?
– Как Лена. До конца каторги еще долго.
– Барбосиха отливала себе наш керосин, – Лена поставила чайник на подставку и принялась отворять створки буфета. – Я застала ее на месте преступления. Она стала совсем туга на ухо, не слышит шагов.
– Не эти, мейсоновские. Дорогая, Анюта, конечно, пренеприятная особа, но все же так говорить не надо. Даже о ней.
– К тому ж в конторе Домотопа,
Всегда я встречу эфиопа,
– процитировала Лена, высыпая в вазочку баранки из кулька. – Я могу называть ее Эфиопкой вместо Барбосихи. Она всегда в саже.
– Папа твой был взрослым, когда так развлекался. – Анна Николаевна посмотрела на Петю, словно продолжая уже высказанную мысль. – А в твои годы лучше с уважением отзываться обо всех старших. Если не с уважением, то хотя бы прилично.
– Мама, ты сегодня как наша бабушка говоришь. – Лена, улыбаясь, расставляла чашки. – А тебе это не к лицу, ты молодая и красивая.
Первая влюбленность? Похоже на то. Очень уж разошлась, и щеки, обычно бледненькие, так и пышут румянцем.
На румянец обратил внимание и Петя. С новым восторгом, ибо румянец у Лены оказался редкого тона, того, что называют «английским». Холодный, пионовый.
Ну да беда невелика, решила Анна Николаевна. Мальчик производит достойное впечатление.
Все это снится, подумалось Пете. Такого счастья просто не может быть наяву.
– Сластей у нас к чаю, я смотрю, маловато. – Анна Николаевна поднялась. – Подожди еще пару минут, пусть чай заварится. Я покуда погляжу на кухне, чего бы еще сочинить на скорую руку.
Оставшись одни в комнате, впервые, оба подростка отчего-то смешались. Лена принялась с преувеличенным вниманием поправлять льняную салфетку на заварочном чайнике, Петя оглядывался вокруг в поисках предмета для разговора. Предмет злонамеренно прятался.
– Я сделала вам сандвичей. – Анна Николаевна вернулась, осторожно неся угощение. – С холодным мясом. Николай Александрович называет Лену эльфом, но наш эльф питается отнюдь не засахаренными фиалками. Лена очень любит мясное, даже жирное. Куда только все это уходит. Вспоминаю, еще в два годика требовала «гоядину». Николай Степанович очень смеялся всегда. Петенька, ешьте. И еще один положите себе. Вы же оба растете еще.
Они в самом деле еще росли. Выложенная на блюде хлебная пирамидка весело убывала. Анна Николаевна только подливала чаю и не без озабоченности прислушивалась к юной болтовне.
– Петя, а ты в какую церковь ходишь? Мы, знаешь, в собор не ходим, хоть он и близко. И любимый очень собор был. Но там обнагленцы сидят. Ну, дедушка так обновленцев называет. Мы ходим в церковь Симеона и Анны. В орденскую.
– Ну, я вообще католик.
– Ух ты. Это как?
– А бабушка же у меня полька. Она и окрестила, в двадцатом году. Не в Святой Екатерине, это опасно тогда было, а у святого Бонифация. Туда заглядываю. Но, честно говоря, не очень часто. Надо серьезнее к делу относиться, конечно. Нехорошо.
– А тебе не кажется, что мы верующие… немножко назло? Не такие настоящие, как родители в нашем возрасте? Мы многое примешиваем к религии такого, чего вовсе не нужно. Я, знаешь ли, много тут думала. Первые христиане – они вообще умели за врагов молиться. А я, если начну, то о таком молюсь, что лучше не надо вовсе.
– Я понимаю тебя. Да, иногда, быть может. Когда идешь ночью на Пасху и думаешь: смотрите, вот он я, да, я иду в мою церковь… Что, не по нутру? А вот я иду. Но с этим, верно, ничего не поделать.
– Вот уж вправду – маленькие детки, маленькие бедки, – вздохнула Анна Николаевна. – Вы хотя бы понимаете, дорогие, что сейчас наболтали на несколько сроков, услышь нас кто чужой?
Не только сроков, иногда расстреливают за меньшее, попытался шепнуть внутренний голос. Но слова «расстрел», когда речь шла о близких, Анна не была в состоянии примерить даже мысленно. Даже допустить, что с папой или Леной может сделаться как с Колей – и жить станет слишком уж невыносимо.
– Анна Николаевна… – Петины серо-зеленые глаза вдруг сделались очень взрослыми. – Я, может статься, имею мало жизненного опыта. Но из всего, что я уже успел понять и узнать, вытекает только одно: не стоит осторожничать. В жизни и без того слишком мало удовольствий. Нет, разумная предусмотрительность нужна, кто спорит. Стихов Николая Степановича я кому не следует декламировать не стану, поверьте. Но я видел очень осторожных людей, боявшихся сказать пару слов по-французски, молчаливых до изумления об арестах, ценах, властях – почти обо всем. Не жизнь, а пытка так за собою следить. И что же – некоторых все равно забирали. Одного такого осторожного забрали как польского агента. Он на вечеринке сказал пианисту: «Сыграйте лучше Шопена». И я покуда пришел к выводу, что осторожностью от Серого дома не уберечься.
– Что же нам остается, кроме осторожности? – Суждения мальчика Анну Николаевну, тем не менее, заинтересовали.
– Только Божья воля. Я плохой католик, быть может, очень плохой, но это я знаю твердо. Без нее волос не упадет. А если мне суждено погибнуть, то мне приятней будет знать, что я, хоть в разумных пределах, жил не в страхе. Так, как хотел.
Какая-то уже настоявшаяся убежденность, звучавшая в юном голосе, произвела некоторое впечатление на Анну Николаевну. Достаточное для того, чтобы уже не сердиться, когда дети горячо завели речь об задуманном ими поэтическом собрании «Гильдия алхимиков». Хотя уже само по себе собрание под названием, да еще регулярное… Ах, пустое. Коля бы сказал, что мальчик прав. Нужно просто больше молиться.
– Но какое отношение имеют к поэзии алхимики? – только и сказала она, да еще улыбнулась.
– Алхимия – великая наука трансформации. Преображения одного вещества в другое. Как и поэзия, мама, как и поэзия!
– Ленок, ну какая же алхимия наука? Из нее в самом деле вышла наука – химия. По которой тебе стоило бы заниматься лучше, кстати говоря.
– Мне скучно. Химия, конечно, полезна, но, мне кажется, она слишком… прагматическая. Алхимия открывала дороги множествам наук, которые не состоялись.
– Да-да. Помню, маленькой ты читывала дедушкиного Парацельса. Спасибо, что не пробовала сотворить гомункула.
– Это слишком противно, – хмыкнула Лена.
Гомункула впрямь было бы уж чересчур неприятно создавать. Вот с мышами дело обстояло проще. Лене вспомнилось вдруг полузабытое. Как они с Митей, одиннадцатилетние, запихивают свежую солому в тщательно отмытую глиняную крынку, найденную в каком-то подвале. Крынку они закрыли Митиным носовым платком, который прикрутили по горлышку проволокой. Для надежности еще закупорили кое-где стеарином со свечки. Где ж они тогда прятали этот злосчастный сосуд так долго, несколько недель? Вот и не вспомнить уже. Откупоривали дома у Лены, на кухне, когда никого не было. Сколько же было радости, что опыт удался! Самозарождение! Из остатков упревшей соломы посыпались прелестные, маленькие, темно-серые создания… Такие теплые, такие живые… Одна вышла беленькой… С глазками как пиропы. Альбинос. А уж голодны мышки были ужас до чего. Никуда не разбежались, пищали жалостно. По счастью, нашлось для них хлебных корок. А потом, собрав доверчивых зверушек, они отнесли их на улицу и выпустили около бакалейного подвала. Надо же малышам где-то питаться. А мама с бабушкой бы, пожалуй, не обрадовались зверкам дома. Странно, что она начинает такие вещи понемножку забывать… Ведь память-то – очень хорошая.
– О чем ты задумалась, дорогая?
– Так, о Парацельсе.
– Право, лучше бы о домашнем задании.
– Мама…
– Ладно уж, не ворчу.
…Как же ужасно это было – покидать этот дом! Даже зная, что воротишься, воротишься, вероятно, довольно скоро… А все ж: вдруг здесь будет глухая стена вместо двери? И соседи скажут, что никогда здесь никто и не живал?
– Анна Николаевна… Вы ведь расскажете… Вы ведь расскажете о Николае Степановиче.
– Расскажу, Петенька. – Лицо Анны Николаевны осветилось совсем юной улыбкой. – Непременно расскажу. Приходите.
Глава XV. Тучи над ВИРом– Кто ж это у нас набрался, как офицерское благородие в отпуску? – Энгельгардт не сумел сдержать смеха, остановившись на площадке между этажами. – Вот уж от кого не ждал эдакой лихости.
Но едва Задонский, сидевший на ступеньке, привалившись к стене, поднял голову, смех его оборвался. Глаза молодого человека были совсем трезвыми. И почти безумными.
– Так-так… Где ж у нас, хотелось бы знать, ключ? Ах вот он, замечательно, даже не потерян, в кармане жилетки, как ему, ключу, и положено, – успокаивающе приговаривал Николай Александрович, пытаясь поднять и взвалить на плечо отяжелевшее тело. – Оно и распрекрасно, ибо соседи в дверях нам сейчас вовсе даже не надобны. Давайте, давайте, Юрий Сергеевич, сюда, нет, о косяк не стоит, лучше в дверь. Так-так, сюда… Замечательно. Еще немного… Уф, у нас всё сладилось! Сейчас вы четверть часа поспите, а я тем временем соображу крепкого чаю. Одна незадача: не знаю в лицо вашего столика и вашего чайника. Да и заварки в буфете не вижу. Так что чайник я принесу от себя, а вы покуда уж будьте паинькой… Впрочем, сейчас вам это, пожалуй, труда и не составит. А ключ покуда уж – пусть при мне.
Если не через обещанные четверть часа, то минут через двадцать Энгельгардт в самом деле воротился с чаем, заваренным прямо в чайнике, по-английски.
Трогать нагрузившегося молодого приятеля было жаль, но Энгельгардта нервило воспоминание об этом нехорошем взгляде. Как знать – быть может, нужны какие-то срочные действия.
Приведение невразумительного тела в божеское состояние заняло, тем не менее, больше часа. По истечении коего Задонский пил уже чай, не отдавая дани обратной перистальтике. Полулежа, подпертый подушками, умытый холодным полотенцем, слабый, как котенок.
– Как говорили в моей юности, вы пренебрегали регулярными упражнениями. Тренироваться надобно, друг мой, тренироваться…
– Простите, Бога ради, Николай Александрович… Страшно неловко вышло.
– Неловко вышло бы, если бы вас обнаружил пролетарский элемент. В последнее время он чрезмерно энергичен в рассуждении силового наведения порядка. Теперь воды, хотя бы полстакана. И рассказывайте, что произошло.
– Начну с довольно дикого вопроса, Николай Александрович. – Задонский потянулся к стакану с водой. – Вы верите в обратный ход эпох? Если бы вдруг, к примеру, возвратилось Средневековье?
– Если бы Средневековье воротилось, я, признаться, был бы очень рад. Ибо Средневековье это отнюдь не то, что о нем пишут теперь. Это вовсе не дикое время. Жестокое, да, но не более и не менее, чем до и после. Однако – упорядоченное, прогрессивное в рассуждении развития наук, с социальной защищенностью человека сверху до самого низа общества. Не верьте в прогресс Ренессанса, заклинаю вас. При нем развивалась единственно механика. И не верьте в нечистоплотность Средневековья, в бани, якобы заимствованные у сарацин. Бани у нас были со времен Римского завоевания… У Григория Турского описано, а это вовсе Тёмные века… Карл Великий час до обеда плавал в бассейне… Человечество завшивело как раз в Ренессанс… А мог ли нищий умереть с голоду или быть повешен за бедность до передовых Тюдоров? Помилуйте… – Энгельгардт немного сердито хлопнул себя ладонью по лбу. – Простите великодушно. У вас несомненные неприятности, а я, как старый боевой конь, заслышав слово-сигнал, ринулся в атаку… Что вы подразумевали?
– Я не знаю тогда, какое слово подобрать. Для нас достижения науки представляются раз и навсегда взятым рубежом. Но может ли это быть не так? Ну, к примеру, могут ли вдруг в учебниках напечатать, что Земля стоит на трех китах, как все-таки думали в вашем любимом Средневековье…
– Так вовсе не думали! Это была аллегория. Бонапартисты похитили один средневековый трактат из кремлевской библиотеки, там было вполне современное описание Солнечной системы… Я делаюсь невыносим. Вероятно, сказывается возраст. Но ваша мысль уже немного прояснилась. Может ли человечество, уже прошедшее изрядный путь, воротиться в дикость?
– Да, примерно так. – Задонский судорожно вздохнул. – В дикость. Причем не только в нравах, а именно в прогрессе.
– Да легче легкого, – невесело усмехнулся Энгельгардт. – Возьмите хоть Галлию, когда Рим ослаб и пришли дикие франки. На какие самокрутки тогда шли фолианты, добытые на местных виллах? Что сталось с водопроводом? После, конечно, маятник опять качнулся к Риму… Но ох как не сразу… Так все же?
– Вавилов окончательно отказался поддерживать яровизацию. Эксперименты не корректны, затраты слишком велики, результат сомнителен…
– Погодите, погодите…
Энгельгардт приблизительно помнил, что яровизацией называется некое особое проращивание пшеницы в условиях низких температур. Да, кажется, так…
– Но что с того? Я покуда не улавливаю…
– Когда яровизация рассматривалась как возможное новое направление… Он очень спешил, наш «босоногий профессор», как его прозвали газетчики… Глядит в «босоногие академики». – Похмелье отступало, вытесняемое новым приступом душевной муки. Молодой ученый выглядел совершенно больным. – Покуда мы ставили опыты, он скакал по трибунам съездов, рассказывая всем этим «вождям» доступные их пониманию сказки… Одичание, одичание во всем, Николай Александрович! Были Императоры, стали – вожди. Только колец в носу недостает. Лысенко теперь их любимая зверушка. Николай Александрович, я словно на краю обрыва… Выбирая поприще, я думал: революционная дикарщина, которой я не застал, кончилась. В точные и естественные науки не полезет никакая власть, они всегда одинаковы. Они всегда есть. Могут – паскудничать по поверхности. Приписывать научные заслуги своему режиму, сажать на синекуры партийных бонз… Но вглубь-то, вглубь, как они могут полезть?
– Смогли? – Губы Энгельгардта скривила недобрая усмешка, но, словно споря с нею, его бледная немолодая рука успокаивающе и мягко легла на плечо Задонского.
– Да. Если б вы только знали, во что они лезут… Когда «босоногий», посверкивая лаковыми штиблетами, ходит под ручку со своей задушевной коллегой – этой партийной коровой Лепешинской… Простите, знаю, что нельзя так о женщине, но это не женщина, это корова… И они толкуют о возникновении клетки из «живого вещества»… А вокруг – подобострастные рабфаковцы, внимающие этой ахинее… «Живое вещество»! – Задонский скривился, как от зубной боли. – Но я не о том… Партийная верхушка, считая Сталина, теперь нипочем не откажется от яровизации…
– Вы полагаете, что это шаманство от науки может выйти боком Вавилову?
– Надеюсь, что нет. Вавилова побоится тронуть даже… этот. Хотя иной раз не по себе. Он ходит, не касаясь земли, наш богоравный Вавилов. Только по делу никогда не имевшей быть «Трудовой Крестьянской партии» было ведь арестовано около полутора тысяч человек[4]4
1296 человек.
[Закрыть]. Ученых-аграриев. Трудно сказать точную цифру, людей брали в разных городах. А Вавилов – за скольких он ходатайствовал! Он ничего не боится, вовсе ничего.
– Мне хотелось бы прояснить для себя, Юрий Сергеевич, – Энгельгардт поднялся и, заложив руки за спину, прошелся по комнате. – Вы сейчас сказали про эту мифическую партию. Я помню, кампания была громкой… Но за Вавилова вы покуда не страшитесь. Еще никто не арестован. Отчего вас так… ударило именно сейчас? Вы уже успели застать вещи пострашнее.
– Нет! Николай Александрович, нет! – Задонский рывком приподнялся на кушетке. – Страшнее я еще ничего не видел. Поймите, аграриев сажали и судили по ложному политическому обвинению. Связь с Прагой, контрреволюция, обычный набор. Мы живем в таком мире, где в эти жернова может угодить каждый… Аграрий, учитель, инженер… Политика страшна, но раньше эти хозяева жизни не лезли в науку… Своими руками… Какими там руками… Ногами… Этими самыми босыми грязными ногами.
– Так вот что вас терзает… Теперь я понимаю.
Энгельгардт отчего-то вдруг вспомнил ту единственную встречу. На Большой Морской, носящей теперь имя приплода незаконно ожеребившегося потомка Кобылы. Но кому имена моветонов, а кому – Большая Морская. Об этом Николай Александрович и сердился про себя, заметив приближающихся к нему двоих, в одном из которых узнал Задонского.
«Эко вы увлечены беседой, молодые люди, – засмеялся он. – Способны пройти не то что мимо, а прямиком сквозь».
Задонский, к его удивлению, залился краской.
«Позвольте представить… Николай Александрович Энгельгардт – Николай Иванович Вавилов, мой научный руководитель».
Спутник Задонского молод действительно не был, немудрено, что тот смутился. Он несомненно перевалил сорокалетний рубеж. Волосы отступили с висков назад, жестко обозначились носогубные складки. Почему же тогда? Ну, разумеется.
Походка.
Издали мальчишки, студенты, учащиеся, словом – все, кто взрослеет не только телом, но разумом, отличаются от мужчин походкой. Мужчины – ходят по земле. Мальчишки – только отталкиваются от нее ногами. Они летают, не связанные еще ни обязательствами, ни житейскими заботами, погруженные в роскошь размышлений о судьбах мира и всех иных абстракций. Летящая эта походка исчезает довольно быстро.
Но Вавилов, в распахнутом летнем пальто, в лихо заломленной на затылок шляпе, шагал так же легко и стремительно, как Задонский. И так молодо просияли улыбкой его глаза – такие лучистые, что и цвета не разберешь…
«Премного виноват, – поспешил, дабы успокоить Задонского, Энгельгардт. – Но в мои годы и академики иной раз кажутся юношами. Счастлив сделать знакомство, Николай Иванович. Почти каждый день слышу о вас от Юрия Сергеевича».
«Теперь видите воочию того деспота, что порой задерживает аспирантов до полуночи. – Вавилов посерьезнел. – Вы не родня ли автору «Писем из деревни»?»
«Александр Николаевич был мой отец».
«Фосфоритная мука, это по тем временам невероятно любопытно! – оживился Вавилов. – Сидерация тоже. В особенности при использовании люпина и сераделлы».
Было безусловно ясным, что об учреждении «Русского собрания» Вавилов если и слышал в юности, то незамедлительно позабыл. Что там говорил Шерлок Холмс относительно того, что мозг не чердак, захламленный ненужным барахлом? Какой спрос с гения.
А что гений – видать с первого взгляда, даже и ничего не зная. И в людях случается та же легкая божественная неправильность, что и в алмазе. Этого сверкания не подделать. Впрочем, несколько последующих минут Вавилов старательно поддерживал светский разговор. Неуловимо напоминая тем хорошо воспитанного ребенка, который помнит – как оно надлежит. И очень старается.
Баловень, барин, воплощение внутренней свободы. Вполне ли отдающий себе отчет, среди чего живет? Бог весть. Беспартийный и не просился к ним. Спорил с арестами, требовал, добивался. Но – это тоже отчего-то сразу было понятно, нимало не сознавая, что поступает смело и мужественно. Страха в нем нет, вовсе. Во всех теперь есть, а в нем нет. Редкой выделки личность. Обыкновенно таким все сходит с рук, эта безмятежность не может не производить немалого впечатления. Но если Низменность все-таки пересилит естественное свое трусливое благоговение перед Высотой – как раз таким достается более всего.
Небожитель. Впрочем, не ангел. Такой не может не нравиться женщинам. С этой-то улыбкой… Кажется – женат второй раз, разведен. Увы, но по нашим временам хорошо уже, что второй, а не пятый.
Тут уже светскую беседу прервал Задонский, которому, вероятно, очень уж не терпелось воротиться к прерванному разговору.
«Так эти три сорта я еще покручу-поверчу, Николай Иванович. Очень уж любопытная пшеничка. Вы ведь ее в Персии добыли?»
«Ну да, на Кавказском фронте. – Вавилов одарил Энгельгардта виноватой обаятельнейшей улыбкой, словно бы извиняясь за неинтересную для того тему беседы. – Когда к Юденичу-то ездил, эпидемию останавливать. То есть вовсе не эпидемию, как выяснилось…»
Запретное имя слетело с уст с невообразимой легкостью.
«Я помню, споры, – отозвался Задонский. – Ядовитые споры!»
«Смерти-то в три дня удалось остановить… Запретили местную муку, да и всё. Они поначалу не верили в отравление – местные тот хлеб преспокойно ели».
«Резистентность!» – Задонский не отрывал совершенно влюбленных глаз от лица академика.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































