Текст книги "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева"
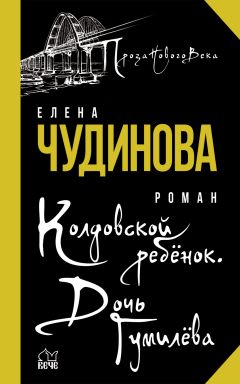
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
– Напрасно. Это был жест уважения к тому врагу, каким вы были в прошлый раз. Не в этот, нет.
– Что вам нужно?
– Вы еще не поняли? – Молодой человек удивленно приподнял бровь. – Ваша жизнь.
– Я мёртв? – Эта мысль принесла бы облегчение, как хоть что-то объясняющая. Но холодная испарина, щекочущая виски и щеки, тремор в руках поверить такому предположению мешали.
– Покуда живы. Покуда мертв только я. Более двадцати лет, как мертв.
– Я… я прошу … – Фон Штайн с трудом дышал. – Не банальной папиросы, нет… Объясните. Я умоляю вас, объясните… Это пытка.
– Строго говоря, вы заслужили пытки. Но… Хорошо, будь по-вашему. Мертвым нечего делать среди живых, и я отнюдь не здесь. Здесь лишь эхо, послевкусие моей личности. Но изредка являются люди, для каких материальный мир тесноват и при жизни. Люди с шестым чувством. Их сознание иной раз побуждает тени к разговору и действию. Большое страдание, катаклизмы и беда лишь усиливают их. Для себя они ничего не ищут и не находят. Им не нужно могущество, их возможности для них естественны, как дыхание. Обычно это люди искусства. Они незащищенней простых смертных, напротив – уязвимее. Но от чего они, сами того не зная, возводят вокруг своей жизни мощный щит, так это от Зиверсов, Бокиев, Блюмкиных, Хиртов, Рерихов… Весь этот оккультный плебс – он дальше от тайны, чем простой крестьянин, что хранит странную память о добром лешем, однажды выведшем его, маленького и плачущего, из леса на дорогу. У детей, кстати сказать, грань миров вовсе размыта – строго до той поры, покуда они не научаются понимать, что «возможно», а что – нет.
Фон Штайн странно всхлипнул. А ведь это правда. Домовой… Ведь он забыл, начисто забыл… Старая Магда, служанка у бабушки, ставила на в углу на кухне кашник «для гнома»! Один раз он, гостя в бабушкином загородном доме, трех или четырех лет, прокрадывался ночью подглядеть. Было очень страшно на лестнице, но в кухне, по счастью, еще догорали угли в очаге. Пауль тут же подбросил щепок и спрятался за корзиной. И что-то маленькое, в красной шапочке и красной свитке, в самом деле явилось за приношением. Толком он разглядеть не успел. Пауль сначала очень обрадовался, а после – испугался. И разревелся так громко, что сбежались и бабушка, и Магда, и муж Магды старик Ганс, и Марта с Фридой…
Он не стал говорить об этом воспоминании, да и не сумел бы пересказать этот хаос нахлынувших картинок.
– Бенвенутто, – произнес он вместо этого. – Саламандра.
– Да. Дети или простые люди наделены шестым чувством, умением пересекать границы материального мира. Но мало кто сохраняет его, взрослея либо развивая земной разум.
– Такой человек есть, в этом городе и сейчас. – Это не прозвучало вопросом.
– Да, – просто ответил Коновницын. – Со мной заговорили – я не мог не ответить. А покойник Солынин дважды проскользнул мимо – когда работал на Бокия и сделавшись вашим человеком. Чем больше смертный пытается проломить стену, тем крепче делаются на нем путы грубой материи. Ведь эти попытки всегда сопряжены с какой-нибудь мерзостью. А иначе не бывает. Такие вот, знаете ли, тайны бытия.
– Благодарю вас за ваше великодушие, граф. Было бы очень мучительно так недоумевать … теперь. – Фон Штайн поднялся. – Я готов.
Поднялся и Коновницын.
В его руках не было оружия, со странным любопытством отметил фон Штайн. Он все еще вертел пульку в руках.
Вблизи он показался еще более… настоящим. Возможно ли такое, чтобы этот человек был неживым, бесплотным? Светлые усики, чернильный след на губе, подсохшая царапина от бритвы на левой щеке… Все как было в тот день, на берегу. Светло-серые глаза… Совсем обычный молодой взгляд – нет в нем никакой страшной тайны и страшной Вечности.
Молодой офицер поднял руку, сжимавшую пулю. И попросту приложил ее острием к груди фон Штайна, слева. Чуть-чуть подтолкнул пальцем.
Это было последнее, что увидел и осознал в своей жизни Пауль фон Штайн. Толчок выстрела, отбросивший тело назад, не успел оказаться болезненным.
Глава XIX. Уход
– И раз… и раз… и раз! Уф…
– Господи помилуй, Иришка! – Отец Владимир озабоченно взглянул на дочь, трудившуюся у домашнего станка, привинченного в простенке между окнами. – Сколько можно эти твои батманы выделывать? Откуда только силы – ногу-то до потолка задирать?
– Папа, я зато согреваюсь. – Тринадцатилетняя Ира Дубровицкая смахнула со лба выбившуюся прядку волос – в самом деле мокрую от пота. – Нельзя не упражняться. На что же я похожа буду, как занятия возобновят?
Сейчас она была похожа на десятилетнюю. Если верить дверному косяку, не выросла с осени и на сантиметр. Старенькое трико висело, не облегая. Даже в самодельных гетрах, сделанных из шерстяных толстых носков, ножки были как палочки. Не растет… Жена говорит, и регулы никак не начнутся, хотя уж четырнадцатый год пошел. Было б хоть какое будущее, а балетное под сильным сомнением. Но – нельзя. Нельзя отнимать цель, без задач жизни люди сгорают быстрее…
– Видишь, вот ты полушубок надеваешь, а мне нормально. Э… Папа, ты что, опять собрался куда? Папа, ну стемнело ведь уже!
– Так шестой час, как не стемнеть? – Священник принялся обкручивать вокруг шеи кашне. – Что поделать, дружок… Люди ждут, у всех страх и горе.
– Горе и до утра не пройдет… Ну, папочка! – Губы девочки задрожали, вот-вот брызнут и слезы. – А как на той неделе ты чуть не замерз, в сугробе-то? Еще спасибо, прихожане довели… Ведь уснул бы! А мы уж ждали тебя, ждали…
– Так довели же. Не без добрых людей живем. – Дубровицкий принял суровый вид. – Иришка, не раскисать! Не имеем мы права слабеть, доченька[29]29
Настоящие слова о. Владимира Дубровицкого, отца балерины.
[Закрыть]. Тебе батманы да плие, мне паства. Каждый при своем деле. Отец Иоанн сегодня служит, а я исповедовать буду, справимся вдвоем. Ложись спать пораньше, никого не жди. Маму тоже могут задержать, с ранеными-то никогда наперед не знаешь. Вода есть еще, тебе хватит. Помои с утра вынесем, сама не выходи.
– Ангела-хранителя, папа. – Маленькая танцовщица больше не спорила. Только вздохнула и потянулась за плюшевым пледом, замерзнув.
…Опять в темноте померещилось, что собор лишился вдруг купола. Но пусть, защитная эта окраска сейчас куда как кстати.
У ворот темной ветошкой на снегу лежало тело. Три часа назад его еще не было. Вдруг жив? Женщина. Отец Владимир подошел, нагнулся, привычно проверяя. Нет, уже застыла. Упокой, Господи! Похоронная команда утром заберет. Даст Бог, чтобы появилась раньше… этих. Господи, убереги тленную плоть этой бедняжки от посмертного надругательства…
Отец Владимир оперся рукой о кирпичную стену, ледяную даже через рукавицу. Голова, как обычно, когда встаешь, пошла ходуном. Он промедлил, надеясь, что головокружение скоро прекратится. Слишком резко нагнулся, только и всего.
Придя в себя, отец Владимир побрел в сторону собора. Горькая мысль, мелькнувшая ввиду еще одной смерти, не хотела уходить прочь.
Ко многому он был готов, когда принимал сан. Это был самый разгар очередных гонений. Мама плакала почти не переставая – готовя скудную еду, стирая, водя тяжелым утюгом, подметая в комнатах, за столом… Но не спорила, не возражала. Понимала правоту сына: кто будет окормлять христиан, если одних перебьют, а другие струсят, решат себя поберечь?
Готов Владимир был в молодости, казалось тогда, ко всему. К смерти в подвалах Большого дома, пыткам, лагерю, лесоповалу, издевательствам… К одному не был готов: что в родном своем городе доведется добавлять на исповеди вопрос – не вкушал ли исповедуемый плоти человеков?
А вопрос пришлось добавить. Один раз был с другими отцами долгий разговор. Каноны молчали, слишком уж необычен казус. Грех ли это, смертный ли? Они никого не убивают, эти несчастные… А все ж – теряют образ Божий. Он не знал ответа, но душа говорила: нет! Да не вкусит Плоти Господа Христа тот, кто поедал иную плоть… Несовместно, нет! Обсуждали долго. Некоторыми отцами, постарше, владела жалость: оттолкнуть без того уже несчастного – обречь на полную гибель… Ведь пусть и мерзкая, но не злоба, лишь слабость… Но не любой ценой живет христианин, нет, не любой!
В конце концов решение принято было единогласное. Нет. Да сохранит в себе святость образа Божия тот, кто христианин.
Но впервые услышать такие слова, стоя с епитрахилью на шее, оказалось страшно. В особенности потому, что сказаны они были отнюдь не таким человеком, какого он мог бы в подобном заподозрить.
Отец Владимир тряхнул головой, отгоняя имя и лицо – словно боялся сам с собой наедине нарушить тайну исповеди.
Слухи, что этот грех не разрешаем, впрочем, все равно скоро пошли. Что же – он уберег свою паству, ведь недопущение к святому Причастию – страшно в такое время. Стремиться выжить, но не любой ценой. О том он говорил и в проповедях.
Навстречу двигалась между сугробами темная тень. Поблескивал «светлячок», приколотый на груди как брошь, больше ничего нельзя было разглядеть. Но невзирая, а вернее, как раз взирая, на капустный кочан одежд, отец Владимир отчего-то наверное знал, что это женщина, девушка, вроде Иришки, едва ли многим старше. Надо остановить, спросить, зачем и куда идет. Не надо бы ей разгуливать в темноте.
Но девушка обратилась к нему сама, едва поравнявшись.
– Батюшка…
Немудрено, что определила его, увидела подол рясы. Но как обратилась, означает – из своих. Но не приходская, незнакомая.
– Что тебе, девочка?
– Отче, простите… Вы мне нужны. Я и надеялась вас застать, слышала, что вы часто в соборе. У нас все священники… У нас прихода больше нет. Куда мы ходили. Некому… некому исповедать дедушку. Отче, он умирает.
– Где вы живете? – Отец Владимир машинально дотронулся до груди, словно мог через драп пальто проверить, на месте ли, на цепочке, ковчежец с запасными Дарами. Одежда ни в чем убедиться не позволяла, да он и так знал, что все необходимое всегда при нем.
Она помедлила в нерешительности, прежде чем ответить.
– В Эртелевом… на Чехова.
– Господи помилуй! – священник посмотрел на девушку с испугом. – Как же ты дошла досюда?
– По Фонтанке. – Теперь голос ее был спокоен. – Так холоднее, но короче.
– Сколько же ты шла?
– Два часа. – В ее голосе не было мольбы. Она просто отвечала на вопрос.
Пожалуй, что она будет постарше Иришки. Кто сейчас их разберет, а все ж постарше.
– Так… Теперь половина седьмого. С Божьей помощью часам к девяти успеем. – Мелькнула мысль: хорошо, что отец Иоанн сегодня на месте. Справится как-нибудь один. – Пошли потихоньку. Только условие – не спешить. Ты и без того устала. Силы надлежит рассчитывать.
Рассчитывает ли он собственные? Об этом лучше не думать.
Когда выходили на Садовую, навстречу, по счастью, попалась свечница.
– Благословите, батюшка. Вы сегодня будете?
– Катюша, нет. Я к умирающему. Вот ведь хорошо, что встретились. Сделай милость, зайди потом к моим. Тревожиться ведь будут, я далеко иду. Скажи, пусть не теряют. Если не ворочусь к ночи, стало быть, там и заночую. К полуночи не вернусь, пусть спокойно ложатся. А главное, двери на все засовы чтоб без меня.
Шли молча, не растрачивая сил на разговор. Отец Владимир не расспрашивал о страждущем, зная, что все прояснится на месте.
Девушка шла целеустремленно, хотя, как понимал отец Владимир, обратный путь не мог не даться ей много тяжелее. Четырехчасовая дорога – для эдакой былинки!
Они вновь выбрали путь по набережной, хотя с Фонтанки изрядно задувало. Ветер носился над водой, как по сквозной трубе. Щерились темными окнами громады домов, часть окон была забрана фанерой. Ни огонька, только слабо светились под лунными лучами снежные горы.
Мертвый город… А все же живой… Отец Владимир повторял молитвы, так было легче идти. Идти надо, дойти надо. Надо облегчить человека в последний путь, надо помочь этой девочке, бестрепетно пустившейся ночью в трудную дорогу.
На Семеновской и у Аничкова моста пришлось замешкаться. Впрочем – зряшно. И старик и две женщины, что сидели на снегу, словно намереваясь немного передохнуть, были уже безнадежно мертвы – успели оледенеть.
Они свернули на Невский. Миновали Мариинскую больницу. Два готовых пациента, что говорить. Да только для таких пациентов никакой больницы недостанет. Весь город болен страшной хворью под названием Голод.
– Почти… Почти пришли, – выдохнула девочка.
– Я вижу. Тише, дитя, тише.
Последний квартал дался особенно тяжело. А их еще ждала лестница, лестница, ведущая на самый верх, к закругленным сводам. Но на лестнице они уже не боялись понемножку отдыхать. Близко и теплее.
– Господи! Лена… – Женщина, встретившая их в дверях, всплеснула руками. – Я думала, я сойду с ума!
– Отец Илья уже месяц как… пропал. – Девочка привалилась к стене. – Пришлось пойти… подальше. Как он? Как… дедушка?
– Чуть лучше… Благословите, батюшка… Сейчас я обоим вам… кипятку… с мятой. Благодарю вас, что пришли… Но первым делом – кипятку. Лена, погоди… Я тебя сама раздену, сначала помогу батюшке… Прошу прощения. Я Анна, это, верно уж назвалась, моя дочь Елена. Страждущий мой отец Николай.
– Я отец Владимир. Благодарю, в самом деле, пальцы не слушаются.
В комнате с полукруглым эркером, куда провели священника, показалось необыкновенно тепло. И ведь все-то от буржуйки, стоявшей в проеме между двумя комнатами. Много ли надо.
Кипяток со зверобоем, мятой и вроде бы душицей показался животворным эликсиром.
– Моя мама собирала травы… – пояснила женщина.
Впрочем, не женщина, нет, дама, видно сразу. Теперь от Церкви не отпали либо люди вовсе простые, либо из высокого прежде круга. Середина отпала вся, да и была ли она когда-нибудь церковной, эта середина?
– Соседи не слишком… любопытны?
– Мы теперь одни в своей квартире. – Анна взглянула на дочь, как отчего-то показалось отцу Владимиру, с некоторой робостью. – Еще полчашечки?
– Спаси Господи, да. Волшебное питье.
– А мы все смеялись, зачем это «сено»… Мама умерла в декабре. А теперь вот – отец за ней спешит.
– Что же, и нам не надо терять времени. – Священник поднялся. – Проводите меня.
Николай Александрович полусидел в кровати. Шуба на плечах, полушубок поверх одеяла, перстень с печаткой, поблескивающий на истаявшей руке, державшей книгу.
Две коптилки кое-как позволяли читать. Хотя читал он с большими уже перерывами, больше дремал.
– Дедушка! Как ты тут?
– Я хорошо, Ленок. Превосходно себя чувствую, так что, судя по всему… Благодарю вас, отец. Уж не надеялся… Мне, похоже, счастливится.
– А ведь я вас помню, Николай Александрович, – поправляя епитрахиль, произнес отец Владимир. – Вы у владыки бывали осенью.
– Да… Еще ноги доходили до Никольской в ту пору. Оставьте нас, дорогие.
…Ввиду отсутствия межкомнатной двери, Анна Николаевна и Лена удалились на кухню. Теперь, без чужих столов, а главное – без чужих людей, кухня сделалась много уютнее, невзирая на отсыревший потолок. Вдруг стали заметнее изразцы с синими картинками – пахотой, уженьем, стадами на лугах, кермессой, виноградным сбором… Анна не разглядывала их с детских лет, Лене же в детские годы это было запрещено. У стола стояли теперь два стула.
– Мама… Но ведь дедушке лучше. Он сам сказал. Он и выглядит сейчас много бодрее.
– Дорогая, мой отец сам не обманывается, не станем и мы. Бывает такое улучшение. Совсем словно волшебное. Но оно – плохой знак. – Анна Николаевна оставалась спокойна. – Отец Владимир, судя по всему, у нас переночует. Что бы сделать на ужин? Хлеб-то сегодняшний мы уж съели.
– Есть черемша. Целый пучок. И еще помнишь, на прошлой неделе отоварили проса? Ты тогда сказала третью часть отложить на крайний случай.
– Вот и хорошо. Сварим похлёбки. Поставь воды, чтобы пока отстоялась от ржавчины.
Выполнив поручение матери, Лена подошла к ней. Они тихонько обнялись.
– Тяжело, мама.
– Тяжело, дорогая.
– Мама… Расскажи еще про моего папу. Нам будет не так … не так одиноко. Когда ты о нем рассказываешь, он словно стоит рядом. Стоит рядом и защищает нас.
– Сейчас не в силах, прости. Лучше поговорим о другом. Об очень хорошем.
– О чем же? – Лена все обнимала мать за плечи. – Что может сейчас быть хорошего с нами?
– Не сейчас… Позже. Но не очень далеко. Знаешь, есть примета. Кто-то уходит из семьи – кто-то на пороге. У меня родились ты и Галинка. Но у тебя, когда ты выйдешь замуж, непременно родится сын.
– Ну за кого же я выйду замуж, мама? Почему ты улыбаешься? Вы с дедушкой так иногда хитро улыбаетесь, словно знаете обо мне больше, чем я сама. Так нечестно. Ну, хорошо, за кого-нибудь вдруг выйду. И конечно же тогда у меня будет сын.
– Николай. В честь деда и прадеда.
– Это непременно. И он будет поэт.
– Нет уж, довольно с меня поэтов в семье! Отец, муж, ты… Любой разумной женщине такого количества достаточно.
– Тогда путешественник и ученый. Как папа и как Вавилов. А Вавилов ведь тоже Николай, мама… Я думаю, он жив и вернется, к самому большому счастью Юрия Сергеевича. И в честь Государя же! Так что моему сыну никем иным быть нельзя, только Николаем.
– Вот и договорились. С такими покровителями он вырастет очень хорошим. Порежь пока черемшу, дорогая… – Анна резко поднялась. – Отец Владимир? Вы уж закончили? Как папа? Я теперь ему отнесу питья…
– Анна Николаевна… Елена Николаевна… – Черты отца Владимира, привычно скобарские черты, вдруг показались не живыми, а написанными на иконе – одновременно светящейся и тусклой от древности. – Николай Александрович отошел ко Господу. С миром на душе и причастившись Святых Тайн.
…
Они вошли в комнату тихо, словно боялись его потревожить. В эту зиму никто уже в Ленинграде, считая маленьких детей, не страшился вида мертвых. Тем более не мог оттолкнуть или испугать дочь и внучку тот, кто был бóльшим, чем отец и дед. Наставником, нравственным мерилом в жизни, покровителем и утешителем.
Николай Александрович и не был страшен в смерти. Привычное, собранное и жесткое, выражение покинуло его лицо. Он, казалось, отдыхал. Отдыхал от двух десятков лет огромного, не по годам, напряжения, которое он упорно нес на своих плечах.
– Какой папа… спокойный, – еле слышно произнесла Анна Николаевна.
– Жаль… Молитвы вот у меня нет при себе, – сказал отец Владимир. – Все было, а венчика в гроб нету.
– Сейчас, – Лена тихо выскользнула в другую комнату.
– Ваш отец был христианином высокого духа, – обернулся к Анне священник. – Вера его была глубока и не замутнена соблазнами времени. Мы будем по нем служить, архиерейским чином, весь сорокаднев.
– Благодарю… Благодарю от всей души. Если дойдем, придем хоть раз… Сейчас надо… Господи, как тяжки сейчас эти хлопоты, как они неправильны… Лена, где ты? Надо позвать Юрия Сергеевича.
– Я искала … молитву в гроб.
– Откуда у тебя?
– Не совсем такая… Какие в церкви дают… Не на лоб. Но я думаю, она очень подойдет.
Лена протянула матери тетрадный листочек. К недоумению Анны, он и был исписан почерком дочери. Впрочем, она почти сразу узнала эти строки, переписанные несколько лет назад рукой ребенка. Строки старомодного стихотворения, написанного в далеких восьмидесятых годах прошлого века.
«О, полно! Не тревожь души сомнѣньемъ ложнымъ…
Смиренно помолись, вздыхая глубоко —
Мгновенно станетъ все и близкимъ, и возможнымъ,
Что такъ отъ сердца было далеко.
И если-бъ кроткихъ слезъ горячими струями
Безчувственную грудь скалы ты оросилъ,
Она одѣлась-бы роскошными цвѣтами,
Покорная велѣнью тайныхъ силъ.
И если-бъ сей горѣ сказалъ – ты, вѣры полный:
Подвигнись и пади въ бушующій потокъ!
Она низверглась-бы и раздѣлила волны,
Чтобъ посуху ты перейти ихъ могъ»[30]30
Стихотворение Н.А. Энгельгардта.
[Закрыть].
Глава ХХ. Смерть кукол
– К чему это, Ленок? Ты напрасно тратишь силы, а их надо беречь.
Анна Николаевна, против обыкновения, не улыбнулась дочери, спустившейся вниз, чтобы ее встретить.
– Я не люблю, когда ты одна поднимаешься по лестнице. Вдвоем веселее. Мама… Мама, что случилось?
– После, дорогая, после… Вправду, поднимемся сперва…
Путь до четвертого этажа, как сделалось уже привычным, длился долго. На площадках приходилось отдыхать.
Лене, терзаемой смутной тревогой, показалось, что они поднимались еще много дольше обыкновенного.
Верхнюю одежду Лена и Анна теперь оставляли на старой вешалке в передней, совсем старой, которую Анна помнила с детства, трехногой, с кольцами для зонтов. При соседях это бывало чревато самыми неприятными последствиями. Комнаты, кроме двух отапливаемых, они держали закрытыми, поэтому даже в коридоре сделалось чуть теплее. Или так просто казалось, из ощущения свободы?
Пригасив желание немедля расспросить мать, Лена направилась на кухню, заварила «чаю». Бережно положила на мейсонскую тарелочку два отоваренных днем кусочка хлеба. Он был на сей раз сырой, тяжелый и совсем черный. Хорошо, такой кажется сытнее. Последние три дня Лене не удавалось получить больше ничего из причитающегося по карточкам. Вовсе ничего. Ни грамма лярда, ни горстки хоть какой крупы или кусочка клея. Черемша вышла, сварить хоть самой жидкой похлёбки было не из чего.
Анна Николаевна молча пила декохт, осторожно отламывала от черного ломтика крошечные кусочки. Не спрашивала, как сегодня случилось с карточками, а между тем как раз ради попыток хоть чего-нибудь раздобыть она и оставила сегодня Лену.
– Театр, – с тоской произнесла она наконец.
Сначала подумалось – бомба. Но ведь сегодня же не бомбили.
– Подписано решение об эвакуации. В Новосибирск.
Только съев последнюю крошку, Лена решилась заговорить.
– Мама… Мамочка… Я понимаю, как тебе больно оставлять наш дом, дедушкин архив… Наш город… Папин город… Но мы ведь вернемся, мама! И мы теперь наверное будем жить. Новосибирск не Ташкент, но там ведь есть и картошка и мясо иногда… Даже молоко. Там же самый настоящий тыл. И там не бомбят…
По щекам Анны Николаевны неожиданно заструились слезы. Она плакала молча, не всхлипывая.
– Прости… Это так… подло. Ленок, мы с тобой никуда не едем.
Разговор с Шапиро всё еще обжигал ее душу, крутясь, крутясь в голове по незнамо которому разу. Ведь столько пережито вместе… Столько ужаса пройдено, одним целым, одним театром, и ощущение общности театральной судьбы давало силы идти… Как же так, как же?
«Все, что я могу сделать, Анна Николаевна…»
Анна Николаевна вместо Ани. Еще немного, и скажет «гражданка Гумилёва».
Она смотрела и не узнавала. Только жилетка знакомая, в мелкую клеточку. И зеленое кашне… Очки те же, стекло треснуло, сейчас ведь с оптикой тяжело, тот, другой, с октября так и щеголял… Но – чужой человек, это не с ним ставили на Новый год Аладдина, бились за бесплатные билеты для маленьких зрителей… Даже голос не тот, так казенно, так округло завершающий фразы…
«…Я постарался… Мы переоформим вашу дочку и вас на должность техника-смотрителя. По полставки. Сторож сторожем, это вас пусть не заботит. Материальная ответственность не на вас. Вы просто будете заходить, проветривать, проверять условия хранения остающегося реквизита… Вовсе не обременительно. А трудовая книжка и зарплата при вас. Разве плохо?»
Она молчала.
Он смотрел на бумаги на столе, на циферблат напольных часов, на афишу «Бевронского луга» на стене, куда угодно, но не ей в глаза.
Он отводил взгляд и уже, каким-то непостижимым образом, казался сытым.
«…Анна Николаевна… Некоторые вещи я вынужден согласовывать. Без этого нельзя… Как же оно – без этого? Вы не хотите понимать мое положение. Что, разве лучше, чтобы эвакуацию вовсе отменили? А как же театр? Сколько мы еще сможем играть, еле держась на ногах? Я должен думать о людях, о судьбе моего театра…»
«Ваша фамилия – Шапиро, не так ли, Савелий Наумович?»
Он нечленораздельно поперхнулся короткой фразой.
«Как я понимаю, вы согласны с моим утверждением. – Она поднялась. – Шапиро. Не Комина. Не Гак. И не Гумилёва. Тогда какой же это ваш театр? Вы пришли позже, на готовое. Театр – мое детище. Мое, а не ваше. Но разлучают с ним – меня».
«На вашем месте, Анна Николаевна, я бы не поднимал вопроса о фамилиях. С вашей девичьей и вашей мужниной, знаете ли… Советский театр не нуждается в таких основателях. Мы детей воспитываем! Кстати, и репертуаром нашим не все довольны уже… К вопросу о воспитании советских детей. К примеру, такие воспитательные произведения у Аркадия Гайдара[31]31
Спектакль «Тимур и его команда» был добавлен в репертуар после войны.
[Закрыть]… Но не о том речь. Вам предоставляли возможность работать… К чему претензии? К чему вот это вот всё? Списки к эвакуации – это вопрос серьезный».
Она дослушала в дверях, но ничего не ответила.
Говорить было не о чем. Она вышла из театра засветло, чужая хлопотам оживившихся людей, отводящих от нее глаза.
Снег колол щеки, словно кто-то швырял ей в лицо содержимое игольника. Невысокая женщина в серой кроличьей шубке, шедшая впереди, поскользнулась, поднимаясь на тротуар. Опираясь рукой, попыталась подняться на колени. Анна подошла, как сумела скоро.
«Ничего, ничего… Я уже почти дома. – Молодая женщина с трудом переводила дыхание. – С Исаакиевской дошла… И вдруг… глаза как-то… скачут. То вижу, то нет».
«Я вас доведу», – Анна взяла незнакомку под локоть.
«Спасибо… Я… заболела… Простыла. – Женщина говорила немножко возбужденно, и глаза ее поблескивали странным сухим блеском. Жар? Похоже, да. – Мы ночевали… около коллекции[32]32
Всё это – реальные обстоятельства.
[Закрыть]… Там холодно. Муж велел – домой. Не знаю, как он… один справится».
«Ну, зачем же один? – ласково спросила Анна Николаевна. – Помогут ему без вас другие вавиловцы…»
«Как вы догадались?» – Женщина изумленно посмотрела на Анну Николаевну, словно пытаясь разглядеть ее лицо.
«Мудрено… Кто ж еще на Исаакиевской площади? Сюда?»
«Да… Вроде бы глаза успокоились. Мы на первом этаже, это счастье».
Они уже входили в парадное[33]33
Лехновичи жили через несколько домов от театра, на улице Некрасова (Бассейной).
[Закрыть]. Анна Николаевна проследила, чтобы незнакомка справилась с замком.
«Вы знаете Юру Задонского?»
«Да… Конечно. Я Ольга Воскресенская».
«Я его соседка. Я скажу, чтобы он вас проверил завтра».
«Спасибо… Большое спасибо…»
Анна Николаевна попыталась идти быстрее. Ленок уже тревожится и наверняка ждет внизу в парадном, в холоде.
Эта молодая, самоотверженная… Ночует в подвале… То, что она бережет, никому не нужно. И она не нужна, вместе с ее мужем. И я не нужна. И моему дитяти молока не будет.
А мой театр у меня отняли.
– Мама… – Лена обняла Анну странным взрослым жестом, словно сейчас старшей из двух была она. – Мама… Зато нам не судьба расстаться с нашим городом, когда он в беде. Ему так же плохо, как нам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































