Текст книги "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева"
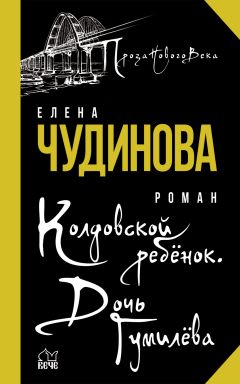
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
Глава V. Отблески беды
– Ты увидишь дракона в клубящемся кобальте неба.
Ты увидишь, как звезды в закате пожарищ горят.
Пусть беснуется чернь, вечно требуя зрелищ и хлеба.
Скоро близок конец. На земле начинается ад.
– Ты что-то говорила, Лена? – Мамин голос звучал слабо. Словно от холода, она запахнула на груди накинутую наспех шаль. Холодно не было – ни в комнате, ни за распахнутыми настежь окнами.
– Так… Ничего.
Небо полыхало уже не кобальтом, скорее – багрянцем. Небо походило на плавящийся металл. Горело за Обводным, но огненное море заливало пространство до горизонта. Ниже, над крышами, стелился сплошной дым. Горели Растеряевские склады, переназванные в честь большевика Бадаева.
Было страшно, было красиво.
– Затвори окна! – Анна Николаевна закашлялась. – Лена, Лена же! Что же ты смотришь, как дитя? Рви… рви на полосы… корпию…
Анна Николаевна, кашляя на ходу, выскользнула в дверь – к родителям.
Горело уже больше часа, старшие устали смотреть на недоброе зрелище. А Лена – стояла бы и смотрела, пламя, действительно клубящееся, влекло ее, как втягивающая алая воронка. Но и она уже захлебнулась первым приступом кашля. Найдя плетеный короб, где мама держала чистую ветошь, Лена принялась исполнять поручение.
Застиранный до паутинной прозрачности мадаполам легко расходился на ровные ленты.
– Довольно, – распорядилась воротившаяся с ковшом воды Анна Николаевна. – Смачивай и лепи, как на зиму заклеиваем бумагой. Ты здесь, я там.
Простенькие предосторожности оказались нелишними. Дымом в комнатах все равно пахло, но, судя по тому, как сгустилась муть за окнами, мокрая ткань все же защищала.
Волшебство огня ушло. Вдруг сделалось тоскливо и немного страшно.
…
– А что мама?
– Отошла к соседке, на второй этаж, к Ольге Васильевне. Той с сердцем нехорошо. – Энгельгардт отложил записную книжку, в которой что-то помечал карандашом. – А она молодцом, твоя мама. Нельзя теперь болеть, никак.
– Разве это от нас зависит? – Анна горько усмехнулась.
– Еще в какой мере. Тело подвластно воле более, чем мы порою думаем.
В окнах темнело, дым за стеклами сделался меньше различим. Слабое красное зарево еще дрожало вдали.
– Гюрза скажет, полагаю, что огненная иллюминация устроена в честь ее отбытия на специальном аэроплане, – усмехнулся Энгельгардт. – Ибо зачем городу теперь запасы провизии, при эдаком-то горе?
– Ты шутишь?
– Нимало. За нею присылали правительственный борт. Хотелось бы мне знать, за какие такие заслуги? За поэтические у нас предпочитают награждать немного иначе, как мы хорошо знаем. – При виде растерянного лица дочери Энгельгардт смягчился. – Прости меня, Господи, я делаюсь слишком зол. Нельзя ожесточаться, когда уповаешь на милосердие Господа. Извини меня, Аня. Тебе вовсе незачем было знать. Какое нам дело до этих людей?
– Папа… – Анна Николаевна вновь закашлялась. Энгельгардт погладил ее по голове, как в детские времена. – Папа, это очень страшно, что город лишился этих складов? Люди напуганы смертельно, у соседской пролетарки истерика. Неужели опять будет голод, как тогда, в Гражданскую?
– Не думаю, дорогая. Видишь ли, Растеряевские лабазы, конечно, не единственные. Но никакими лабазами надолго огромный город не обеспечить. Постоянный подвоз для большого города – это как кровоток для сердца. Это не может не быть понятным командованию. Любому командованию, даже самому худому. Вероятно, к зиме осаду с нас сумеют снять. Или произойдет это, или худшее. Но каким бы худым это худшее ни было, а это будет уже совсем иная страница жизни. С трудностями иными, нежели голод.
– Некоторые ждут немца… – Анна с силой стиснула в одной ладони другую. – Папа, я ничего не понимаю в политике. Но что ты думаешь об этом? Можем ли мы ждать от кого-то больших бед, чем от этих опричников? Сколько горя впитала даже уже Ленина короткая жизнь! Про свою, разбитую на мелкие осколки, я даже не говорю сейчас. Папа, скажи мне…
– Скажу, Анет. Но только единожды, нет смысла множить такие разговоры. – Энгельгардт поднялся из-за стола, медленно подошел к окну.
Папа до конца останется вельможей, подумалось Анне. У него можно отобрать власть, влияние, все имение. Но весомости его слов, значительности его жестов ничто не умалит. Он из больших мира сего.
– У тех, кто ждет германца, короткая память, Анет. Они забыли Осовец. Подлость, немыслимая в войне прежних времен. А со сколькими из юношей, что полегли с Долгоруким, ты танцевала мазурку? Ты ведь помнишь их, блестящих, обещавших так много? Ты помнишь их же, или таких, как они, в госпитале, умиравших у тебя на руках? Германца воевал твой муж. Они, ждущие, забыли главное – весь ужас, что мы переживаем сейчас, прибыл в пломбированном вагоне из Германии. «That old feuds might be forgotten,And old wounds be healed forever!»[18]18
«Не забылись наши распри, не закрылись наши раны». (англ.)
[Закрыть] С чего теперь ждать добра? У этих людей короткая память.
– Папа, но не слишком ли длинная у нас? – взволнованно спросила Анна. – Ведь минуло более двадцати лет. Там переменилась власть, многое переменилось.
– Не к лучшему, поверь. Даже по той скудной осведомленности, в которой мы пребываем, понятно – не к лучшему. Многое, думаю, домысливают, но… Еще недавно их вожди закатывали друг дружке пиры – в Москве и в Берлине. Один простак из статистического бюро, когда я еще там бывал, назвал сына Адольфом[19]19
Действительный известный автору эпизод. Причем так назвали новорожденного в малограмотной провинциальной семье, что говорит о размахе пропаганды перед войной.
[Закрыть]. Теперь мальчику года три. Каково ему достанется, если война надолго? Это была не просто дружба, но какая-то истерия. Если эти стервятники чего-то не поделили, ни один из них не сделался от этого ягненком.
– Мы же сами немцы… Неужели это – навсегда?
– Мы русские немцы, Аня. Давно и полностью русские. Нет, не навсегда. Но для забвения военных ран должна пройти жизнь хотя бы одного поколения. Должны сделаться историей семейные альбомы, те, где фотографии погибших. Прошлая война затрагивает еще не только меня, старика, но и тебя в твои сорок лет. Она слишком близко. Нет, не свободу от нашей беды они нам несут. На том и завершим разговор. И да будет на все воля Господа.
Анна подошла к отцу. Некоторое время они молча стояли у окна, наблюдая зарево. Растеряевские склады продолжали гореть.
Они горели до утра.
Глава VI. Дорога в девятый круг
С табаком становилось все хуже. Солынин, присев на скамейку в сквере у Казанского собора, или какой там теперь музей, неважно, принялся осторожно извлекать папиросу из пачки «Казбека». Можно еще одну сейчас выкурить, ничего. Дома еще прибережены три пачки.
– Позволите огоньку? Забыл спички.
– Конечно, извольте. – Солынин протянул коробок.
– Не возражаете, если присяду?
Полузабытая приятная учтивость. Собеседник казался на вид лет пятидесяти, был подтянут и сухопар. Седой, совсем не по годам. Даже не понять, блондин был в молодости или брюнет. Заурядные черты лица, скорее правильные, чем нет, таких лиц много. Но из тех, что располагают к себе. Симпатические токи? Вероятно. Одно портило это лицо, вернее, повернутую к Солынину в профиль его сторону. Оно было отмечено тремя давними, идущими в разных направлениях шрамами различной глубины. Впрочем, портило ли? Вне сомнения, придавало мужественности облику.
– Давеча опять бомбили. – Незнакомый затянулся своей папиросой, глядя вперед, на прибиравших улицу рабочих. – Знаете, а я даже и не пошел в убежище. Заработался. Думаю, а, двум смертям не бывать. На каждый сигнал не набегаешься.
– И то верно. Странно они бомбят… Без толку как-то лупят. Ну что им пользы – убить нескольких мирных горожан.
– Не скажите. – Незнакомец обернулся к Андрею Ивановичу.
Вторая сторона его лица тоже оказалась изуродованной. Шрамов на щеке было только два, но длинных, выразительно пересеченных крест-накрест.
Сделался теперь виден и шестой небольшой рубец – на подбородке.
– Я уж привык к этому печальному вниманию, – усмехнулся собеседник, поймав взгляд. – Не смущайтесь. Всегда проще пояснить, чем вызывать недоумение. Это увечье еще с молодости. Неосторожно обошелся с оборудованием. Я, видите ли, инженер.
– Здесь обучались? – быстро спросил Солынин. – У нас в Ленинграде политехническая школа славится с давних времен. Впрочем, в годы вашего студенчества это был еще даже не Петроград.
– В Москве. – Незнакомец улыбнулся. – Полжизни просидел безвылазно в нынешней столице. А потом вот – пришлось по служебной необходимости перебираться сюда. Долго привыкал, признаюсь. Совсем иной город. Так о чем я бишь? Нет, не скажите, не так глупы эти бессмысленные обстрелы. Их цель – сеять панику. Важен не один убитый, но сотня перепуганных. Они хитры и очень опасны. Это неприятный враг. Впрочем, вне сомнения, ему недолго осталось так бесчинствовать.
– Разумеется. Позвольте, кстати, представиться. Андрей Иванович Солынин. Всего лишь скромный филолог, профессия не самая современная.
– О, прошу прощения. – Глаза собеседника оказались блекло-голубыми. И весьма проницательными. – Павел Сидорович Езепчук, к вашим услугам.
– Вы вполне уверены, что вас зовут именно так? – Солынин издал короткий смешок.
– Простите…
В лице отобразилось самое искреннее недоумение, чуть возмущенное, но в меру.
– Кому угодно, но не человеку моего поколения и круга вешайте на уши эту лапшу о производственных травмах, – Солынин, казалось, смаковал собственные слова как изысканное лакомство. – Голубчик мой, вы же весь – в мензуре.
Голубые глаза сделались смертельно, сверляще холодны.
– Только вот не вздумайте убивать меня, старичка, спрятанными в рукавах стилетами. Я совершенно не намерен кричать милиционера. Более того, мне было бы небезынтересно продолжить нашу беседу. Как знать…
– Стилета не понадобится, если ход беседы покажется мне неприятен.
– Отчего же сразу и неприятен? Может статься, герр Пауль, дальнейшая беседа доставит нам обоим удовольствие.
– Павел Сидорович, с вашего позволения.
– Да-да, понимаю. – Солынин рассмеялся. – Конечно же, Павел Сидорович. Товарищ Езепчук.
– Вы чего-то хотите получить за свое молчание? – Голос был холоднее глаз.
– Да помилуйте, мне скоро помирать. Чего я могу хотеть, с моим здоровьем и в мои годы? К тому же – не принимайте меня за дурака. Вам в самом деле сию минуту много проще и умнее меня незаметно уничтожить, чем задабривать. Не скажу, что откажусь при случае от плитки шоколада, здесь делается все голоднее, или от пачки папирос. Но даже это не условие, а пожелание. Ваша выгода может быть куда большей, чем смехотворная моя.
– Тогда каковы ваши побуждения? Не понимать их мне нежелательно.
– А понять вы едва ли сможете. – Солынин вытащил из коробочки еще одну папиросу, чиркнул спичкой. – Ненависть и жажда разрушения. Ненависть той чудовищной силы, на которую способна лишь растоптанная и опоганенная душа. Это страшная и мерзкая мощь. Вы не духовное лицо, да и исповедаться мне в любом случае поздно. Поэтому просто примите за данность: перед вами враг властей. И враждебные мои чувства много сильнее каких-либо иных.
– Звучит вполне убедительно. Я склонен вам поверить и думаю, что мы найдем общий язык. Нам сейчас в самом деле нужны помощники в городе.
– К вашим услугам.
– В таком случае условимся. Связываться с вами мы будем пока что здесь. Это могу быть я, но возможно и другой. Приходите сюда каждый второй и четвертый четверг месяца, в час пополудни. Если никого не будет, придите на следующий день. Человек подойдет к вам сам, заговорит о том, как внушительно выглядят аэростаты. О канале срочной связи мы подумаем позже. Важно еще одно. Вы ведь, как я понимаю, пересекались с внутренним ведомством?
– Четыре года, как меня оставили в покое.
– В данном случае это жаль. Но и здесь есть над чем поразмыслить. В следующий раз вы получите план ваших действий. И еще кое-что, не очень обременительное. Не прощаюсь с вами надолго, Андрей Иванович.
– Один вопрос, чистое любопытство! – Собеседник уже сделал движение, чтобы подняться, но возглас Солынина его остановил. – Скажите, Павел Сидорович… а к чему такой необоснованный риск? Вы ведь, я чаю, готовились к своей специфической работе задолго до нынешнего года. Но неужто ни вам самому, ни другим не пришло в голову, что, чем измышлять побасенки, лучше готовить к подобным приключениям кого-то другого? Без меток? Я понимаю, представители молодого поколения здесь невежественны и заграницей не жили, другие, постарше, может, и жили, но… Однако наткнулись же вы на меня. А могли – и не на меня. Так почему?
Выражение лица Езепчука изменилось. Он на мгновение позволил себе выпустить наружу живое чувство – ироническую досаду.
– Помилуйте, Андрей Иванович. – Усмешка так и танцевала на его тонких губах. – А что им можно доверить такое, где требуется напряжение ума, этим, с гладкими физиономиями, без мензурных следов? Они годятся для одного – воевать и убивать. Это же плебс.
Глава VII. La rе́ponse du berger à` la berg`еre
Вкус хлеба изменился. Причем каждый день хлеб оказывался разным – не только на вкус, но и на вид. То он был почти черен, то сероват, то крошился, то лип к лезвию ножа. Горчил он, впрочем, теперь почти постоянно, но даже горечь, как выяснилось, бывает разнообразна. Хлеб то отдавал полынью, то дубовой корой, то солодом, то скрипел на зубах песчинками. Указанные в бумажке граммы отмерялись строго, но толщина кусков при этом бывала неодинакова.
Дома вошла в привычку шутливая манера интересоваться этим, словно гастрономическим изыском.
«Сегодня к трапезе – полухлеб-полухмель! Главное дело – не опьянеть за столом!»
Шутили, впрочем, больше дед и внучка. Анна Николаевна и Лариса Михайловна, слишком встревоженные, лишь мимолетно улыбались, размышляя о чем-то своем, тревожном.
Но и этого хлеба начинало ощутимо недоставать. Раз в неделю готовили «королевское блюдо» – гречневую похлебку, чуть приправленную грудинкой, в остальные дни – пустой гороховый суп или пустой свекольник. Сухим горохом удачно запаслись летом, свеклу и брюкву удавалось еще иногда добывать. Картофель, капуста, морковь – все это город подъел еще к середине октября.
Но самым тягостным явлением стали постоянные хлебные «хвосты», или, как теперь говорилось чаще, «очереди». Иной раз приходилось стоять едва не час, чтобы обрести полагающиеся в этот день на четверых восемьсот граммов хлеба. Поначалу Лена брала на улицу почти дочитанный томик Бодуэна де Куртенэ, но в последнее время на улице что-то не очень читалось. Осень потихоньку шла на зиму, а Лена как-то больше обыкновенного мерзла.
Не читала она и в этот раз, прятала руки в маминой муфте, мысленно повторяя пьесу «Дитя Аллаха».
«Они забыли об отмщеньи,
Непостоянны и во зле.
Увы, какое искупленье
Найдешь ты, пэри, на земле?»
Ах, как бы это сумела поставить на театре мама! Сделается ли когда-нибудь, чтобы такое стало возможным? Петин друг написал, что верит – после войны будут перемены… Прав ли он?
– Дура ж ты, Тоська!
Лена невольно вздрогнула. Такое случалось с нею в последнее время. Сперва она куда-то «улетала», переставала слышать и замечать происходящее, а затем, всегда неожиданно, «просыпалась». При этом звуки и картины окружающей жизни довольно жестоко били по напряженным нервам.
Стоявшие перед нею девушки, вероятно подружки, похоже, уже давно обсуждали какие-то свои дела.
– Сама дура, – огрызнулась вторая. – Разработка стратиграфии на материале кишлака Фрикент – это отлично, перспективно. А уж в экспедиции туда ездить, это, ребята говорили, курорта не надо. Мы здесь таких фруктов в глаза не видали, какие там запросто растут. Сперва курсовик возьму, после, глядишь, диплом… Завтра зайду на кафедру, договариваться пора.
Вот как, студентки. Им, таким, можно быть в университете. У одной нос картошка, у другой курнос.
– На кафедру? – передразнила курносая. – Ну ты мне еще спасибо скажешь. Вправду ничего не слышала, что ли?
– Чего ничего? Как какую гадость прознаешь, так и рада всегда. Давай говори толком, темнилка. Если ты подруга, а не так себе.
– Еще б не подруга. Другая б промолчала. И приходишь ты на кафедру, так, мол, и так. А Кларка-комсорг тебя мигом на карандаш. Когда ты препода-то видала последний раз?
– Перед седьмым ноябрем, как на земляные работы ездили факультетом. – Лицо студентки сделалось напряженным. – Так чего?
– Погляди расписанье занятий. Ничего он больше не ведет, твой Григорьев. И в ГАИМК его тоже больше нет. Как раз седьмого ноября его и того, прямо из дому. Кларка рассказывала. Они там курили, на работах-то. Он и говорит, Григорьев твой…
– Ничего он не мой! – В голосе девушки прозвучала негодующая нотка.
– И говорит… – Подруга не обратила внимания на занятую оборону. – Зачем, говорит, эти рвы копать, надрываться, это, говорит, бесполезно. Раньше мы тут все с голоду умрем. Агитация, между прочим. В военное время. Соображаешь, чем пахнет? Так что вот, от всех этих домусульманских раскопов лучше подальше теперь. В Каунчи, верно, и не будет ничего долго. Тамошние фрукты сейчас для здоровья неполезные. Каунчи – это Григорьев. А Григорьева, считай, больше нет. Другую тему ищи.
– Придется… А ты, Катька, себя умней всех не считай. Рада от Кларки сплетни клевать, а не понимаешь тоже: ей весной распределяться. На кафедре закрепляться станет. Она ж тебе и разболтает всякое, она ж на тебя и покажет, что ты ее слушала. Будто не знаешь, как такие дела делаются? Еще как знать, не она ли сама Георгия-то Васильевича определила?[20]20
Это сделал научн. сотр. ГАИМК Е.Ю. Кричевский.
[Закрыть] Ничем не постесняется. Эй, женщина?! Вы мне сколько отвесили-то? Думаете, я не вижу?
– Думаю, разуй глаза и на старших не налетай. Ты учащаяся? Учащаяся. Сто граммов и пятьдесят.
– Как это сто пятьдесят? – подключилась и вторая девушка с еще не оборванной карточкой наготове. – Вчера же мы по двести отоваривали!
– Вчера было двенадцатое. – Продавщица отвечала зло, верно, уже незнамо в который за день раз. – Сегодня рабочим по триста, а служаще-учащиеся с иждивенцами – по сто пятьдесят. Не задерживай очередь!
– А в карточке пропечатано, что тринадцатого двести граммов, – голос понурившейся студентки звучал теперь по-детски плаксиво.
– В другой месяц перепечатают. Давайте, девушка. Вы тоже слышали? У меня скоро язык на плече будет вам всем толковать.
Лена равнодушно протянула свои четыре бумажки.
…
С папиросами становилось все труднее, но он закуривал уже третью подряд.
«Да пусть хоть сожрут эту свою крупу, авось хоть с голоду не сдохнут» – так прозвучал циничный ответ из Москвы на просьбы вывезти основную коллекцию Вавилова в безопасное убежище.
Так, во всяком случае, было сказано в кулуарах. Письменный же отказ был немного пристойнее: «Не представляет научной ценности».
Чего было ждать? Трофим уже три года, как втиснул свое гузно в вожделенное президентское кресло. Чуть выждав для приличия после расстрела Муралова, о котором, впрочем, сожалели мало.
Эх, на день бы раньше отходил поезд с образцами в Красноуфимск… Лишь на день… Тогда бы и плевать на Трофима. Но поезд тронулся… и не дошел до Мги. Хорошо хоть то, что в этой суете удалось благополучно воротить груз в ВИР.
«Мы будем биться до конца. – Лицо Крейра было исполнено мрачной решимости. – Если Николай Иванович жив, нам отвечать перед ним на этом свете, если нет – на том[21]21
Н. И. Вавилов еще жив, хотя перенес 400 допросов с применением пыток у следователя Хвата. На момент описываемого разговора в ВИРе он четыре месяца ждет смертной казни. И будет ждать ее до 23 июня 1942 года, когда казнь будет заменена заточением. В ожидании смерти Вавилов пишет в тюрьме последнюю научную работу. Этот труд был уничтожен убийцами.
[Закрыть]. Будем требовать вновь и вновь. Хотя трудно даже понять, что может оказаться худшим. Если осада затянется – голода не миновать. Причем такого, перед которым нынешняя наша жизнь еще очень сытная. Пойдут слухи, что мы тут храним в закрытых стенах, оголодавшая толпа вышибет двери. Никакая охрана не поможет, да и кому надо нас, опальных, особо охранять? И будущее человечества окажется съедено в несколько дней. Если город сдадут, коллекция попадет к врагу, и едва ли тот сделает труд хотя бы присвоить эти сокровища. Те же вандалы, наварят каши. А если мы сумеем отправить все в Москву, то где гарантия, что сокровища не попадут в руки Трофима? Отдаст на откорм свиней, не только из подлости, но своей шкуры ради. Чтоб никогда уже не обнаружилось, сколь это драгоценно».
«Я убежден – в Москву можно отправлять лишь дубликаты, – веско заговорил Вадим Лехнович. – Там правит бал произвол Трофима. – Если сможем хоть самолетом – то и дубликаты лучше не в Москву, а в Красноуфимск, там еще достойные люди. Но мое убеждение, коллеги: основной фонд – никому! Это дело жизни Вавилова, дело всех наших жизней здесь, в родных стенах. Убережем их здесь. От немца, от Трофима, от голодающих, от себя самих. Голод будет».
«Я согласна с тобой. – Ольга Воскресенская встала с мужем рядом, высоко вскинула темноволосую головку. – Нам доверено, нам и сберечь. Относительно же голода, коллеги… Если осада продлится до лета, хотя, конечно, это самый крайний и уж слишком страшный случай, у нас с мужем есть кое-какие мысли… ВИР сможет помочь городу… Помочь, но не ценой гибели коллекции. Все едино – коллекцию город съел был за две недели… Если мы заранее отделим дубликаты дубликатов картофеля, его можно будет выращивать в парках. Мы с Вадимом покажем горожанам методики… Главное – пережить зиму. Вы согласны, Александр Гаврилович?» – Ольга повернулась к Щукину.
«Я что, я как белка. Никому своих орешков не отдам, – усмехнулся тот. – Хотя к дубликатам это не относится. Дубликаты должны быть вывезены. Хоть в Москву, хоть в Сибирь, где-нибудь да уцелеют».
Только об этом и говорилось на всех этажах ВИРа, в лабораториях, в курилках, в коридорах.
Кто-то постучал в его дверь. Соседи или нежданный гость? Электрические звонки уже не служили, тем, у кого не сохранилось старомодных дверных молотков, приходилось неудобно. Особенно, впрочем, злились почтальоны, которым иной раз приходилось колотиться по двадцать минут.
– Елена Николаевна? Что-то случилось?
– Не с нами… – Вид девушки в самом деле мог встревожить. Она вне сомнения поднималась слишком быстро, дыхание было прерывистым. Да, поднималась, а не шла на улицу – от шубки веяло холодом, рука прижимала к груди плетеную кошелку, в которой, судя по всему, лежал хлебный паек на всю семью, обернутый в измятый крафт. – Не со мной и не с вами, Юрий Сергеевич.
– Позвольте за вами поухаживать сначала. – Задонский бережно принял старенькую шубку. – По счастью, я недавно пил брандыхлыст, еще есть почти горячий. Вот сюда, Елена Николаевна, в это кресло. И этот плед, он очень теплый.
Лена принимала заботы, словно не замечая их. Странная лихорадка была в блеске ее глаз. Не заболела ли? Только не это…
– Григорьев арестован. Я случайно услышала… в очереди. Седьмого ноября его забрали в серый дом. Юрий Сергеевич, я не знаю, что я чувствую. Я сама не своя. Рада ли я этому? Могла бы быть рада, я знаю. Но, кажется, все же нет… Только душа как-то… взбудоражена.
– Но Елена Николаевна, – Задонский протянул девушке теплую чашку. – Вы меня обескуражили. Что вы можете знать о Григорьеве? Его подлость – дело тех лет, когда вы были еще дитя.
– А если подлость – не единственная? – Лена усмехнулась. – Мне непросто сейчас рассказать, но поверьте… У меня не меньший к нему счет, чем у вас. А про ваш – про ваш я слышала еще в прошлом году. Вы с дедом разговаривали… Я запомнила потому, что это особое для меня имя.
– Я верю, Елена Николаевна, не говорите ничего сейчас. – Задонский подоткнул плед вокруг Лениных плеч. – Успокойтесь, к чему тревожить ваших?
– Юрий Сергеевич… – Лена промолчала, согреваясь ароматным багульником. – Вы только что узнали… А вы? Что вы? Ведь это справедливо? Вы можете обрадоваться? Я потому и к вам, сразу, что знаю – вам тоже это важно. Ведь не рой другому яму, и как аукнется – откликнется, правда же? Почему я не рада? А вы?
Задонский некоторое время хранил молчание. Девушка с напряжением в лице ждала его ответа, кутаясь в шотландку.
Она всегда была тоненькой, но как же теперь исхудала, за этот последний страшный месяц… Фигурка вновь сделалась вовсе детской… Не может быть, чтобы осады не прорвали до Нового года…
– Нет, Елена Николаевна, я не рад его беде. И это правильно, что злорадства вы не испытываете. Хоть сто бед приключись с доносчиком – воротит ли это Николая Ивановича? Где он теперь, жив ли? Это единственное, что мне важно. Есть люди пострашнее тех, кто доносит. Это те, кому доносят.
– Но уж и жалеть о нем я тоже не стану. Я не настолько хорошая христианка, Юрий Сергеевич.
– Просто предоставьте его собственной судьбе. Страшно, я думаю, гибнуть с нечистой совестью. Забудем об этом человеке, Елена Николаевна. Просто забудем.
– Спасибо, Юрий Сергеевич. – Лена поднялась, отставляя чашку. – И за чай, и за все. Я бы еще посидела у вас, но мне пора. Дома могут встревожиться, они не любят меня за хлебом посылать. Спасибо. Я знаю, я злая иногда.
– Нет, Елена Николаевна, – Задонский улыбнулся. – Вы не злая. Вы просто очень справедливая.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































