Текст книги "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева"
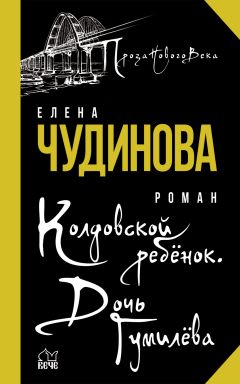
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
Глава XXIII. Собеседник
«Пикко. О Средних веках и прочем разном прошлом не можешь думать без зависти… Маркитантки у них, извольте видеть. Дорого б я дал, чтобы эдаким фертом подойти к повозке и купить у бойкой красотки немножечко коньяку и табаку… Но у нас в обозе – только раненые, до первого селения. Когда случаются перебои с поставкой из тыла, у нас ничего, вовсе ничего. Некоторые наши приспособились вертеть самокрутки со мхом. Пробовал – лучше буду маяться. Выдали давеча мне мое жалованье, одной банкнотой. И что прикажете с нею делать? Разве что любоваться. Кстати сказать, я еще не видал билетов в пятьсот рублей».
Пальцы Лены невольно потянулись расшнуровать ладанку, которой она не открывала с того дня, как обнаружила гибель оловянного солдатика. Ее ровесник-собеседник в осенний день вертел в пальцах этот кусок плотной бумаги. Но как-то слишком равнодушно звучит это «любоваться». Знал ли он, заметил ли?
«Пикко. Подходит вчера Сашка: “Коновницын, тебе какими деньгами жалованье выдавали?” – “А что, это имеет какое-либо значение?” – “Как знать. Моё-то меньше пятисот рублей, мне не досталось. А охота мне взглянуть на билет”. – “Да зачем? Ну, есть у меня пятисотенная”. – “Ты не слышал, какие слухи ходят?” – “Нет”. “Так доставай и поглядим, не томи”».
…Композиция, как я сразу отметил, перегружена. Я лишь мельком накануне взглядом скользнул. Полез за бумажником. Тут-то мы и разглядели… Обрадовались как дети малые. Молодцы в казначействе! Ох и молодцы… Весь день странный веселый подъем духа, словно шампанское по жилам побежало. Эту купюру, первую такую в моих руках, я, пожалуй что, разменивать не стану. Лучше буду в самом деле курить мох. А ее доверю на сохранение Плантагенету. Небось не выроню, читать-то сейчас почти и времени нет. Темнеет рано, огня хватает только на эти несколько строк. Кстати, и коптилка уже моргает… Заканчиваю».
Ах, вот как всё вышло… Вот он когда увидел…
Лена бережно, очень бережно, сложила купюру, чтобы спрятать обратно.
«Воронья гора. Сегодня все только одним и заняты: ходим смотреть на купол[37]37
Литератор Куприн ошибается. Ни Талабцы, ни Семеновцы до Пулковских высот не дошли. Купол видели только Ливенцы, не считая разъездов.
[Закрыть]. Мы тоже пошли – с Мишей и с Сашкой. Не враз разглядел, солнечный луч подсказал. После уж я всё равно его видел, даже как свет переместился. Перекрестились. Сколько жив буду – не забыть. Постояли. Сашка, похоже, молился про себя, мы просто смотрели, не могли насмотреться.
“Еще немного, и мы отстоим там молебен”.
“Не все, кто сегодня видит Исаакий, войдут под его своды”, – не сразу ответил Миша.
Но потому и дано нам это счастье, всем, кто жив сегодня, перекрестить лоб ввиду родного купола».
…Так они и стояли, у кривой раздвоенной березки, роняющей последнюю листву. Все были одеты немножко различно. «Сашка» – совсем мальчик, лет пятнадцати, был в немецкой шинели рядового, селадонового оттенка, с закругленными концами воротника, без лычек. Губы его шевелились, рука творила крестное знамение. Коновницын был одет в видавшую виды светлую шинель старого образца, с тремя нашитыми на рукав полосками ранений. У «Мишки», темноволосого, похожего на казака узкой костью, полосок было две.
Все трое стояли с непокрытыми головами, держа головные уборы на согнутой руке. У Коновницына, откинувшего башлык за спину, это была фуражка со светло-синим околышем, у «Мишки» серая папаха, у «Сашки» похожий на средневековый металлический шлем с коронованным двуглавым орлом.
С непокрытыми головами – ввиду Исаакия, поблескивающего вдали. Купол был не больше солнечного зайчика.
Внизу расстилался лес, недремучий, пригородный. Очертания города прорисовывались акварельным рисунком – полуразмытые, почти призрачные.
Коновницын первым, решительно перекрестившись, надел фуражку.
Покрыв головы, они спустились по склону, скользя по преющей листве, смеясь, как часто бывает, когда пик высшего душевного напряжения пройден. Лесок, пожелтевший, покрасневший, порыжевший, сомкнулся над головами, впрочем, не закрывая неба.
«У тебя много ли еще сколько таких папирос осталось?»
«Полдюжины».
«Ишь, какой эконом. Я еще позавчера последнюю уговорил. Мишаня, я не к этому!»
«Да полно, смысла беречь и нету особо».
Они сидели теперь на стволе упавшего дерева, уже успевшего высохнуть. Раньше и представить странным было, чтобы по пригородным лесам валялся бурелом.
«Думаешь, в Петрограде разживемся?»
Было понятным, что эта незначащая фраза брошена Коновницыным нарочно. Чтобы отсечь иное значение явленной щедрости. Один раз прозвучало: на молебен в Исаакий войдут не все. Готовность явлена, но перед тяжелыми боями лучше весело верить в победу.
«Я так не уверен. Большевики всё сожрали и искурили».
«Да ладно, табачку, небось, осталось. Не кокаин».
Веселые, какие веселые и юные…
«От глотка коньяку бы я сейчас не отказался. – Мишка отхлебнул из своей фляги. – Но хоть с коньяком и незадача, но ты, Коновницын, попробуй только сегодня оторваться от компании, уткнувшись носом в свою книжку. Песни будем петь хорошие. А книжка твоя, кстати сказать, прескучная. Мы с Володькой покойным вправду заглядывали, невзирая на твои грубые словеса».
«Ничего ты не понимаешь. – Коновницын с наслаждением затянулся предложенной папиросой. – Вот ты, к примеру, больше всего о какой книге недавно жалел, что в сидор все тома не влезли бы, хоть плачь?»
«Ну, сравнил! О Карамзине своем я горевал. Никогда не устаю перечитывать. С любого тома».
«А я всех томов не одолел, – признался Сашка, поморщившись от табачного дыма, к которому так и не привык. Курить же ему и вовсе не понравилось. – То интереснее, то не так. Я только некоторые главы люблю читать. Про самых любимых героев. Про Скопина-Шуйского десять раз читал, не меньше. Я его больше всех люблю».
«Эх, мимо самого важного ты пролетел, – начал горячиться Мишка. – В том и прелесть Карамзина, чтоб по порядку читать. Отравили Скопина, но что из этого выходит? Совсем бы по-иному дело вышло с Тушинским вором… История не собрание портретов, а развитие, движение…»
Коновницын, довольный, рассмеялся.
«Вот ты, Мишаня, сам всё Сашке и разобъяснил. Развитие и движение. Вот вы, как глупые дураки, пишете ер в конце слова после согласных, а к чему он нужен?»
«От умного дурака слышу. Ер… – Мишка пожал плечами. – Не думал. Без него как-то голо, это да».
«Ер это память. Когда-то наши предки не умели обрубать звука согласным. И на кончике языка был как бы привкус гласного. Легкий такой, как винное послевкусие. Где согласный был мягок, там ерь, где тверд – ер. Такая вот пара. А будь я командир, да полагайся мне личный значок, чтоб за мной носили в бою, я бы велел на полотнище нашить ять. Я в том числе и за нее большевика воюю. Ять – это рассказ о том, в каких словах у наших предков звучали две буквы. А потом они сплелись и срослись. И сделалась вовсе одна. Я думал над этим. Ох, не случайна их уродливая новая орфография! Они – убийцы памяти. А память это не только история».
«Ну, ты меня подловил с Карамзиным. Но ведь в самом деле интересно. – Мишка смотрел на Коновницына в некотором удивлении. – Ты никогда не рассказывал».
«А вы спрашивали нешто?»
«Теперь станем спрашивать. Но сегодня всё равно – песни петь! И никаких книг…»
…Видение оборвалось так резко, словно из книги, которую Лена только читала, кто-то вырвал следующую страницу.
Сделалось холоднее, она накинула край пледа на голову. Других записей в дневнике не было, хотя после той, что была помечена Вороньей горой, оставалось еще не меньше трети чистых страничек.
Дальше Пулковских высот армия не продвинулась. Какими страшными были те бои…
Они погибли. Погибли все.
Слёз уже, похоже, не могло больше быть. Лена просто прижала к щеке потрескавшийся грязный переплет маленькой книжицы. Но отчего я так часто слышу тебя, граф Серёжа, что же ты все-таки пытаешься мне сказать?
Глава XXIV. В окопе
«Я люблю серебряные звоны,
Золото рассветного ручья.
Старые, забытые знамена,
Лишь о том стихи слагаю я.
Я люблю старинные преданья,
Танцы фей в безлунье на лугу,
И огней в камине колебанья,
Отраженья радуги в снегу.
Я люблю терпение Христово,
Воспеваю Крест и потому
Ничего из мира мне чужого
Не хочу понять и не пойму.
Если ни к чему мои знамена,
Не корите в том меня, друзья.
Я люблю серебряные звоны,
Золото рассветного ручья».
– Алюха, чего там читаешь-то всю дорогу? – Федор, прицельный установщик, необидно засмеялся, закуривая. – Небось того, письма полюбовные?
– Стихи.
– Поня-я-тно. Тоже, знамо дело, про любовь. Про чего еще девкам стихи?
Алю любили подразнить, но уважали и никогда б не дали в обиду. Репутация недотроги, которую она получила с первых же дней, служила ей хорошую службу.
– Федь, отстань. Так хочется почитать спокойно…
Под стихотворением стояла дата – 1932. Вовсе детское. Это была рука Лены. Аля уже разобралась, кто есть кто. Пользуясь Лениным разрешением, она погружалась в странный «свод алхимиков» каждую свободную минуту. Это было – как заходить в комнату из другого мира, соседнюю с той, где жили ее куклы. Нездешний мир, он казался много реальнее этого, «чужого». Много реальнее кривовато срубленной стены окопа, раскисшей грязи, уже заляпавшей доски под ногами, едкого дыма, кислого овчинного запаха, серого низкого неба.
Много реальнее раскинувшейся белой равнины, где, она не видела, но знала, с прошлой атаки стояли мертвые тела в маскхалатах. Стояли выше колена в снегу – как остановил выстрел.
Как же далеко всё это отгонял слабый шелест бумаги!
Всё смешалось в этих листках… Совсем детское, как только что прочтенное Ленино, и уже вполне взрослое, четкое…
Ревел на площади народ,
Когда, в корсаж воткнувши ирис,
С прической «Клео де Мерод»
Вы на балконе появились.
С бокалом белая рука,
Стекло муранское блистает,
Лилово сумрачны шелка
Из желтолицего Китая.
Не снизошли и не сошли,
И перед яростью больною
Вы пили легкое шабли
Как будто солнце ледяное.
Когда внизу долбил таран,
Дразня улыбчивым презреньем,
В вино вы кинули циан,
И пригубили без волненья.
Беснуйся, чернь, отродье Зла!
Держи убогую поживу:
Лишь наши мертвые тела,
Не нашу честь, не душу-живу.
Это не Митино, это тот, другой, о котором она не посмела спросить… Но слова «погиб» все же не прозвучало. Он был талантливее Мити, но это не казалось обидным. Митя ведь не собирался в поэты.
Митиной рукой на полях оказалось приписано: «Ударение!»
А ниже, Лениной:
«Папа считал, что иногда допустимо».
Папа… Это простое слово ударило током. Аля изо всех сил стиснула виски тонкими, покрасневшими без варежек пальцами.
Почему, почему… Ведь отцу было дано в жизни всё, чтобы стать совсем иным. Зачем он выбрал дорогу, идя по которой превратился в омерзительное чудовище? Ведь она могла бы вырасти такой же, как они… чистой. Пусть в коммуналке, пусть бы его все равно расстреляли – но и расстрелянного она могла бы любить его, как Лена любит своего.
Зачем и как подобное случается? Как хочется кого-нибудь спросить – почему в жизни отца вышел такой страшный выбор?
Не Лену, Лену нельзя. Ей слишком многого нельзя рассказывать. Лена не должна знать грязи.
Некого спросить о выборе Зла? Совсем некого… Но если… если священника?
Решение показалось удивительно простым, как случалось в школе, когда долго мучит пример по алгебре: как вот же я, о чем было ломать голову?
Она имеет право, она же крещеная. Только немного набраться смелости… А где найти такого священника – она спросит у Лены, в следующий же раз, как будет в отпуску. Это называется исповедь. Она только в книгах об этом читала.
Пытаясь успокоить мысли, Аля снова заглянула в стихи. Хотелось бы знать, он о ком-то писал или это просто аллегория? Мелькнула мысль о Кшесинской, но Кшесинская ведь спаслась. А еще югенд-стиль.
Да, у Мити стихи не такие. Он только баловался стихами, за компанию. А вот рисовал Митя хорошо… Хотя в художники тоже не собирался, но мог бы… Жаль, нет его рисунков.
Карандашный набросок выскользнул ей на колени, словно произнося «как это нет?»
Неужели… Аля счастливо узнала себя, не сразу решившись поверить глазам. На фоне едва-едва намеченных дворцовых строений. Но и без этого можно было б догадаться, где ее вспомнил карандаш: по одежде. Как же она в тот день в Царицыне хотела быть нарядной! Как долго раздумывала перед зеркалом…
А листки все перемешаны. Надо бы пронумеровать, что ли.
– Не-е-е-б-о!!!
Призывающий вопль разорвал ее тайное уединение как слишком легкую ткань.
Аля привычно, в считанные секунды, надежно уложила бумаги в сумку и натянула рукавицы.
Полудюжинный расчет 72-К кинулся по местам. Сан Саныч на бегу расчехлял бинокль, Федор, словно в седло, уже плюхнулся на свое сиденье у казенника, ожидая его команд. Игорь, наводчик, ругнулся – ушиб ногу, спеша тоже сесть.
Степан, напротив, бежал по сугробам к тягачу.
Краем глаза приметив все привычные передвижения, Аля, с первой тяжелой лентой в руках, мчалась к Никите.
Команда была сработавшейся, все понимали друг дружку с полуслова.
– Саныч, ну чего?
– Да ёж мышь… – черно ругаться молодой командир не любил, не скобарский свычай. – Щас темно будет…
В считанные мгновения сделалось ясным и без бинокля: такой атаки ещё не бывало…
«Хейнкели» шли на снижение как беременные смертью чудовища. Трудно было разобрать – сколько их, сотни? Казалось – тысячи…
Передав Никите ленту, Аля кинулась за новой – ей, подносчице, надлежало оборачиваться меньше, чем за минуту.
Федор, крутя вареньеры, уронил в снег ушанку.
– Обуй башку, Федька! Ты хуже сигнальной ракеты! – выкрикнул, смеясь, Игорь. Ярко-рыжие волосы Федора всегда служили неисчерпаемой темой неприхотливых острот.
Теперь Аля уже не боялась оглохнуть, даже забывала иногда приоткрывать рот, когда начиналась адская увертюра. Зенитка давала за минуту почти две сотни в половиной выстрелов. Сплошной дым скрыл самолеты. На третьей минуте казалось, что выдержать больше невозможно. На пятой делалось терпимо.
Казалось немного обидным, что в задачу расчета не напрямую входит сбить самолет. Только – создать огненную завесу, вынудить раньше времени расстаться со смертельным грузом…
Раньше и ниже…
Плохой видимости Аля обычно радовалась. Хотя времени на страх недоставало, но, когда открывались люки и «юнкерсы» или «хейнкели» начинали, по выраженью Сан Саныча, метать чёрную икру, ей делалось не по себе.
Федору, конечно, было не до шапки. Аля, подбежав с лентой, успела мимоходом нагнуться и нахлобучить ушанку на его голову.
– Эх, добрая! А то хоть ухи отвались, этим лишь бы поржать! Женюсь за это, помяни слово!
– Обманет, Аль! Даже и не слушай его!
Непрозрачное небо делалось всё громче.
Рвалось уже вовсе близко, то сзади, то спереди, снег бил фонтанами, встречаясь с огнем.
Уже не было сил на шутки и смех, трудней становилось слышать команды…
Аля уже дважды споткнулась о низко вытянувшее ветку кривое деревцо. Но обегать было некогда, а между склад-окопцем и орудием ее валенки уже протоптали тропинку. Ветви больно били по лицу, но она носилась по прямой. Простое дело подносчика – протянуть кассеты прежде, чем кончились заряды. Простое, но от подносчика зависит, чтоб ни на мгновение не затих огонь.
На сей раз ветви ударили как-то слишком больно, бросив ее на землю. Подняться почему-то не получалось…
– Алька!!! Заряды!! …Стою, не слышишь?!
Голос Никиты звучал откуда-то издали. Руке, вцепившейся в застежки полушубка, сделалось липко.
Кровь… Откуда… Так много.
Она попыталась выдохнуть, и теплое красное хлынуло на грудь прямо изо рта.
Над Алей наклонился Степан. Или кто-то другой.
– За-ме-няй! Эх, бляха муха, отбегалась девка! Суки, ах же суки… Слышь, Саныч, кричи по линии замену Альке!
Снег краснел, ослепительно и ярко.
«Значит, так надо, – подумала Аля спокойно. – Это все-таки проклятая кровь».
Глава XXV. Нет выхода?
Снег сходил. Еще недавно казалось, что ничего не может быть страшнее холода. Но то, что пришло ему на смену, было чудовищно.
Снег сходил, являя «подснежники», как кто-то успел цинично назвать трупы, не замеченные зимой похоронными командами. Их оказалось много больше, чем можно было предположить. Эти останки разлагались с неправдоподобной быстротой. Запах казался похожим на неистово цветущий жасмин.
Парадные обдавали черным зловонием. Таяло всё то, что бросалось и выливалось всю зиму в лестничные пролеты.
Еще было холодно, но город уже задыхался, задыхался в самом себе. Никого не тошнило, тошнить было нечем. Но спазмы ложной рвоты, настигавшие всегда неожиданно, оборачивались сильнейшими резями.
Новой тучей нависла угроза эпидемий.
Все, кто мог стоять на ногах, вышли на уборку города. Это заняло не день и не два, требовались усилия пятерых на то, что до войны шутя делал один.
Но дело сдвигалось, дома и улицы становились чище. Словно в подмогу – дули сильные ветры, донося запах моря.
Никто даже не удивился, когда по уцелевшим рельсам, словно оповещая звонками о конце страшной зимы, проехал первый краснобокий трамвай. Уже казалось, что осада будет – всегда, но это ведь не повод, чтобы не ходили трамваи?
Хлебный паек еще раз увеличился. Кроме хлеба не удавалось отоварить почти ничего, но в тот ломтик – по 125 граммов, – что получали всю зиму, уже не верилось. Как же на этом перезимовав – и еще мы живы?
Но именно в эти дни, когда хлеба прибавили, Юрий Задонский заметил то, чего боялся всю зиму.
Силы Лены были на исходе.
Он не мог ошибаться. За минувший год они научились быть безошибочны. Неуловимые признаки, вовсе не приметные бы тому, кто не был здесь в холода…
Да для стороннего взгляда они все тут и были одинаковы – кто опухший, кто исхудавший до костей… Но откуда бы и взяться сейчас взгляду стороннему?
Слабое биение жизненной жилочки – оно слышно было как тиканье часов. Он слышал его в декабре, слышал в январе… Забеспокоился было в марте, но не надолго: Лену поддержали чьи-то маленькие гостинцы с передовой. Она еще тогда пыталась и его напоить сладким чаем. Чаю он с наслаждением выпил, не чинясь, с сахаром сшельмовал.
Жилочка билась, билась… А сейчас биение ее затихало. Он знал: хотя бы хлеба ей сейчас нужно вдоволь. Трехсот граммов ей сейчас мало. В январе они были бы благословением, но она уже слишком истощена.
Тихая. Почти прозрачная. Еще немного – и она растает.
Слезы текли по лицу. Господи, как бы я хотел сейчас умереть или сойти с ума, лишь бы избавиться от этих мыслей…
Я мужчина. Я ученик. Я сразу был готов умереть, но не тронуть того, что велит сберечь моя честь ученого.
Это труд всей жизни Вавилова, это пшеница с самых отдаленных пределов… Говорят, его пытали. Могу ли я съесть хоть зернышко? Нет, сто раз нет.
Но она… Она даже не женщина, она все еще дитя. Не в том даже дело, что любимое мною, просто – дитя. Господи, смогу ли я хранить свою пшеницу, изо дня в день наблюдая, как дитя умирает?
Умирает с голоду, Господи! Я же знаю, я вижу, она умирает с голоду… Зимние силы иссякли, с этого пайка ей не выжить.
Стоит ли голодная смерть одной девочки – будущего человечества? Да будь оно, такое, проклято…
Николай Иванович знает – я сохраню. Я не трону. Его пытали. Кому ему еще верить, как не мне, стражу хлебного собрания?
Мы поклялись сберечь, мы все. Мы знали, уже тогда: у каждого из нас будет – особенный случай, когда покажется, что тебе, именно тебе, простительно и можно…
Легче ли Вадиму от того, что Оля зарекалась с ним вместе? Детдомовская, слабенькая, всегда была слабенькая… Легче ли ему?
Мы знали, что особый случай будет у каждого. И если каждый найдет для себя исключение – коллекции не будет.
Сначала изведем дубликаты. Потом дотронемся и до оригиналов…
Единственный способ сохранить все – чтобы не оступился ни один.
Но нет такого оправдания тому, чтобы допустить – пусть умрет Лена Гумилева.
Ведь ее я могу накормить. Немножко, ведь дотянуть надо лишь до лета. Дальше у города будет картошка, капуста, морковь…
Ничего этого у города не будет, если мы сами начнем сейчас разорять фонды…
Мы пережили зиму, самое страшное. Но зимой у Лены Гумилевой еще была сила жить. И самое страшное не было мне страшно.
Я не могу тронуть ни зернышка.
Лена не должна умереть.
Боль взорвалась в мозгу, как белая звезда.
…Он не умер. Он обнаружил себя лежащим на кровати, хотя вовсе не помнил, как лег. Какое же это блаженство – больше не терзаться лютой пыткой, что доводила его до исступления уже несколько дней.
Как хорошо. Как все на самом деле просто.
Тоже мне, ученый. Делал выбор из двух взятых величин, не подумав, нет ли третьей.
Есть третья величина. Выбор существует. Теперь он его сделал.
На кровати, поверх одеял, лежал старый тулупчик. Юрий потянул его на себя и, почти мгновенно, забылся глубоким спокойным сном.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































