Текст книги "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева"
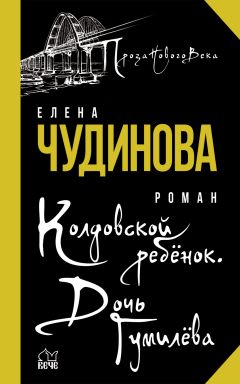
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
– «Что там кричат на улице, Зулейка?»
– «Мы не знаем, царевна Будур!»
– «Так пойдите и узнайте! Мне скучно! Я хочу знать, зачем там собралась толпа!»
– «Сейчас узнаем, царевна! Мы мигом! Бежим, Амина!»
– «Мы все узнали, царевна! Удивительное дело! Там, на улице, старый старик! Старый и такой чудной! Он меняет старые лампы на новые! Совсем даром! Забирает старые, плохие лампы, а взамен дает красивые, чеканные, новенькие-новенькие! Слышите, он кричит: «Меняю старые лампы на новые! Меняю старые лампы на новые!»
– «Как странно! Он не шутит?»
– «Нет! На наших глазах он поменял несколько ламп! А новенькие лампы, ах, они такие красивые!»
– «Я тоже хочу поменяться с этим забавным стариком!»
– «Но царевна Будур! В нашем дворце все лампы и так новые и красивые! Откуда же взяться у нас всякому старью?»
– «Ах, как обидно! Впрочем… У моего супруга Алладина стоит в спальне старая, гнутая, дешевая лампа! Вот приятно ему будет, если мы заменим ее на новенькую! Принесите мне лампу Алладина!»
По-московски ласковый ветерок разлохматил страницы. Митя рассмеялся.
Они с Алей сидели на покосившейся некрашеной скамеечке близ «мавританско-готических» развалин Царицынского дворца. Сентябрь выдался на удивление веселым. Кленовые листья, букет которых лежал на коленях у Али, были празднично желтыми, но об осени только это золото и повествовало. Впрочем, Алин наряд тоже был уже не летним. Темное шерстяное платье в мелкую клеточку, закрытое, с полоской мехового воротничка, узкое и удлиненное, очень ей шло, так же, как и крошечная черная шляпка, скорее воткнутая в кудри, чем покрывавшая голову. Она уже была в перчатках.
– Такая погода, что даже читать лень. У нас уже холоднее. Ну и как ты думаешь, справишься с новыми куклами? Старые Анне Николаевне не нравятся.
– Я надеюсь. Надо сходить в музей. А старые куклы, они, верно, очень восточные?
– Ну а какими же им быть?
– Фантастическими. – Аля сделалась очень серьезна. – Чтобы востока чуть-чуть совсем, а больше сказки.
При слове «сказка» голос Али как-то удивительно потеплел. Так случалось каждый раз.
Миновало три месяца с их прошлой встречи. Москва не ближний свет, не так-то просто взять и приехать. Билеты все же не дешевы, а спрашивать театральной командировки было неловко. Митя, к тому же, не был уверен, что Аля ждет его, да и не знал, как связаться с нею вне мастерской.
Но Аля ждала, он понял это сразу. И, кроме того, оказалась на месте и с готовностью приняла предложение почитать пьесу.
– Пройдемся?
– Конечно! Тебе нравится здесь?
Прежде, чем ответить, Митя окинул взглядом пейзаж, действительно необычный. Яркое солнце, казалось, только придавало мрачности черно-красным стенам в причудливых завитках белой лепнины. Мрачным, словно налитым ртутью, казался и спокойный пруд внизу.
– «Было небо как будто надгробье. Были листья как будто в крови. Словно были в засохшей крови. Это было в осенней чащобе. В годовщину умершей любви. Это было близ озера Обе. У вампирского леса Уи».
– А кто это?
– Эдгар По. Созвучно немного. Спасибо, что ты мне показываешь этот парк. Я и не думал, что в Москве такое есть.
– Это самое таинственное место в Москве. Развалины, которые всегда были развалинами.
– К стыду моему не знаю. Почему всегда развалинами?
– Это строил Баженов. Но чем-то не угодил Екатерине Второй. Кажется, там был заговор в пользу Павла Первого. Она даже порог переступить отказалась. Приехала со всей свитой сюда – а внутрь не вошла. Так с тех пор все стояло и разрушалось.
– Ты любишь историю? Это сегодня не в моде и не в чести.
– Историю? – Аля серьезно покачала головой. – Не совсем. Это слишком сложно и скучновато, все эти общественные формации, борьба классов… Я люблю всякие тайны.
Аля любит тайны. А Лена тайн не любит, Лена сама – тайна. Лена знает дорогу и влечет за собой. Але хочется покровительствовать.
Если классифицировать строго и научно, то Лена – богиня, Аля же – фея. Но научная классификация не очень помогала.
Митя ощущал странный сумбур. Зачем он все же приехал к этой, другой и довольно чужой девушке, ведь любовь его к Лене неизменна. А если Аля неверно его поймёт? Тем паче, он сам себя не понимает вовсе. Надобно как-то ей сказать… дать понять… Но как?
Они приближались между тем к еще одному строению.
– Ух ты, а эта башня совсем разрушилась!
– Нет, это руина.
– А, построенная нарочно развалина. У нас тоже такие есть в парках. Но эта очень уж высокая. – Митя задрал голову. Со стороны тропинки «руина» поднималась полукругом до башни, служившей смотровой площадкой. С другой же стороны – резко обрывалась.
– Залезем?
– Давай!
Давний зодчий, казалось, предусмотрел всё. Подниматься по скошенной стене было удобно, как по лестнице. По лестнице, ведущей в никуда, а верней сказать, прямиком в голубую осеннюю эмаль. Они поднимались бегом, Митя впереди.
Теперь парк лежал под ними, являя весь дворцовый ансамбль в обрамлении осенней листвы.
Площадка оказалась совсем небольшой: семь на шесть шагов. Посередине ее сомнительно украшал проржавевший крюк позабытого предназначения.
– А это еще что такое?
К крюку оказалась привязанной новёхонькая толстая веревка. Натянутая как струна, она, кроме того, еще и ходила ходуном.
– Опять эти дураки!
– Какие еще дураки?
– Альпинисты. – Аля сердито сморщилась, сжав обтянутую перчаткой руку в маленький кулак. – Взяли моду тут тренироваться. Из-за них стены разрушаются! Кирпич так и сыплется… Вот же… Так бы и сбросить всё это им на головы!
– Ты действительно этого хочешь? – Митя смотрел Але в лицо.
– Ну… да. От них же вред какой!
Подойдя к краю площадки, Митя посмотрел куда-то вниз. Затем, вернувшись, наклонился. Ловко развязал узел, пару раз качнув веревку, словно змею, в руках, размахнулся и сбросил ее вниз.
– Как ты с этим узлом разобрался… Ну что, пойдем вниз?
– Полагаю, теперь придется подождать.
– А чего нам ждать?
Митя улыбнулся.
Они появились на площадке минуты через три. Два здоровых парня Митиных примерно лет. Какие-то одинаковые оба. В полосатых спортивных рубахах со шнурованным воротом, стриженные «бобриком», круглоголовые, низколобые и курносые. Не братья и не близнецы, это почему-то показалось ясным. Просто одинаковые.
– Ты веревку скинул?
– Ну я.
– Больной, что ли?
– Сами больные. Вы старые постройки рушите своими тренировками.
– Сейчас следом полетишь.
– Это мы посмотрим. – Митя изготовился встать в боксерскую стойку. Юрий Задонский тренировал его уж третий год, еще когда Петя был в городе, он начал обучать приемам обоих. – Пропускайте девушку, и будем разбираться.
– Ну, ты наглый, очкарик. Силён командовать.
– С девушками вы ж не деретесь, я полагаю. А вас обоих мне – по одному на каждую руку. Давай, посторонись. Аля, иди и жди меня внизу.
Второй из парней, не тот, что спорил с Митей, скользнул бесцеремонным взглядом по изящной девичьей фигурке. Потом посмотрел на Митю. Водянистые его глаза словно погасли.
– Слышь, Миха… Пожалуй, ну его к лешему. Чё мы вдвоем на одного. Да еще интеллигента.
Аля неожиданно побледнела. Словно с опозданием испугалась.
– Ты чего? – набычился первый. – Так и разрешить ему людям их собственные веревки на головы кидать? А если б ты по стене шел?
– Ну, положим, я посмотрел, где вы копошитесь, – усмехнулся Митя. – Ничего по стене никто еще не шел.
– Миха, говорю тебе, пошли. – Второй очевидно нервничал.
– Ты чего, очкарика испугался?
– После, говорю, пошли. – Словно показывая пример, парень повернулся спиной и ступил на лестницу.
– Тьфу на тебя. – Альпинист в самом деле сплюнул под ноги прежде, чем последовать за товарищем.
– Экие тихие мальчики у вас в Москве, – удивленно процедил Митя, когда они остались на отвоеванной площадке одни.
– Ты что, как хотел подраться? – Аля казалась странно притихшей.
– Сам не знаю. – Митя и вправду не знал.
– Я глупо поступила, что попросила тебя сбросить эту веревку.
– Да ладно. Смотри, озеро отсюда совсем похоже на чашу с ртутью. Кстати, во времена царевны Будур, а точнее, конечно, Аль Рашида, некоторые вельможи в самом деле устраивали в своих дворцах ртутные фонтаны. А потом, небось, думали, кто бы это их отравил…
…Аля и в этот раз не разрешила проводить ее до дому. Они расстались недалеко от вокзала.
– Ну что, ты будешь думать над куклами?
– Да, конечно. Я сегодня дочитаю пьесу. Мне очень нравится.
– А как с тобой связаться, я в прошлый раз не спросил. Хорошо, что ты сегодня оказалась в мастерской.
– Сейчас…
Аля торопливо черкнула несколько строк на страничке, вырванной из хорошенькой записной книжки.
– Это мой телефон. Домашний, у нас есть в квартире.
– А я почему-то думал, что ты живешь в общежитии, – сказал Митя, пряча листочек во внутренний карман.
– Одно время мне очень хотелось жить в общежитии. Но с этим не получилось. – Аля вздохнула. – Ты ведь позвонишь, когда снова соберешься в Москву? Ты ведь еще приедешь?
– Я… да, конечно, если ты хочешь. – Митя почувствовал, что краснеет, но продолжил, от смущения не выбирая слов. – Только… Аля… Ты знаешь, ты очень славная. И красивая. Ты мне очень нравишься. Но у меня… у меня есть девушка, которую я очень люблю. Дома, в Питере.
– Я не ждала, что ты сможешь полюбить меня, – глухо ответила Аля. – Меня нельзя любить.
– Что за глупость, почему? – опешил Митя.
– Это не глупость. – От смуглых щек Али отхлынула краска. Но дыхание ее оставалось спокойным. – Неважно, не спрашивай. Я не хочу об этом говорить. Я просто буду рада тебя видеть, если ты… если тебе это приятно. Я просто буду очень рада.
Митя отчего-то понял: спрашивать нельзя. Нельзя ни в чем разубеждать, спорить. Можно только одно – дарить ей то, о чем она просит самое.
1937
Глава XХVI. ОбещаниеЁлку поставили в округлом эркере тройного окна. В комнате сделалось из-за этого немного темно, но жаловаться не приходилось. Сумасшедший запах хвои и смолы кружил голову.
– Сохранились чудом эти игрушки, – Лариса Михайловна торжественно внесла снятую с антресолей шляпную картонку. – Уж не надеялась, что пригодятся. Пролетарские соседи, надобно сказать, пребывают в прострации. Мне попалась эта… простигосподи… Липа. А вы-де впрямь ёлку купили? И в Смольном, отвечаю, тоже запаслись на праздники. Будут для школьников ставить. Я уж не стала объяснять, что нам, в отличие от властных, ёлка пригодится к Рождеству.
– Мама, да что об этих соседях? – Анна Николаевна улыбалась счастливой юной улыбкой. – Скорее открывай свой клад! Я очень хочу поглядеть на мои детские сокровища. А Лена и не видала их ни разу… Ах, Галинки нету…
– Аня, не огорчайся. Маленькому ребёнку в самом деле лучше в своем доме, на цельном молоке, что говорить. Еще года два, придется ее здесь в школу записывать, не заметим, как время пролетит… Нечего и горевать. Открывай сама, проверяй…
– Ах! – В голосе Лены восторг слился с отчаяньем. – Мама!! Бабушка! Ну почему же, почему вы мне этого даже не показывали, когда я маленькая была?!
– Видишь ли, мой друг, – вместо женщин взялся отвечать дед. – Какая радость в елочных игрушках без ёлки? А ведь мы в первый раз ставим елку на Рождество, в первый раз за все эти годы. Видит Бог, мне их запреты не указ, я в любом случае у этих властей на плохом счету. Но в прошлые зимы, чтоб поставить ёлку, мне бы пришлось не иначе, как самому ехать с топором в лес. Вот и лежали эти игрушки позабытыми… Ведь елочные игрушки без елки – это заводной паровозик без ключика, газированная вода без газа… Радуйся лучше им сейчас.
И было чему радоваться… В округлой пещере, оклеенной черным бархатом, лежали настоящие сокровища.
– Лена, осторожнее! Ты даже не представляешь, какие они хрупкие!
Словно в самом деле боясь тронуть стекло, Лена держала в руках паяца с личиком из папье-маше и тряпичным туловищем. Но можно ли было назвать тряпичными эти роскошные одеяния? Этот камзольчик из золотой парчи, эту загнутую шапку с бубенчиками?
– Nicolas, ты только взгляни! – Лариса Михайловна судорожно вздохнула. – Этот шар мы с тобой покупали в Мурано! Даже не покупали, нет… Его выдули при нас… Ты помнишь, Nicolas, ты помнишь? Муранские стеклодувни… Я сказала, что хочу шар с ангелом… И мыльный пузырь дрожал, а в его середке появлялся лик в нимбе…
Шар в руке бабушки походил на разноцветный леденец. Но стекло светилось каким-то особенным светом.
– Я всегда считал, что муранское стекло краше любого хрусталя. Конечно, помню, Ларинька. Ремесло на грани волшебства.
Кроме стеклянных, в картонке были плоские игрушки из жатого картона, раскрашенные золотой и серебряной краской, ажурные картонажи, соломенные плетенья…
– Мама, ты только взгляни на этого зайца! У него же барабан! Ой, а ёлка-то колется!
Лена смеялась, между тем как по лицу Анны текли слезы. Её семнадцатилетняя дочь впервые в жизни украшала ёлку.
– С чего бы советы начали вдруг праздновать Новый год? – негромко спросила мужа Лариса Михайловна. – Помнишь, сколько шума было против ёлок?
– Не сумели побороть, пытаются присвоить, – пожал плечами Энгельгардт. – У них ведь и в прошлом году были телодвижения поводить хоровод. Но тогда еще неуверенно. А нынче, ишь, разгулялись, весь город украшен. Знамо дело, у них получится всё задом наперед, светский праздник вперед церковного, с этим календарем… Ну да нам что? Нам хорошо лишь, что теперь можно, как в нормальные времена, пройтись до базара и выбрать деревце для праздника. С паршивой овцы…
– А зачем тут книжка? Немецкая… Ой, мама! Это не книжка! Это же вертеп!!
Лене словно сделалось вновь лет одиннадцать. Опустившись на пол под деревом, она с восторгом разглядывала картонные фигурки, поднявшиеся, когда «книжка» раскрылась: хлев, ясли с Младенцем, Богоматерь, ангелы-дети, ягненок, теленок, ослик… Маленькие фигурки приближающихся Волхвов, а над всеми – осыпанная блестками восьмиконечная звезда.
– Мама, а где жар-птицы? Две жар-птицы, помнишь?
– Одна, Анет. Вторую Саша разбил, ты забыла. Одна должна быть здесь.
Три женщины увлеченно суетились вокруг ёлки. Три светловолосых женщины, в лицах которых, от старшей к младшей, Боттичелли постепенно уступал Веласкесу.
Наблюдая семейную живую картину, Энгельгардт не мог не улыбнуться. Впрочем, улыбка вышла печальной. Ему захотелось вдруг выкурить папиросу.
Тихо, чтобы не помешать радостному настроению домашних, Николай Александрович удалился к себе.
Папироса немного облегчила странное стесненье в груди. Плохо, конечно, курить с таким наслаждением. Эдак недолго втянуться. Любая же физическая зависимость – непозволительная слабость теперь.
– Дедушка, можно к тебе?
Лена стояла в дверях. Она вошла бесшумно, в своих сереньких валенках, которые ее заставляли всю зиму носить мама с бабушкой – квартира отапливалась плохо. Шотландская юбочка, козий платочек на плечах, волосы собраны черной бархатной лентой. Выросла, подумалось ему, уже почти полностью выбрала свой настоящий рост. А детские черты еще не ушли.
– Неужели тебя возможно оторвать от Tannenbaum?
– Я сегодня буду под ней спать. И увижу ее, проснувшись. – Лена залезла в старое чиппендейловское кресло. – Я хотела тебе кое-что показать…
– Неужели стихи? – Энгельгардт заметил уже, что Лена вытаскивает записную книжицу из кармашка своего вязаного джампера.
– Стихи с устным предисловием. – Внучка не улыбнулась в ответ.
– Я в твоем распоряжении.
– Ты помнишь… Мне исполнилось двенадцать лет. Ты помнишь свой подарок?
– Вроде бы особо дарить было и нечего, год выдался тяжелый. Не было даже муки в продаже, у мамы не получилось испечь тебе мильфёй.
– Может статься, ты не счел это подарком. Но для меня это было – самое лучшее, что только возможно. Ты показал мне тогда гербовник.
– Это я помню, разумеется. Ты еще спрашивала, почему одно крыло короны синее, а другое золотое?
– Да. Я запомнила с первого взгляда: золотая восьмиконечная звезда на синем поле, три серебряных лилии на красном, на нижнем. И намёт, где эти разноцветные крылья, и Ангел с пальмовыми ветвями. И львы, что его держат. Я еще заплакала тогда, что его не наследую. А ты объяснил, что это совсем неважно, все эти фигуры и картинки всё равно у меня в крови. Ты помнишь?
– Разумеется. Так неужели стихи о нашем гербе?
– Не совсем. Я написала это спустя два года, когда мне было четырнадцать. Может быть, немного негладко. Но все-таки я решила тебе показать. – Лена, очень серьезная, открыла в книжечке нужную страницу и протянула деду.
Когда-то я, о, как давно!
Зашла в старинный дом.
Там было пусто и темно,
Горели свечи в нем.
Как пусто было в доме том!
Лишь я в него вошла.
В нем веницейским серебром
Мерцали зеркала.
Со скрипом отворилась дверь,
Шаги… И он вошел.
И потемневший манускрипт
Он положил на стол.
«Что здесь ты делаешь, дитя?»
Был голос странно глух.
Суровый холод напустя,
Ласкал он все же слух.
«Оставь же этот дом, поверь,
Что вход в него забыт.
Что в этот дом забили дверь,
Здесь тень Былого спит».
«Но грустно мне, что я должна
Покинуть этот дом!
Уйти отсюда не узнав,
Что затаилось в нем».
Я обернулась – позади
Дверь, лестница, крыльцо…
Постой, к камину подойди,
Дай рассмотреть лицо!
Зря покорился я судьбе,
Зря думал – никогда.
Теперь я вижу, что тебе
Открыта дверь сюда.
Здесь подземелье есть, в него
Ты спустишься ль со мной?
– Я не страшусь здесь ничего,
Скорей замки открой!
… Достал он ключ, замок открыл,
И лестница вела
Туда, где радужный огонь
Дробили зеркала.
Доспехи рыцарских побед
Висели по стенам,
Звон серебра и лунный свет
Струились по камням.
Фарфор, драконов и шелка
Таили до поры
В рисунках, хрупких, как мечта,
Китайские шары.
Там был знамен цветных полёт,
Там, в чаши разлитой,
Лежал рассвет, как старый мёд,
Тягуче золотой.
– Я вижу, вкус таких отрад
Тебе уже знаком.
Ты видишь этот древний клад?
Теперь он под замком.
Уж полночь, и покинуть дом
Пришла тебе пора.
Но унеси с собою звон
Седого серебра.
С собою радугу возьми,
Китайские шары
И свечи, что осветят путь
В забытые миры.
С собой дыханье унеси
Рассветов золотых
И дай обет, что никогда
Не позабудешь их.
Но помни, если ты хоть раз
От клятвы отойдешь,
В обыденности серый плащ
Стихи ты обернешь,
В тот миг растают, пропадут
Китайские шары.
Пути травою зарастут
В забытые миры.
– Техника версификации хромает, как ты и самое понимаешь, – произнес Энгельгардт после некоторого молчания. – За три года ты немало в ней продвинулась, надо сказать. Впрочем, содержание отчасти искупает промахи, что ты также понимаешь, иначе не стала бы и показывать.
– Дедушка… Я не потому это тебе показала, что считаю удачными стихами. Просто на самом деле это стихотворение – оно про тебя. Ну и про меня. Про тот день, когда ты показал мне гербовник.
Теперь молчание Николая Александровича вышло довольно долгим.
– Что же… Я сдержал свое слово. – Голос старика дрогнул. – К добру ли не вем, но сдержал.
– Слово? – удивилась Лена. – Какое слово, дедушка?
Энгельгардт молчал. Через заколоченную дверь, соединявшую раньше обе комнаты, доносились веселые голоса двух женщин, украшавших елку. Движением руки он попросил внучку о молчании, погружаясь в собственные мысли.
…Постоянные отлучки зятя из города, что случались летом 1921 года, не могли не наводить Николая Александровича на серьезные размышления. Он и ранее подозревал, что преподавание едва ли способно полностью удоволить деятельного боевого офицера, тем более в столь лихие времена. Но лишь тот разговор, случившийся в июле, окончательно расставил точки над буквой «i», которую Николай Александрович по-прежнему отказывался считать иностранкой.
«Николай Александрович, у меня есть к вам просьба».
В городе опять вышло из строя электричество, и они сидели при единственной свече. Да, в этой же самой комнате, хотя в ней было тогда поменьше мебели: катастрофа под названием «уплотнение» еще не разразилась. Кстати, о мебели: Nicolas ведь выбрал в тот вечер кресло, в которое сейчас забралась Лена. Забралась и, в ожидании его ответа, отбивает пальцами легкую дробь по подлокотнику. Совсем как отец.
«Времена сейчас смутные, Николай Александрович. Не к тому, чтобы я томился плохими предчувствиями, но ведь все мы сейчас под Богом ходим».
«И вы, полагаю, несколько больше, чем иные?»
«Да, пожалуй. – При слабом пляшущем огоньке лицо Николая Степановича казалось старше, чем обыкновенно. – Уповаю, что все сложится благополучно, но … Всяко бывает в жизни. Может быть, я странный отец, Николай Александрович. Или напротив, самый обыкновенный, мне доводилось слышать, что дочери часто дороже мужчинам, чем сыновья. Но, так или иначе, Анна Андреевна личность более, чем сложившаяся, и воспитание Льва это более ее забота. Наша же Аня – совсем еще ребенок, даже материнство ее не слишком изменило. Если что недоброе случиться со мной, я вас прошу, Николай Александрович, не оставьте руководством мою дочь. Если ее характер мой – а он уже мой, как я наблюдаю, Ане с нею не совладать. Самое страшное предположение – если ей доведется расти и без меня и при хамовой власти. Я должен думать о самом худшем. Николай Александрович, пусть Лена в любом случае вырастет моей дочерью и вашей внучкой. Без скидок на время, каким бы оно ни было. Пусть будет собой, пусть будет настоящей, пусть умеет гордиться и стоять за себя. Пусть будет человеком нашей русской дворянской культуры. Пусть верует в Господа нашего Христа. Обещайте мне, Николай Александрович. Я буду покоен, если вы обещаете».
«Я даю вам слово».
«Благодарю. Вы сняли тяжелый камень с моей души».
«Берегите себя, Николенька».
«Я баловень судьбы. – Мальчишеский смех вновь сделал его молодым. – Все ж таки ни одного ранения! Понадеемся на лучшее. Я надеюсь танцевать с дочерью на балах».
Это была последняя встреча. А после – кровавые списки, вывешенные на воротах чрезвычайки, неистовое горе Ани… Безымянная могила Николая Степановича – невесть где.
– Я говорю о слове, данном мною твоему отцу, – наконец прервал молчание Энгельгардт. – Он хотел, чтобы я воспитал тебя, какой подобает быть русской дворянке. Думаю, на том свете ему не в чем будет меня упрекнуть.
– Лена, Лена же! Куда ты ушла от ёлки! – Веселая и словно совсем помолодевшая, Анна Николаевна почти вбежала в комнату. – Мы с бабушкой нашли Вифлеемскую звезду!
Внучка и дед переглянулись, оставляя все прозвучавшее их общим секретом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































