Текст книги "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева"
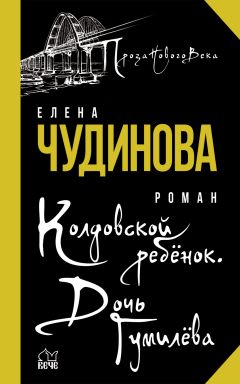
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Папироса дотлевала в сколотом блюдце, приспособленном под пепельницу. Купить настоящую пепельницу Задонскому все время было недосуг, хотя курил он уже несколько лет. Он и не знал толком, где покупают пепельницы и делают ли их сейчас, когда, по хамской моде, большинство курильщиков бросает где хочет и пепел и окурки.
«Одиннадцать лет… Не так уж и много. Люди в зрелых годах считают такое различие за ничто. Но для нее-то я “взрослый”, всего лишь “взрослый”, представитель иного племени. Все было проще и сердечнее, покуда она была маленькой. Тогда ей было со мной веселее, чем с ровесниками. К тому же интереснее. А теперь ей интереснее с этими мальчиками. Нет, они оба славные. И ревновать к первым влюбленностям нелепо, они обычно и кончаются ничем. Но все же, как раз сейчас ей меньше до меня дела, чем когда бы то ни было… Взрослый… Взрослый вы, дражайший Юрий Сергеевич».
Задонский прошелся по комнате. На душе было тяжело. Второй день не клеился опыт, стоял самый унылый в Петрограде месяц – март, а из всех репродукторов, куда ни пойди, несется недавняя речь Сталина о проникших повсюду-повсюду-повсюду врагах…
Ладно, довольно уже нянчиться с меланхолией, изыскивая окаменелых жаб в угле, которым топишь печку. Лучше завтра прийти в ВИР пораньше, пока в лаборатории тишина… Хорошо думается в эти рассветные бодрые часы… Проглядеть, кстати, сегодняшние записи на ночь. Авось во сне мозг продолжит работать, так уже не раз случалось.
– Юрий Сергеич, к вам тут пришли, – неприятно прозвучал за дверью резкий голос соседки.
– Прошу извинения, – вошедший добродушно рассмеялся. – Обеспокоил зряшно людей. Забыл поглядеть, кому сколько тут у вас звонков положено. Доброго вечера, стало быть.
Задонский рывком вскочил на ноги. В лице его, впрочем, не отразилось ни удивления, ни иных чувств, словно успело упасть невидимое забрало.
– Что, немножко нежданно я нагрянул, а? Без приглашения. Уж приехал вчера в Ленинград, так всё бы сразу и успеть. Так присесть-то предложите, коллега?
– Да, разумеется, – холодно ответил Задонский. – Присаживайтесь, Трофим Денисович, будьте любезны.
– Экие мы церемонные. – Академик Лысенко вновь рассмеялся, поправляя жидкие волосы, расчесанные на прямой пробор. – Проще надо быть в наше время, товарищ Задонский. Проще с людьми, ближе к народу. Тогда и люди потянутся, и уважение будет от них.
Словно и не очень скрывая несомненной фальши, сквозящей в добродушном голосе, Лысенко, казалось, искренне забавлялся положением, в которое поставил молодого ученого. Усилия Задонского, прилагаемые дабы скрыть всю неприязнь, несомненно, были ему заметны и… пожалуй, доставляли удовольствие.
– Хорошая у вас улица, тихая. Занятиям не мешает. И жилье достойное. А вы, никак верующий, Юрий Сергеевич? – Лысенко, с любопытством оглядывавший комнату, покосился на икону, стоявшую на маленьком бюро.
– В каком-то смысле, вероятно. – Задонский пожал плечами. – Но это едва ли имеет отношение к нашей беседе.
– Да полно суровости разводить. – Лысенко тихонько, словно шепотом, рассмеялся. – Ишь, каким взглядом пронзаете, даже и чаю не предложите пожилому человеку.
В действительности, чего не смог мельком не отметить Задонский, сорокалетний Лысенко едва ли мог считаться особенно пожилым. Но в движениях, манерах, интонациях действительно сквозило что-то нарочито стариковское.
– У меня чай дрянной, грузинский. Едва ли вы такой пьете.
– Ох вы и молоды… – Лысенко сердито поморщился. – Но с вас-то чего и взять по вашим годам, а вот кое-кто постарше бы и должен объяснить, что не стоит нынче соединять такие два словечка, как «грузинский» и «дрянной». Ну да куда там! Нешто полубогу есть время заботиться, чтоб с простыми смертными подчиненными чего не приключилось? Пусть лучше будут красивыми героями. Ну и сгинут ни за грош, если что. Их-то, простых смертных, никакие заграничные конгрессы не защищают.
– Я не вполне понимаю вас, Трофим Денисович.
– Бросьте. Все вы превосходно понимаете. Прекратите, Юрий Сергеевич. Вы уже себя показали, нагрубили старику. Будь здесь ваш Вавилов, он вполне остался бы удоволен. А теперь стоит бы подумать и головой. Я разве врагом к вам пожаловал? Не поленился, между тем, адрес узнать. А чего ради? Как мыслите?
– Я промолчу о своих догадках, дабы вновь не оказаться невежливым.
– Думаете – старый лис пришел меня, честного и гордого, переманивать, сейчас будет блага сулить, чтоб я учителя моего предал уговаривать? – Улыбка академика сделалась отечески ласковой. – Так ведь? Это вы и подумали?
– Я буду счастлив услышать, что дело обстоит иначе.
– Да черта с два иначе! – Лысенко даже не вскрикнул, а скорее взвизгнул. – Так оно и есть! Ну и не надо на меня глядеть с таким изумлением. И не надо тут мне разводить интеллигентщину, предлагать выйти вон и прочие сцены. Я, по крайности, говорю честно. Да, так. И вместе с тем – не совсем так. Довольно бы всё раскрашивать в черное да белое. Жизнь, она, молодой человек, обыкновенно больше серенькая. Не всё так просто. Мне, может, вас попросту жалко. У вас, Юрий, большое будущее, если сами его не испортите. Ваш драгоценный Николай Иванович вот возьмет да эмигрирует завтра. Другим нельзя, не двадцатый год на дворе. А ему можно. Ему все можно. И вот он уедет, а вы-то останетесь.
– Не думаю, что Николай Иванович согласится покинуть свою коллекцию, которую собирал всю жизнь ради пользы отечества.
– Так ведь иной раз и без согласия… того. – Лысенко хихикнул. – Вы ж раздумывали, помнится, не пойти ли ко мне на яровизацию. А Вавилов вам это даже советовал сначала. Сам, заметим, сам советовал.
– Всякое направление сначала исследуется, а после уж принимается решение – перспективно ли оно.
– Может, оно и так. А ведь вас звали ко мне, не припоминаете? И опять же ваш Вавилов сам предлагал вам проверять мое направление на эту самую перспективность.
– Я превосходно это помню. Но у меня был выбор. Я к вам, если помните, не пошел.
– Кстати, любопытно мне, отчего? Или профессор от сохи не довольно был хорош для потомственного интеллигента?
– Я ученый, Трофим Денисович. – Голос Задонского прозвучал надменно. – На мой выбор повлияло сомнение в яровизации.
– Эка! Вы и тогда сомневались? Вавилов и тот хотел попробовать, а вы, сопляк из университета, сомневались?
– Именно так.
– То есть даже ваш кумир – и тот способен ошибиться?
– Я не намерен разговаривать о Николае Ивановиче Вавилове.
– Эх, нравитесь вы мне! – Лысенко хлопнул себя ладонью по колену. – Ничего не могу поделать, люблю таких вот молодых вояк. Только ведь главное человеку – вовремя повзрослеть. От романтизма избавиться вовремя. Сколько вам годков? Двадцать восемь, кажись? Вы ведь, Юрий Сергеевич, везучий. Не к каждому, поди, сам Лысенко в гости заявится, с предложениями достойными. Ох, не к каждому. Но везенье ценить надо. А то ведь может и закончиться.
– Трофим Денисович, к чему мне сейчас делать вам неприятную сцену, повторяя то, что известно всем профессионалам. Что затраты на яровизацию чрезмерны, отчеты не корректны, что единственно необычайно мягкая зима 1926 года позволила выжить вашему хваленому в газетах гороху. – Задонский резко поднялся, прошелся по комнате, с трудом справляясь с гневом. – Говорить ли мне о том, что не может не вызывать брезгливости ваша манера ставить на невежественных газетчиков. Да, им можно наплести любые сказки, обещать хоть землянику размером с арбуз, хоть яблони на льдине, но научного авторитета через газеты не укрепить.
– Есть вещи поважнее, чем уважение высоколобых интеллигентов. Народное признание, которое дают эти самые газеты. Народу гомологические ряды без интереса, уж извините. А вот яблоки среди вечной мерзлоты – отчего бы нет. Это понятно.
– Я занимаюсь наукой.
– Вы не совсем понимаете, мой молодой оппонент, какие теперь настают времена. – Голос Лысенка звучал мягко, словно он лепил слова из мюнхенского пластилина. – Не понимать их, не идти в ногу, между тем – само по себе неумно. Расскажу вам один случай, мне из первых рук известный. Сейчас пошла волна «пересмотров». Не слыхали такого словца? Сидит себе человечек в лагере, сидит и считает, что дешево отделался, эка важность, несколько лет лопатой помахать. Не лукавлю ничуть, Юрий Сергеевич, я сам мужик, лопаты не боюсь нисколько. А тут бац – и приходит указание о пересмотре. И такое, знаете, иной раз обнаруживается… Вот некий гражданин, бывший работник органов, так и сидел, затаившись, как мышь за веником. И вызывают его к начлагу. Тот улыбается, чайком потчует. Мол, так и так, дело ваше пересмотрено, вы оправданы. Теперь же вас в Москву вызывают. Вот вам направление на поезд, зайдите в бухгалтерию за суточными. По приезде сразу идите на Лубянку к товарищу, ну неважно, я вам, Юрий Сергеевич, без имен повествую. Он вас дальше определит. А за тем прощайте, больше к нам не возвращайтесь, хе-хе. Наш, стало быть, бывший заключенный едет на вокзал, без конвоя, вольный человек. В поезде садится в нормальный вагон, на станциях ходит в рестораны. Рад-радёхонек. С вокзала прямиком на Лубянку. Не идет, бежит. Приходит в кабинет к кому сказано, а там уж ждут. Через полчаса его уж и расстреляли, Юрий Сергеевич. В свете, так сказать, пересмотра дела. А как вы полагаете, зачем эдакий розыгрыш? Небось, подумали сейчас – по злобе. Ан нет, Юрий Сергеевич. Пролетарская власть не злая без нужды. Конвоя на всех недостает, вот в чем загвоздка. А так – сам и прибежал.
Лысенко неожиданно впился взглядом в лицо Задонского, жадно наблюдая за действием своих слов.
Задонский ответил невозмутимым спокойным взглядом.
– Тоже, поди, подумали, к чему так быстро-то на тот свет? Не дали человечку и подумать над жизнью своей незадачливой. По злобе? И тут не угадали. Просто – куда его девать? К чему место занимать лишние дни? Камер не хватает. Нету у пролетарской власти никакой злобы. Она дело свое делает.
– Вы меня пытаетесь напугать, Трофим Денисович? Я не занимаюсь ничем противозаконным, чего мне страшиться?
– Пытаюсь я вас вразумить. Вы хуже дитяти малого. Закон сегодня один – как пролетарской власти нужно, так и будет. Всё остальное – буржуазные сопли, наследие прошлого. Барину по любому пропадать. Что, не ждали, а прозвище-то мне известно. Занятное прозвище для советского ученого. Зачем вам, молодому дураку, пропадать вместе с ним? Он свое пожил, ваш Николай Иванович. С ним в вашем еще возрасте носились как с писаной торбой. Так вы не поживете. Но долго и неплохо – можете. Так что довольно красоваться. Я за вами и штатную единицу уже придерживаю.
– Начинаю опасаться, что уже злоупотребил вашим ценным временем. – Задонский повернулся к академику спиной, устремив взгляд в окно. На улице, впрочем, нечего было особенно разглядывать: все, кроме слабого шара фонарного света, тонуло в ненастной питерской темноте.
– Сопляк. – Лысенко вскочил резко, как петрушка, вылетающий на своей пружинке из коробочки. – Приползешь потом. Умолять будешь.
Спина молодого ученого осталась неподвижной.
Громко хлопнула дверь.
Глава ХXVIII. Детская книжица– Ты только посмотри! – Митя перекинул оба портфеля – свой и Ленин, в другую руку. Он всегда почему-то носил два портфеля, сжав обе ручки в одной руке. Верно, с обеими занятыми руками казался себе чем-то вроде бабы с ведрами, сиречь не довольно дендийским. – Погляди!
– Куда? – удивилась Лена.
Задворки школы в самом деле ничего интересного к обозрению не предлагали. Все те же дровяные сараи, сейчас пустые, с распахнутыми дверьми, неубранная помойка.
Как раз на помойку Митя и указывал театрально простертой рукой.
– Ветхие учебники выбросили. – Лена пожала плечиками. – Лучше бы на растопку оставили, зимой всегда ее мало.
– Вот именно, что не оставили. – Митя, поставив портфели на землю, устремился к неэстетическому объекту своего любопытства.
Лена неохотно проследовала за ним, на пару шагов предпочитая отставать.
– Так я и думал! – Митя поправил очки, наклоняясь. – Библиотека постаралась. Помойка, знаешь ли, в наше время заменяет костер. Ибо времена низменны, а костер слишком красив.
Книг, самых разных, раскинувшихся как карточная колода, оказалось в самом деле изрядно. И это не были учебники, насколько просматривалось в этом нагромождении. Самые скучные – и вовсе не такие уж растрепавшиеся. Внеклассное чтение, современное.
– Надо хоть что-нибудь прихватить. О, вот это должно быть шедевр! – Митя торопливо сунул в карман книжицу формата восьмушки, в мягкой обложке с буквами вышедшего из моды стиля – теми, что угловато громоздятся друг на дружку – не враз прочтешь.
– Что ты там мог найти?
– Увидишь. А пойдем, посидим в Летнем саду. Заодно и почитаем. – Митю разбирало веселье, покуда Лене не понятное.
– Ты не забыл, что мы собирались идти заниматься алгеброй? Журов, экзамены на носу.
– Экзамены? «Когда апрель весенними дождями разрыхлил землю, взрытую…» Да сдадим мы эти экзамены, они же для тупых.
– Кому как, спрос разный, – Лена нахмурилась. – Тебя будут валить. Даже больше, чем меня, у тебя есть шанс на Университет.
– Ну всего на часок… А потом сразу к алгебре!
…Они уселись в еще одном из Лениных любимых уголков – напротив Ноченьки.
– Ну и что ты за гадость подобрал?
– Фантастическую гадость, шедевр. – Митя вытащил на свет тощую книгу, оказавшуюся вдобавок детской.
«Твои наркомы у тебя дома», – сообщила уродливая надпись заглавия почти во всю обложку. Осталось, впрочем, места для черно-белого пионера в отпечатанном красной краской галстуке. Пионер взирал на надпись, засунув палец в рот.
– Фи.
На первой странице был изображен несомненный Луначарский, одновременно похожий и на себя, и на карикатурного раввина из местечка. Луначарский свирепо протягивал пионеру, съежившемуся за партой, опять с пальцем во рту, глобус и букварь.
«Он заботится о том,
Чтоб ты не был дураком»? – сообщил текст.
– Так это еще и в стихах? – Лена наконец заинтересовалась.
– А позволительно ли иначе? – Митя перевернул страницу. – Справедливость восторжествовала. Мне такое дарили во втором классе, ты не помнишь, за успехи. А мама, едва взглянув, отправила это туда, откуда мы нынче извлекли. Круг замкнулся, и я желаю наслаждаться поэзией.
Следующая страница явила пионера облысевшим, с тремя волосинками надо лбом, болтающимся в гимнастических кольцах. Солидный блондин в белом халате в это самое время распылял из флакона какую-то ядовитую жидкость, убивающую комаров, – непосредственно над пионером.
Теперь Лена уже хохотала с Митей вместе. Следом за накомздравом появился наркозем – обутый в лапти и несущий сноп колосьев. Пионер поедал рядом с ним кусочек хлеба.
Наркомтруд выручал пионера, обстугивающего бревно под злостным руководством самого монструозного вида «буржуя».
– Митя, это же древние азиатские цивилизации! Ты погляди только! Этот ребеночек им всем – он едва до колена достает! Лилипут!
– Ты права, древние барельефы! Рост изображаемого соответствует общественной значимости. И заметь – ребенок-то еще и препротивный, вроде дурачка. Красавцы тут другие. Я это тебе скажу как рисовальщик: это намеренно так изображено. Эх! Постой, Лена… Погоди-погоди! – Митя посерьезнел. – Наркомтруд… Это некто Шляпников, его же расстреляли в прошлом году. Ты поняла, зачем они это принялись выбрасывать?
– Перепугались как всегда. – Теперь страницу перелистнула Лена.
От Египта до Сибири
вмиг со всех земных сторон
Все, что делается в мире,
Все тебе расскажет он.
– Наркомпочтель… Жуткое слово. И смотри, школьник опять ростом с табурет.
– Смирнов. И тоже в прошлом году.
– Тоже что? Расстрелян?
– Да. Газеты очень кричали еще. Ну как обычно: «Раздавить гадин», «Они не имеют права жить»…
– Лопатки у паровоза? Восхитительный образ. Митя, ты только посмотри!
– Что, понравилось? А ты не хотела, чтобы я это подобрал.
Говорит он без умолку
Из Москвы со всей землей,
Чтоб все страны втихомолку
Мирно жили бы с тобой.
– Но это же Троцкий? Так льстиво нарисован, что и непонятно. Поздновато они спохватились книжки рвать.
– Он вечно морщит лоб,
Чтоб
На суше ли? на море ли
Тебя не объегорили.
– Каменев. Тоже в прошлом году расстреляли.
– Ты это запоминаешь? Я не могу эти газеты читать.
– Это нужно знать. Ой, смотри, какой сладенький: шоколадку несет пионеру.
Для тебя он неустанно,
Объезжая белый свет,
Покупает в разных странах
То, чего в Союзе нет. —
Тоже куда-то исчез, кстати. Но в газетах не писали[11]11
Внешнаркомторг. А.Л. Шейнман. Невозвращенец.
[Закрыть].
До зубов вооружен.
Озабочен очень он.
Чтоб враги тебя на горе
Не побили впопыхах
Ни на суше, ни на море,
И ни в облаках!
– «Не побили впопыхах», это китаец писал или латыш? Нет. Некий Агнивцев. Кто у них наркомвоен, я не помню. А надо бы помнить.
Водит дружбу он с рублем
И с копейкой всякой,
Чтоб карман твой серебром
Звякал!
Лена даже задержалась взглядом на страничке, где солидный пожилой товарищ[12]12
Наркомфин. Г.Я. Сокольников. Проживет еще два года до расстрела.
[Закрыть], словно подавая милостыню, швырял горсть монеток в подставленные ладошки восхищенного карлика-пионера.
Он и тут, он и там,
У него работы куча,
Заправляет всем он сам,
Чтоб тебе жилось бы лучше.
– Это кто ж? А, это Рыков. Ну, жив-здоров[13]13
Предсовнарком. Проживет до расстрела еще год.
[Закрыть].
Если ты чем озабочен,
Не печалься этим очень,
А к Калинину иди.
И —
У него спроси совета —
Он и староста на это!
– Митя, довольно. Мне что-то уже не смешно сделалось. Выброси теперь эту гадость.
– Ни за что. – У Мити даже очки блеснули холодком. – Все это надо хранить. Эта батрахомиомахия – свидетельства истории. Если они хотят уничтожать их, то необходимо сберечь. Подумай только – все эти калифы на час, воистину на час, раздувались от собственного ложного величия, считали, что дети в школах должны учить о них стишки, и вот – половина их самими же ими стерта не из сегодняшнего, а из вчерашнего дня.
– Все-таки хочешь ты быть историком.
– Да. Все-таки хочу.
– Но ведь…
– Лена, я все понимаю. Но – ничего страшного. Просто найду отдаленную эпоху. Я, знаешь, хочу периодом Ивана Грозного заниматься. Хорошо бы у Веселовского. Пролетариата тогда не было, никому это не интересно. Думаю, можно будет преспокойно заниматься наукой[14]14
Митя ошибается.
[Закрыть]. Но любой период дает системное мышление. Поэтому и современность я потихоньку научусь понимать. И все эти бумажонки, какие удастся сохранить, сложу когда-нибудь в голове в картину эпохи. Пусть через много лет.
Летний сад вдруг совсем затих. Как-то очень уж серьезно говорил Митя, строя планы на свою жизнь. Он знал, что Лена не обидится на него из-за Университета.
И Лена в самом деле не испытывала обиды.
Митя убрал трофей во внутренний карман куртки.
…
– Видела? Нет, ты видела, что они делают?
Клара подбоченилась, опустив на землю очередной ворох литературы. Они с Люсей остались после уроков – помогать в библиотеке. Не слишком-то веселое занятие – таскать по лестницам пыльные стопки, но что поделать. Помимо аттестата ведь понадобится и отличная характеристика. Люська этого не понимает, ну у нее вообще ветер в голове.
– А что такого?
– Журов книжку подобрал. Ликвидированную. Эти книги специально уничтожают, а он, стало быть, хочет сохранить.
– Уничтожают потому, что они больше никому не нужны. – Предмет разговора явно не был Люсе интересен. Она надышалась уже пылью до сенной лихорадки и хотела только одного – добраться наконец до раковины и мыла.
– Уничтожают их не поэтому.
– Ой, да ладно. Пошли умоемся, чихаю, не могу. Это ж последняя пачка была. Мы идем к тебе уроки делать?
– Идем. – Кларин взгляд показался Люсе каким-то странным. – Сочинение писать будем.
Глава XXIX. Непонятная беда
– Возвращаяся с ловитвы,
Некий рыцарь ехал лесом.
Глядь: под кроною дубовой
На суку сидит принцесса
Золотым плащом спадают
Ее волосы на плечи.
Видит рыцаря принцесса
И ведет такие речи:
«Не пугайтесь, храбрый рыцарь!
Пусть странна моя обитель.
Помогите мне спуститься,
Кверху руки протяните!
Я инфанта, дочь Кастильских
Короля и Королевы.
Восемь лет сидеть на ветке
Мне велели…» – Приказали… Велели злые…
– Что ты там шепчешь, Ленок? – Николай Александрович поднял голову от листков с техническими переводами. – Это твое?
– Не совсем… – Лена, обосновавшаяся с работой в энгельгардтовской комнате, подняла голову от распускаемого ею вязанья. Лариса Михайловна, собравшаяся через неделю в Лугу проведать маленькую Галинку, обременила заданиями обеих – и Анну и Лену. Надлежало до ее отъезда превратить несколько отслуживших свое джамперов и шарфов в клубки пряжи. Хорошей шерсти сейчас не достать, а девочка растет. В Луге Дарья Никитична свяжет между делом и свитерок, и шапочку. – Только не сердись, дедушка, но я читала Дюма по-русски. Там была эта баллада. Но мне не понравился перевод. Я опять же знаю, что перевод с перевода не делают. Но я же так, для себя. Никак не могу подобрать рифмы. Инфанту заколдовали феи… На восемь лет. И она как раз может слезть…
– Никогда не читай в переводе того, что можешь прочесть в оригинале. Когда ты запомнишь это простое правило.
– Я же изредка… Королевы… Девы… Злые девы… Тогда непонятно, что это феи.
– Эх ты, инфанта… – Николай Александрович макнул в чернильницу химический карандаш. В чернильнице была простая вода. Эта странная привычка появилась уже довольно давно: одно время чернила продавались вовсе ужасные, но манера слюнявить эти карандаши ужасала. А так получалось удобнее, чем ручкой.
Сказано было, впрочем, не сердито. Неожиданное воспоминание из вовсе уж тяжелых времен согрело душу, затеплившись, как от лампадки, от слова «инфанта».
Это был двадцать второй, беспросветный год. Лена, двух лет с половиною, уже не ходила, но норовила бегать – с немыслимой для коротеньких ножек скоростью. Но в чем ей бегать по зеленеющим в ожидании аллеям Летнего сада? Где взять детской обуви, на какие деньги ее шить?
Анна, перебрав вещи в надежде найти что-нибудь для продажи или обмена, наткнулась в плакаре на старую свою шагреневую сумочку. В голову ей пришла другая мысль: из такой тонкой кожи можно сшить крошечную обувку самой. Но при кройке возникли трудности: не столь и просто сделать туфельку одну левой, а другую правой. Какие-то свои секреты у этих сапожников.
«Делай обе одинаковые, – осенило Энгельгардта. – Как в раннем Средневековье. Просто пометь, на какую ногу какая. Кожа тонкая, они сами стопчутся по ножке».
Так и бегала Лена от Ночи к Мореплаванию средневековым ребенком. Башмачки впрямь через неделю отличались друг от дружки, приняв форму.
Инфанта, про которую сейчас сочиняла Лена, тоже, вне сомнения, болтала, сидя в ветвях, совершенно одинаковыми башмачками. Ибо на дереве их не стопчешь. Инфанта…
Э, да это же не совпадение, что как раз сейчас ей захотелось рифмовать на испанские темы. Ну да, конечно же, как он сразу не догадался.
Звонок в дверь перебил его размышления. Звонили к ним, по числу звонков судя.
– Дедушка, ты, пожалуйста, открой! – взмолилась Лена. – Ты видишь, я вся как муха в паутине!
Энгельгардт, поднимаясь, не без удовольствия подумал, что у внучки хорошо сидит в головке, в каких случаях слово «пожалуйста» используется в каком порядке слов. Троглодиты все одно не заметят нашего тайного языка, но его Лена не скажет «открой, пожалуйста» человеку, который старше годами. Что-то он все-таки успел ей дать.
Когда дед вышел, Лена мельком взглянула в бабушкино трюмо. В этой блузке у нее слишком невзрослый вид, бантик, что ли, отпороть? Она ведь уже не школьница.
– Веду к тебе гостя.
– Здравствуй.
– Вся в трудах?
– Бабушка уехала в Царское, а потом собирается в Лугу. Между ее поездками все это надо распустить и скатать. Сижу как крепостная девица.
– Страдалица. – Энгельгардт улыбнулся. – Как твоя баллада?
– Сложилась. – Лена нахмурилась. – Но в ней два изъяна. Один я схитрила сгладить. Со вторым никак. Хотелось бы мне знать, бывало ли такое у папы. И как он поступал – откладывал до поры? Журов, хочешь угадать?
– Читай.
– Возвращаяся с ловитвы,
Некий рыцарь ехал лесом.
Глядь: под кроною дубовой
На суку сидит принцесса.
Золотым плащом спадают
Ее волосы на плечи.
Видит рыцаря принцесса
И ведет такие речи:
«Не пугайтесь, храбрый рыцарь!
Пусть странна моя обитель.
Помогите мне спуститься,
Кверху руки протяните!
Я инфанта, дочь Кастильских
Короля и Королевы.
Восемь лет сидеть на ветке
Мне велели злые девы.
Но распались навьи чары,
Можно в замок возвращаться!
Можем, рыцарь, мы с тобою,
Хоть сегодня обвенчаться».
– Экая быстрая особа. Но изъянов я не заметил. Все гладко.
– Будешь быстрой, просидев на веточке восемь лет! – Лена уронила зеленый клубок и нагнулась за ним. – Ну как же ты не видишь, к чему придраться? Дедушка, а ты?
– Ты мне сама раскрыла один изъян.
– Ну а второй?
– Нет, не вижу. Вернее сказать – не слышу.
– Экие из вас критики неприметливые! – Лена надулась. – Мне не удалось втиснуть в одну строчку, что приказ исходил от фей и был, по правде сказать, не приказом, а злым волшебством. Но сразу в следующую я волшебство поместила. Если сразу, то строчка к строчке как бы липнет. А второй – в конце. Она сначала обращается на «вы», а затем «на ты».
– Ну, коль скоро она еще в следующей строчке уже хочет замуж, то подобная перемена естественна. – Расхохотавшийся Митя ловко увернулся от полетевшего в него клубка красной шерсти.
– Я не заметил, ибо она не режет слуха. Напротив. То, что я называю «алмазными неправильностями». Вы же помните, друзья мои, об особенности структуры алмаза?
– Какое хорошее выражение, Николай Александрович! Я запомню, пригодится. Лена, а ты что-то неспроста довольна. Что-то от Петьки Оборина?
– Может быть, – Лена уложила еще один клубок, желтый, в корзинку.
– Ну, я же тоже тревожусь, – упрекнул Митя серьезно.
– Да, письмо. – Лена вытащила из кармана юбочки из клетчатой шотландки конверт в пятнах расплывшихся лиловых печатей. – Прочти, если хочешь, тут нет ничего… секретного. Стихи это ведь стихи, и они слишком хорошие, чтобы предназначаться мне одной. Дедушка тоже читал.
Митя с живостью взял из ее рук конверт, между тем как Лена принялась прибирать следы рукоделия – обрывки нитей, не пошедшие в дело лохмотья.
«Откровеннее, чем разговор, быстрых строчек чернильная речь. Что б сказать Вам, инфанта Линор, чтобы Вас хоть немного развлечь? О болезни говорить не хочется, но чем еще я оправдаюсь в долгом молчании?
Каюсь: был болен, и премерзко, с лихорадкой. Жар был таким, что ртуть, кажется, намеревалась прошибить кончик градусника. Градусник дали соседи, у меня, конечно, не было своего. Русские, конечно, местные добрые люди в глаза этой стеклянной палочки не видывали, и слова странного на своем наречии не имеют. Пренеприятно, доложу я, сударыня, болеть в саманной хижине, по странному недоразумению именуемой «домом». Я уже имел малодушие жаловаться на самый мучительный недостаток – недостаток чистой воды. Когда лежишь, а лежал лежмя я недели три, это особенно неприятно.
Но особо напрашиваться на сострадание не из чего. В действительности мне несказанно посчастливилось. Как раз к кому-то из ссыльных приехала одна пожилая дама. Выяснилось, что с ними разминулась, хотела уж ворочаться назад, но случайно узнала о моих печальных обстоятельствах. Когда я, как мне казалось, уплывал уже туда, где побольше воды, надо мной вдруг склонилось доброе лицо – и лба коснулась такая прохладная рука, что я подумал о бабушке. Эту даму зовут Надежда Павловна Коханова, и я прошу помянуть ее в молитвах. Она не позволила забрать меня в местную больницу, что меня, полагаю, и спасло. Все эти довольно неприятные дни Надежда Павловна заботилась обо мне не меньше, чем могла бы заботиться бабушка. Мне только неловко думать о все о той же воде, которую ей пришлось носить. Это в самом деле столь неправильно. У нее такие белые руки – мягкие, как лепестки цветов, в старинных кольцах с кабошонами. Но Надежда Павловна возражений не слушала – хотела удостовериться, что вода в самом деле чистая. Ты помнишь, о чем я писал ранее. Она очень властная дама, Надежда Павловна. И очень интересная собеседница, того склада, который мы больше всего любим, ты поняла, я чаю, что я подразумевал сейчас. О былых временах она рассказывает так, будто прожила на свете лет пятьсот. Кстати, о кабошонах: она так пошутила – не люблю огранку, при которой применяют козлиную кровь, что хорошего, если нынче самый невзрачный прозрачный камушек сделался самым красивым и ценным? В моей-де молодости ценили сапфир за небесную синеву, изумруд за лиственную зелень, а рубин за блеск живой крови.
Как видно из строк выше, с такой собеседницей я никак не скучал.
Но в первую возмутительную неделю было не до разговоров. Даже не знаю, что это была за хворь, но вроде бы не тиф. И это хорошо, а то бы, не приведи Бог, мог и Надежду Павловну ведь заразить. Я же не очень соображал в жару. Она утверждала, что ее заразить невозможно, но это, конечно, по доброте. Не знаю, право, каковы стихи, с которых я начал.
Дремлет парка, прядущая нить,
Над саманами вечер погас.
Что сказать, написать, уронить
В эту тьму, разделившую нас?
Да и быть остроумным едва ль
Мне удастся: охота домой.
Жизнь бы отдал за старый рояль,
Без него я как будто немой.
Что сказать? Как заклясть эту ночь?
Ждать ли утра, не смеживши век?
В ступе Вечности как истолочь
Переполненный подлостью век?
Но неправда, что путь предрешен,
Что угробит степная тоска.
Светит взгляд – голубой кабошон,
Округляющий бездну зрачка.
Светит золото мягких волос,
Расстояниям наперекор.
Я же счастлив, ведь мне довелось
Целовать Ваши руки, Линор.
На кабошонах, уместных более для Меровингов, чем для современных нас, я, похоже, вправду немного повредился умом, дорогая. Надежда Павловна уже отбыла, едва я пошел на поправку: спешила. Так что я снова в одиночестве, и, как оно обыкновенно и бывает, после роскошных разговоров особенно остро ощущаю отсутствие собеседников. Продолжаю понемножку изучать местное наречие, это немного развеивает и дает работу голове. В грядущем письме не премину привести еще каких-нибудь занятных слов, что мною выучены. А на сем прошу мне не подражать ни в чем – не болеть и не исчезать надолго. Поклоны и всегдашнюю мою преданность – Анне Николаевне, Николаю Александровичу, Ларисе Михайловне. Твой П.О.».
– Еще немного, и состоится поэт, – уронил Энгельгардт. – Как же славно, что поэзия продолжает жить.
– Но дедушка, поэзия живет, если выходят книги и читают люди, – с горечью возразила Лена. – Иначе стихи – как человек, срывающий голос в пустыне.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































