Текст книги "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева"
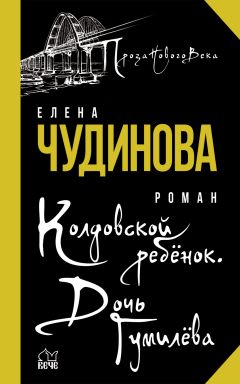
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
Улочки, то карабкающиеся в гору, то бегущие вниз, донельзя забавляли. Ну да, семь холмов. «Опоясан в пояс пашен, весь пестреешь ты в садах, сколько храмов…» Митю передернуло, а звеневшая в голове цитата оборвалась как суровая нитка. В утреннем броженье по городу Митя забрел на Волхонку. Зрелище чудовищного по размеру котлована на месте храма Христа Спасителя показалось каким-то дантовским спуском в преисподнюю. На дне шло муравьиное копошение рабочих, с высоты не отличных друг от дружки. Муравьи укрепляли какие-то большие серые плиты, похожие на могилы самых мерзких персонажей из мифологии.
Мите припомнился разговор у Энгельгардтов-Гумилевых над листком обычно не слишком званной в этот дом газеты «Известия». Безобразное здание, увенчанное исполинским идолом, тоже многоэтажным, занимавшее целый газетный разворот, испугало Анну Николаевну до мигрени.
«Экая мерзость, – шептала она, полулежа на кушетке, нюхая вместо давно не продававшейся в аптеках соли флакончик нашатырного спирта. – И ведь построят… Эти могут всё. А Москва была такая… уютная. Домашняя. Как же жалко, папа… Как же людям среди этого идолопоклонства жить?»
«Не построят, – улыбнулся Задонский. – Не тревожьтесь, Анна Николаевна. Я вам обещаю».
«Вы – волшебник?» – слабо улыбнулась она.
«Всего лишь биолог, – Задонский рассмеялся. – Но изучавший и смежные дисциплины. Не всегда на пятерки, каюсь, но в достаточной мере, чтобы утешить вас подобным обещанием».
«Ну-ка, ну-ка, – молодо оживился Энгельгардт. – Заодно уж утешьте и меня, старика».
«Московская земля – карсты. Сплошные карсты».
«Что-что?» – Анна Николаевна отставила пузырек, приподнимаясь навстречу словам ободрения, в которых, очевидно, нуждалась.
«Кружево. Породы с пустотами. Такую нагрузку, как храм, почва еще выдерживала, да и то велись изрядные укрепительные работы. А эдакой Вавилонской башни не выдержит нипочем. Представьте, что вы кладете кубики – один за другим – на пустую коробку из тонкого картона. Она просядет, да и всё. А конструкция из этих кубиков, разумеется, рухнет. Так и случится с этим монстром».
«Но… Там же инженеры… Они не могут не знать».
«Правят не инженеры, – подытожил уже Энгельгардт. – Правят зарвавшиеся безумцы».
Но будет тут капище или нет, а храм русской славы – разрушен. Некоторые горельефы, говорят, свалены в Донском монастыре у дальней стены. Сергий, Пересвет, Ослябя, Димитрий Донской – лежат в штабелях, как трупы в Чрезвычайке. А бетонная труба рядом с ними кадит адским дымом сожженных тел: храм Серафима и Анны Кашинской сделался крематорием.
Донской монастырь, где отец Лены написал стихотворение «Камень». Хотя иногда так трудно поверить, что этот мир, который ты успел застать, но не еще мог запомнить, в самом деле существовал. Трудно поверить в еще не расстрелянного Гумилева.
Пальцы сжались в кулаки. Оборин, что ж ты не пишешь так долго? Мы не сдадимся. Поехать, что ли, тебя навестить в немихайловской твоей ссылке, в дикой этой Средней Азии? Не всё так плохо там, где грязные дикари продают сновиденные фрукты, каких не увидишь ни в северном нашем краю, ни здесь, в Москве. Там много таких, как мы. Там можно начинать незаметно.
Митя остановился, оглядываясь. Ноги, оказывается, успели унести его, еле поспевая за гневными мыслями, довольно далеко от ямы котлована.
Какая же это улица? Плохо он знает Москву.
Дома из бывших доходных, в пять-шесть этажей, московский модерн, уютная улица. Афишные тумбы пестрят призывами глядеть звуковые фильмы. Может статься – до поезда, если время позволит, сходить в кино? Только на что? «Детей капитана Гранта» они с Леной уже посмотрели, «Бесприданницу» тоже, и даже глупый «Цирк». А всякие там «Партийные билеты» и «Леночки с виноградом», где советские ловят шпионов и воров, merci, нет расположения ума.
Симпатичная старушка, указывая направление ручкой, облаченной в штопаную-перештопаную перчаточку, объяснила Мите дорогу к Сивцеву Вражку.
Там, на задах, и располагалась нужная мастерская – одноэтажное, похожее на сарай здание красного кирпича. Еле обнаруженная над ведущей вниз лестницей табличка сообщила, что перед Митей искомое и весьма загадочное «ММХМ».
Толкнув тяжелую дверь, Митя с приятным изумлением перенесся в иное пространство, даже почти – иной мир. Мир весьма шумный, многоголосый и разноцветный.
Погружение в этот мир кружило голову. Он не казался ненастоящим, невзирая на всю свою карнавальную сказочную яркость. Напротив, ненастоящее осталось для Мити за дверью, на пыльной, пропахшей бензином улице. Стеклярус, тесьма, немыслимо яркие лоскуты блестящих тканей, вяленый запах казеинового клея, горклый дух дешевого растительного масла, в банках с которым дикобразили многочисленные кисти… Запах раскаленного утюга… Глина, напоминающая о речке в полдень. Звуки тоже переплетались и танцевали: щелканье ножниц, треск тканей, движенье вгрызающихся в дерево лобзиков и стук резцов, шлепанье лепящих ладоней, смех.
Смеха было больше всего, еще бы: ведь в этом низком помещении с длинными рабочими топчанами работали преимущественно молодые люди – если и старше Мити, то ненамного. Какая-то девушка с четырьмя русыми косичками, раздувая сарафанчик, вальсировала с куклой Петрушкой, вероятно, только что завершенной. Несколько человек невпопад пели ей «музыку», причем на одном юноше красовалась маска Бабы-яги, из-за чего выводимые им «тра-ля-ля» звучали как из погреба.
Здесь живут виденья, «которые Гофман золотой пылью рассыпал на своих влажных от пунша страницах», – справедливо умозаключил Митя. Но он здесь все же по делу.
– Простите, сударыня, мне хотелось бы найти Трофима Васильевича Воронова, – обратился он к месившей глину девушке.
– Фимы сегодня нет. – Девушка подняла голову, но ее руки, покрытые глиной, словно перчатками, продолжали работать. – Можете спросить у меня, что вам нужно. Мы вместе мастерим.
Она показалась Мите довольно красивой: смуглая, узколицая и узкая в кости, с пышными темными волосами. Ей была к лицу вишневая блузка с рукавами-фонариками. Глаза оказались большими и светло-карими. Только выражение их не понравилось: испуганное, как у больного щенка, но вместе с тем какое-то слишком взрослое.
– Я Журов, Дмитрий Журов, – представился Митя. – К вам по поручению, из Большого театра кукол… в… Ленинграде. Я приехал в Москву за куклами к Гофману. Надеюсь, работа над ними уже завершена?
– Да. Куклы готовы. – Руки девушки остановились. – А я Аля … Аля Шехтер.
– Алевтина? – уточнил Митя.
– Алёна. Но мне больше нравится – Аля.
Девушка словно вдруг заметила свои блестящие серые руки. Взяла с доски пук ветоши, принялась старательно оттирать пальцы.
– А куклы готовы. Сейчас достану.
Митя, невольно улыбаясь и девушке, и всему, что ему так приглянулось вокруг, терпеливо наблюдал, как пальцы по одному высвобождаются из серых перчаток, как Аля, свинтив золоченую крышку с банки кольд-крема, старательно втирает его одной рукой в другую.
– Глина кожу сушит, ужас. – Голос вдруг сделался детски доверчивым. – Вот он, ваш Гофман. Семь персонажей.
Куклы, которых девушка извлекла по очереди из большой, с двумя крышками, корзины, оказались вовсе не такими, как ожидал Митя, делая эскизы с Анной Николаевной. Но, как ни странно, это его не озадачило.
– Я немного отступила от замысла. – Девушка поправила растрепавшиеся кудри, скрывая замешательство. – Честно сказать, это первая моя самостоятельная работа. Если не годится, Фима поправит.
– Нет, что вы… Вовсе не нужно ничего поправлять, – поторопился объяснить свое затянувшееся молчание Митя. – Тут даже лучше поймано то, что я сам хотел передать. Чуть усилена эта сумеречность… И цветовую гамму было удачной мыслью ограничить тремя цветами. Всего тремя. Это очень смело. Ты молодец!
Переход на «ты» случился сам собой. С девушкой из «своих» так легко бы не вышло, это Митя понимал. Но не пролетарка она, это тоже ощущалось. Что же тогда?
– Так этот эскиз был твой?
– Честно говоря, это была моя первая самостоятельная работа, – рассмеявшись, воротил мяч Митя.
Рассмеялась и девушка. И мигом сделалась лучше. Растаяло это неприятно испуганное выражение в глазах.
– Нет, я не служу в кукольном театре, – рассмеялся Митя. – Я учусь. Просто помогал одной знакомой даме. Но она в самом деле в первый раз доверила мне исходить из своих замыслов. По случаю сего совпадения – не выпить ли нам где-нибудь кофе?
– Лучше какао. Тут есть кафе недалеко, – откровенно обрадовалась девушка.
…В кафе, не очень уютном, с крашеными тускло-синей масляной краской стенами (когда и исчез-то последний добрый частный уголок?), впрочем, возник курьёз. Аля, вытащив портмонешку, всерьез рвалась платить за себя сама.
– Либо ты немедленно уберешь этот свой кошелечек, либо мы вовсе не станем ничего пить, – недобро прищурился Митя. – Я не имею привычки позволять приглашенным мною дамам за себя платить. Уж извини.
– Но ведь теперь женщины сами зарабатывают. Так же, как и мужчины. – Девушка, впрочем, послушно опустила портмоне в сумочку. – И даже столько же. А раньше женщинам платили меньше, чем мужчинам.
– Раньше женщины не занимались мужской работой, – возразил Митя. – А теперь эвон, трамвайные шпалы и то укладывают. Аля, извини. Я был непозволительно резок. Но очень прошу, запомни это мое правило на будущее.
– А ты разве приедешь еще? – Девушке, очевидно, хотелось задать иной вопрос.
– Вполне вероятно, не Дальний Восток, я чаю, – усмехнулся Митя.
Разговор прервался: подошла полная девица в наколке, кривовато водруженной на голове, и с кислым видом расставила на столике дымящиеся чашки, тарелочки и фаянсовую корзиночку с «корзиночками» же.
Еще, тоже, мода у них: в Петрограде хоть не надо платить за еще не съеденное. «Столичные» манеры, подумал Митя саркастически.
– Что это за буквы такие – ММХМ? – спросил он, сделав первый глоток. Какао оказалось на удивление неплохим. – Латинские цифры напоминает.
– Московская молодежная художественная мастерская, – пояснила девушка. – Знаешь, как хорошо, когда старших нету. И весело у нас, и никто над душой не висит: делай так, не делай эдак. Вот я захотела кукол сделать в три цвета, так и раскрасила. Ну, не понравились бы вам такие – переделала бы. Мои лишние рабочие часы, мое дело. Разве не здорово?
– Тебе нравится там? – ответ был ясен, но все же оказался не таков, как ожидал Митя.
– Нет! – воскликнула девушка пылко. – Сказать, что мне нравится, будто ничего не сказать. Куклы… Ради этого и только ради этого и жить-то стоит. Во всяком случае – я только ради этого и живу: чтобы делать кукол.
– Преувеличиваешь… – процедил Митя, впрочем, без критики. Девушка нравилась ему всё больше. Неожиданное это впечатление невозможно было ни сравнить, ни сопоставить с тем, чем была в его жизни Лена, но девушка все же нравилась. Особенно теперь, когда взгляд перестал быть неприятен, наполнился искренним сиянием творческого восторга. – Пирожные-то ешь.
– Ты не понимаешь. – Аля взяла было корзиночку, но тут же забыла о ней. – Ты сказки в детстве любил?
– Все маленькие сказки любят.
– Не все. – Алино лицо странно онемело. – Я в первый раз сказку услышала в семь лет. Про волка и семерых козлят. Случайно мне рассказали, без разрешения. Я испугалась. Я подумала, что волки и козлята в самом деле умеют говорить, и другие животные тоже. Собаки, кошки… А почему же я никогда не слышала? Меня отругали, сказали, что я глупа и это все неправда. Но я знала – это не ложь, это что-то другое. А потом я уже читать научилась. Иногда, тайком, удавалось сказку прочесть. Про Золушку. Про Маркиза Карабаса. Читала и боялась – заметят, отберут. А потом, когда я уже старше стала, сказки запрещать перестали. Даже вон кино теперь снимают. Но мне-то, мне – запрещали! Когда я сказочных кукол делаю, я для себя их делаю. Для себя маленькой. Это трудно понять.
– Не знаю, но мне кажется, я понимаю.
Чего уж тут не понимать. Училась в каком-нибудь интернате, возможно, даже у этого кошмарного Макаренка. Бедняжка.
Митя не знал, как смягчилось выражение собственных его глаз, которые мама называла обыкновенно «две колючки». Но девушка, ощутив это, смутилась. Чтобы скрыть смущение, откинула одну из крышек корзины, стоявшей около столика, прошлась ласковыми пальцами по лицу верхней куклы.
Еще одна неприятная примета новых дней. Раньше разве пустили бы в зал с огромной корзиной? Но раньше, еще недавно, можно было доверять солидным швейцарам не меньше, чем швейцарскому банку. Теперь же Митя предпочел не оставлять столь дорогой поклажи в гардеробе.
– Ты вот сейчас сказала – делаю для себя маленькой, – заговорил Митя после паузы, возникшей по вине пирожного. – Я такое уже слышал один раз – от одного очень умного человека, писателя. Надо делать подарки своему детству, так он сказал. Не смущаться того, чего в детстве очень хотелось. Ну, хоть бы: мыльные пузыри пускать из соломинки. Тот, давний ребенок, радуется. А коль скоро детство отражается на всей нашей жизни, то и мы сегодняшние делаемся счастливее. Такой вот фокус.
– Может статься, такой фокус и работает, – Аля внимательно разглядывала донышко простой фаянсовой чашки, словно обнаружила там по меньшей мере барочный узор. – Но это не мой случай. Сколько б я себя ни баловала «в детстве», сейчас я счастливее не стану.
– Не твой случай? Вот как… А что твой?
– Я нашла для него подходящее слово в словаре. – Аля неожиданно и смело подняла глаза. В них снова плескались боль и то ли испуг, то ли… Чувство вины? Странно. – Это называется – эскапизм.
– От чего б ты ни бежала, но навсегда убежать невозможно. Рано или поздно, но придется разбираться со своей жизнью.
– Чем позднее, тем лучше. Мне бы хоть сколько-нибудь. – Девушка поднялась. – Мне пора. Спасибо за приглашение. Ну и вообще. Я рада, что тебе понравилась моя работа. Рисуй еще, а я сделаю.
– В одном цвете? – улыбнулся Митя.
– В радуге, каждый цвет которой распадается еще на пять оттенков, – девушка негромко рассмеялась.
– Я провожу тебя? У меня еще три часа до поезда.
– Не надо. Я быстро побегу, опоздала уже.
В какое-нибудь общежитие с цербером женского рода, злобно выцепляющим глазками-бусинками все подробности жизни подопечных, особенно хорошеньких, подумал Митя. И с ябедливыми соседками. Где ж еще может жить девочка, выросшая в макаренковской коммуне? То-то и вид такой несчастливый. Да, бедняжка. А все-таки не совсем. Ведь нашла отнятые сказки. Сумела их себе воротить.
…Гулять по Москве с корзиной, не столько тяжелой, сколько неимоверно неудобной, оказалось в буквальном смысле несподручно. Митя направился на Николаевский вокзал, где расположился на скамейке в тени дожидаться поезда, уткнувшись во взятый в дорогу старый сборник шахматных задач.
Хорошая же вещь – эти пассажирские поезда! Сидишь себе, глядишь в окошко. Раздражает только постоянная беготня соседей с чайниками на перрон на каждой мало-мальски крупной станции. Можно подумать, последний раз в жизни чай пьют. Митя, конечно, не снизошел брать свой чайник в дорогу, равно как и запасаться снедью да жевать, разложившись на тесном столике. В пути довольно и купленной в станционном буфете бутылки нарзана.
К утру он будет дома. А днем, днем увидит Лену: когда придет к Анне Николаевне с выполненным поручением.
Глава XXIV. Ученое братство– Мое почтение, драгоценнейший Николай Александрович!
Начало июня выдалось на удивление погожим для Петербурга, но сияющий вид поравнявшегося недалеко от парадного с Энгельгардтом молодого ученого едва ли можно было объяснить единственно погодой. Особенно учитывая то, каким мрачным Задонский ходил всю осень, когда усилиями лысенковцев был сорван международный конгресс в Москве. В Эдинбург, резонно говорил сам же Юрий, отечественных генетиков не выпустят. Кроме, понятное дело, тех, кого туда вовсе и не зовут.
Но сейчас, в шляпе чуть набекрень, с руками в карманах, с губами, вот-вот готовыми начать насвистывать, Задонский глядел совершенно именинником.
– Мне начать вас заинтригованно расспрашивать или сразу приступите к повествованию? Вы же сейчас лопнете, Юрий Сергеевич.
– Начну сам. – Задонский рассмеялся. – Не угодно прогуляться немного? Погода-то стоит – загляденье. Или вы домой торопились?
– Нет, я шел домой, но не торопился. С удовольствием пройдусь. Давайте до Кирочной.
– Да куда благоугодно! Я бы и до Литейного дошел – скроить пару гримас Серому дому. – Задонский все же просвистал немножко из какой-то оперетки. – Николай Александрович, начали поступать материалы с Эдинбургского Генетического Конгресса. У нашего мира все же свои источники, всех не перекрыть.
– Но… – Энгельгардт неподдельно удивился. – Ведь наших ученых не выпустили, даже Вавилова, который должен был председательствовать. Вы сами негодовали. Что ж хорошего там могло произойти? А ведь произошло, вы как пьяны, я гляжу.
– Лучшее из того, что бывает на свете. Стояние за истину. И единение научного мира. Вы вообразить себе не можете, кто сел в кресло председателя, Николай Александрович!
– Не могу, разумеется. – Задонским сейчас невозможно было не залюбоваться, и Энгельгардт залюбовался. – Я же не знаю имен ваших иностранных коллег.
– Кресло председателя стояло пустым! – почти крикнул молодой биолог. – Было заявлено, что никто, никто не посмеет сесть на место, отведенное Вавилову! Это ли не честь научного сообщества? Не выпустили русского гения – так нате вам, выкусите. Нет ему равных. Заседание предложили вести профессору Крю. Он согласился, но сказал, ах, как же он великолепно и остроумно это сказал! Сегодняшняя мантия, боюсь, будет выглядеть на мне неуклюже. Но не забывайте – она пошита на куда более крупную фигуру…
– Благородно. – Энгельгардт тем не менее нахмурился. – Но не отольется ли это вашему Николай Ивановичу?
– Я уверен, что напротив. Тронуть гения – нет, не посмеют. Когда гений признан повсеместно и так впечатляюще… Не посмеет даже этот… Знамо дело, он ненавидит Николай Ивановича как мало кого ещё… Даже больше, чем своих партийных соперников. Хотя, – Задонский посерьезнел, – я не могу понять, почему так.
– Это как раз понятно, – Энгельгардт печально улыбнулся. – Это зависть, мой друг. Обычная, лютая, подлая человеческая зависть.
– Но?.. – молодой человек удивленно приподнял бровь. – Николай Александрович, что завидного может находить тиран в трудах ученого? Он и понять-то в них ничего не способен.
– Это неважно. – Энгельгардт некоторое время шел молча. – Вы верно подметили, что ненавидит он вашего патрона больше, чем своих партийных врагов. Иначе и быть не может. Они ведь в чем-то в равном положении, все эти господа руководящие товарищи. Отчего он истребляет своих заединщиков? От страха, животного страха. Он не доверяет ни одному из них. Он страшится заговора, тени. Он следит за каждым одновременно глазами охотника и добычи. И в это же самое время он получает десятки донесений о том, как вы с другими молодыми коллегами клянетесь идти за вашим Вавиловым до конца, как он сам сказал, «на костер»?
– Но… – Задонский вспыхнул.
– Вне сомнения, горцу всё это превосходно известно. Но не вините себя в неосторожности, такого огня не спрятать. Я раз лишь его видел и, ничего ровным счетом не смысля в биологии, понял, что вижу титана. Совершенно понятно, что вы все готовы за него умереть. У Вавилова есть верные. Неважно, задумывается ли он над этим, скорее и не слишком. Но вообразите себе только, как это обидно. Вас превозносит толпа, вы властны над жизнью и смертью миллионов. Но вы не можете по-настоящему приблизить к себе никого, ибо видите в каждом своего возможного карателя. А тут какой-то книжный умник, занимающийся растениями, окружен настоящей верностью. Верностью, какую не купить, к какой не принудить… Ох, как это должно быть обидно! Ну и, конечно, не добавляет любви то, о чем вы мне не раз сами говорили. У Вавилова слишком большое имя. Существо, развращенное примитивной властью, легко расправляется со всеми, кто его выше. А тут вдруг нельзя. Ведь уже не один год горец ходит вокруг кругами, я так понимаю?
– С 1932 года, – мрачно ответил Задонский. – Но представьте, первый подлый навет на Николай Ивановича написал вовсе даже и не биолог. Археолог, некто Григорьев[6]6
Г.В. Григорьев. «К вопросу о центрах происхождения культурных растений». Ленинград, 1932.
[Закрыть]. Археолог! Теория-де Вавилова «методологически порочна с позиций общественных наук»! Мыслимое ли дело, чтобы историки лезли в биологию! Вот с этих, пожалуй, пор… Ладно, леший с подлецом, уволокся копать свои каучийские горшки-черепки, и пусть его.
– Как вы сказали, Юрий Сергеевич? – Энгельгардт поморщился, словно от мигрени.
– Пустое. Вспомнил про этого археолога с его Марром…
– Да, неважно. – Энгельгардту сделалось неприятно: память, блестящая память, которую он оттачивал всю жизнь, все же начинала изредка подводить. Где-то слышал он про эти каучийские керамики… Совсем и недавно. Или не о керамиках шла речь?
– Фу, эко куда нас ноги вынесли. – Задонский фыркнул. – Впрочем, я и хотел сегодня заглянуть в эти бесстыжие окна.
Друзья шли уже по Литейному мимо безобразной, вызывающей в памяти какие-то смутные ассоциации с древним Междуречьем, громады Большого дома, иногда называемого еще Серым.
– Внучка ребенком повидала, как сносят Артиллерийскую церковь, – уронил Энгельгардт. – И вот что теперь стоит на святом фундаменте.
– Стоит, – Задонский, слишком оживленный новостями, в самом деле, верно, не мог долго оставаться невесел. – Ну и пусть его стоит, Николай Александрович, не вечен и он. Не вечен и не всемогущ. Никакой временщик не посмеет покуситься на Вавилова после единства, которое проявил научный мир. Бог даст, это только первая из наших побед.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































