Текст книги "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева"
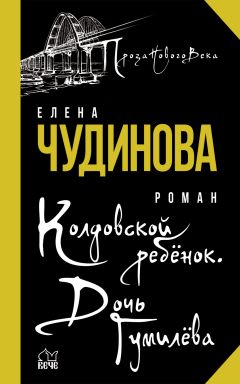
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
Лена ощущала себя больной, так хотелось на улицу. Не тянуло даже к книгам. Сидя на подоконнике среднего, самого большого из трех угловых окон их с мамой комнаты окна, она смотрела вниз, прижимаясь лбом к стеклу так сильно, словно стекло было льдом и могло растаять, впустив внутрь холодного свежего воздуха. Как же хотелось надеть шубку и пробежаться по снегу, которого, как назло, за два дня нападало так, что сугробы поднялись выше спинок скамеек. У соседей работало радио, причем – у всех соседей.
Безобразной этой черной дерматиновой коробки, отделанной под шагреневую кожу, с тремя матерчатыми окошечками, коробки, извергающей искаженные громогласные звуки, не было только у Гумилевых-Энгельгардтов. Сейчас радиоприемники кричали хором, то и дело заводя третью часть сонаты Шопена номер два – си бемоль минор.
Лена представить себе не могла, что Шопен может оказаться так безобразен. Си бемоль минор вместо «вечной памяти», которой, конечно, нельзя возглашать над безбожниками, вперемешку с истерическими речами (по счастью, хоть их стены превращали в неразборчивый назойливый гул, сплющивая слова).
Музыка по радио или на граммофонной пластинке, даже самая хорошая, это как мертвый человек, которого заставили ходить и говорить, подумалось ей. От этой же жуткой музыки хотелось убежать, хоть на улицу, хотя она звучала и там, но на набережные хотя бы, она ведь так хорошо знала места, где столбов с тарелками не только не видно, но и не слышно!
Бесполезно. Дедушка, мама, бабушка – все явили каменное согласие, сомкнулись, как стены: нельзя. Молодым девушкам сейчас безопаснее находиться дома. Молодым женщинам, впрочем, тоже: тут двое старших уже оборотились на маму. И тебе, Анет, покуда эта вакханалия не завершилась, лучше, как Лене, сказаться больной.
Но ведь так и вправду заболеешь! Мама, впрочем, нашла себе занятие помимо скучных хозяйственных хлопот: с утра спустилась на второй этаж, к Фотинии Львовне, пожилой вдове священника, добывающей пропитание шитьем на дому. Платье перелицовывают, лиловое шерстяное. Из моды вовсе вышло.
Мама ведет себя так, будто нету ни этой самой вакханалии, ни особенных грузовых автомобилей, подъезжающих к домам. Сегодня их и вправду нету, ни один не проехал по Эртелеву, будто мама вправду отогнала длинномордых надменно-женственной возней с нарядами.
Поэтому звонок в дверь (два звонка – к Гумилевым-Энгельгардтам) Лену не встревожил. Внизу, перед домом, ничего не стояло.
Соскользнув с подоконника, Лена побежала открывать. Может быть, Петя? Или Митя? А то так и по телефону ведь не поболтать толком, стоит сказать пару слов – непременно случается, что телефон срочно-пресрочно нужен кому-нибудь из соседей, недовольно выглядывающих в двери. Да и подслушивают к тому же.
– Елена Николаевна…
Вид маленькой фигурки вызвал бы улыбку, не окажись столь неожиданен. Мирра, дочка соседей Обориных по квартире. Отец ее настройщик роялей, но девочка подошла к роялю с другой стороны: все время барабанит упражнения. Лет двенадцати, а манеру обращаться к Лене столь церемонно переняла от Пети – в третьем лице он иначе о ней не говорит. Белая пуховая шапочка Мирочки была с очень длинными ушами, которые сейчас болтались туда-сюда наперегонки с темными косичками. По лестнице девочка вне сомнения бежала бегом.
– Мирра? Заходи.
– Елена Николаевна… Нет времени. – Девочка тяжело дышала. – Вам записка… Петя велел передать…
– Записка? – Тело вдруг сделалось словно невесомым. Сделаешь шаг – и взлетишь куда-нибудь под высокий свод парадного. Лена ухватилась за дверной косяк. – А почему он не позвонил по телефону?
– Он не мог, – серьезно ответила девочка, подтверждая ее худшие опасения. – Он и написать случайно минуту улучил. Вышел на кухню, а там я была. Елена Николаевна, я дальше побегу, мне еще по одному адресу нужно успеть. Возьмите!
Тупой топот маленьких валенок еще слышался на лестнице, а Лена никак не могла заставить себя разглядеть то, что сжимала рука.
Записка и впрямь была написана на кухне – на чайной обёртке синим карандашом.
В следующее мгновение Лена метнулась в комнату: что-то искала в ящике стола, срывала с вешалки шубку, застегивала ботики.
Снег обжег лицо. Запреты всей семьи теперь уже были неважны, вовсе неважны. Да и кто посмеет сейчас ее тронуть? Кто только посмеет, кто посмеет?
До Знаменской площади проще добежать, чем ждать автобуса… Московский вокзал… Вот он уже виден, привычный, такой, как всегда, словно не рушится мир…
Какая же платформа? Какая? Он не мог знать… Сердце отчаянно стучало после сумасшедшего бега.
Но все тут же сделалось ясным.
Нужная платформа была оцеплена солдатами с кирпичными звездами на буденовках.
– Девушка, ваше направление? Ну, бумага на посадку ваша?
– Да она без багажа. Вы куда лезете, девушка, тут спецотправление!
Лена полоснула красноармейца ледяным взглядом.
– Я провожаю.
– Без вас тут, провожающих, толпы мало, – молодой красноармеец отвел глаза. – Ладно, проходите.
Сначала подумалось, что все зря. Что немыслимо найти Петю в этой странной, такой невокзальной толпе, где чемоданов меньше, чем случайных узлов из скатертей и занавесок, где нет оживленного говора, а тишина перемежается только приглушенным плачем. Где деловито снуют вдоль безобразных дощатых вагонов кирпичные звезды.
Невокзальная толпа! В ней не было – чужих. Простых. В самых бедно одетых угадывалась осанка… Особая, культурная печать на каждом, печать мысли. Дворянская толпа.
Лена брела в отчаяньи, наугад. Плакали дети, встревоженно шептались женщины, мрачно курили мужчины… Не найти, нет, не найти…
– Слава Богу! – Петя, схватив ее одетые в белые варежки руки, прижал их к лицу. – Я не был спокоен до конца, можно ли посылать к тебе Мирку… Их знаешь как теперь в пионерах накручивают доносить… Но она девочка славная, пока еще, во всяком случае. Плохо, что я хоть капельку рискнул… Но я так хотел… попрощаться.
На платформе рядом с Петей стояло два чемодана. Один дореволюционный, с наклейками иностранных отелей, другой поменьше, фибровый. Налетев с разбегу на первый ногой, Лена ушиблась. Чемодан, вне сомнения, был набит книгами.
Лена, высвободив руки, зачем-то принялась отряхивать снег с пальто юноши, с шапки, которую он носил с подвязанными ушами, даже в мороз. Петя не сопротивлялся, пытаясь улыбнуться ее стараниям.
– Почему Московский вокзал? – наконец заговорила Лена.
– Не знаю. Будет, верно, какая-то пересадка. Неважно.
– Хорошо, что тебя одного высылают. Некоторых и пожилых трогают. Им не дали тебя проводить?
Только что лицо Пети было самым привычным, взволнованным, напряженным, но знакомым. Но в следующее мгновение глаза его блеснули – и левую щеку дернуло сильнейшим тиком. Таким сильным и страшным, что показалось – щека сейчас разорвется, как бумага. У Пети никогда не было тика, никогда.
– Их… тронули. Бабушку и деда. Только нас высылают в разные места. – Голос был почти спокоен, только чуть сдавлен. – Меня к узбекам, а их к казахам. Их оторвали в ссылке от меня, молодого, кто мог заботиться о них, носить воду, колоть дрова, стоять в очередях… Я даже не мог никого убить, дорогая. Я бы не себе повредил. Хотя, может, и лучше, чтобы нас всех расстреляли сразу, не знаю. Для мужчины нет ничего страшнее бессилия, ничего.
– Ты еще наберешь силы. – Лена, уже разобравшаяся со снегом, еще не опустила рук. Лежавшие на плечах мальчика, они потянулись друг к другу сами и встретились на затылке. Встретились и Петины руки – на Лениной спине. Не объятия, а два живых замка, сомкнувшиеся словно навсегда, вопреки разлуке. – Ты воротишься, ты непременно воротишься!
– Я вернусь. Я буду тебе писать. Они… они ответят. За всё ответят…
Их губы слепо тыкались то в ухо, то в нос – смыкать уста обоим было немножко страшно.
– Чуть не забыла… Я… Это тебе, это мой философский камень… Ну, помнишь, лунный? – На Лениной ладони, на мгновение освободившейся и скользнувшей в карман, сверкнуло что-то округлое, полупрозрачное, цвета топленого молока. – Это когда я была маленькой и думала, что дедушка – алхимик. Это мое детское сердце! Пусть бьется с тобой… Всегда!
– Кто отъезжающий? – Очередная кирпичная звезда тряхнула разлохматившимся бумажным ворохом. – По пятому вагону?
– Это я.
– Распишитесь, где фамилия стоит. – Кирпичный сунул Пете огрызок химического карандаша.
Петя небрежно черкнул в списке омегу с затейливым хвостиком – Лена не один раз видела уже эту его маленькую орфографическую прихоть. И еще увидит, увидит…
– Расписавшиеся проходят в вагоны! Не создаем толпы, граждане! – Кирпичный уже устремился к стоявшей поблизости молодой женщине с ребенком лет полутора, в красном вышитом пальтишке, в белых валеночках и белом башлыке.
– Проходим, граждане, не задерживаем погрузку!
Расцепить руки – как разорвать себя пополам.
В момент этой муки Ленину душу залило странное всепоглощающее желание вобрать Петину боль в себя, вытеснив ее, боль ведь можно только вытеснить… Подменить… Как подменивают безобразное отродье лешего на человеческого ясноглазого младенца… В сказках – наоборот? Неважно! Можно и так. Она вытеснит эту боль! Она сладит, у нее получится… Что? Лена не знала. Она знала лишь одно – ей надлежит полностью раствориться в этом намеренье…
Запихнув оба чемодана внутрь, Петя обернулся со ступеньки.
Толпа редела, но на платформе еще оставалось достаточно народу. И отправляемых в ссылку, и кирпичнозвездных. Кирпичные курили, торопили, кричали. Люди тащили багаж, неуклюжие в тяжелых зимних одеждах… Снег был грязен, прибитый ногами и волокушами. Сверху падали чистые, крупные хлопья.
Только одна фигурка стояла неподвижно и очень спокойно среди этой тягостной суеты. В тяжелом расшитом платье из серой и розовой парчи, в немного неуклюжем платье с юбкой неимоверно широкой спереди и узкой, если смотреть сбоку. Золотые волосы, не завитые, а пышно начесанные, округло лежали на ее плечах. На левое плечико ниспадал также красный плюмаж. Рукам без перчаток вовсе не было холодно держать платок прозрачного батиста и крошечный букет.
Люди, окутанные бедой, обходили девочку, не удивляясь и не замечая.
Петя сразу узнал ее: инфанта Маргарита, кисти Веласкеса, та, что больше всего поражала его сходством с Леной. Этот высокий бледный лоб с упрямыми выступами, эти серьезные глаза…
Она казалась портретом, пока стояла недвижимо. Но затем она подняла отягченную широкими кружевными манжетами руку и помахала ему.
Петя помахал вслед и быстро вошел в душную, пахнущую сыростью, полутьму.
Что он увидел, Лена не знала. Но последним, что осталось в ее памяти, была его счастливая улыбка.
Поезд уже содрогался, готовясь поползти, пойти, помчаться вдаль.
Глава XIX. Новые вожделенияДоносившийся из гостиной шум раздражал. Тренькала гитара, ее перебивал патефон, смеялись, кричали. Затеяла же Оксанка принимать своих гостей. Всё перед Лёвкой своим красуется, вчера – платье от портнихи, сегодня, ясное дело – вечеринка.
Против Лёвки Разгона Глеб Иванович ничего не держал, знал по работе Спецотдела как толкового подчиненного. В такие годы – уже и партиец. Ну и вообще шустёр, сообразителен. Хорошая партия. Конечно, знает, к кому клинья подбивать, дочка начальника, это, поди, не пролетарка с завода. Ну, так и что с того? Лишнее свидетельство, что такой в жизни не пропадет. Оксанка как всегда толковее сестры, своего не упустит.
Но сегодня, когда словно сама собой складывалась головоломка, когда мысль мчалась, почти не подгоняемая порошком. Хотелось чаю, но уже второй час не мог оторваться от стола, пройти на кухню. А эта деревенская дура куда-то с утра запропала. Ладно, всё после.
Глеб Иванович прервался, в третий раз уже заправляя вечное перо. Мысль мчалась, мысль летела… Как же туп Коба, как же бесконечно туп… Хочет изменить сознание нагнетением массовой истерии собственного обожения. Кумир, как конкурент Бога… Как мелко… Мелки все эти журнальчики «Красный дьявол», теперь вроде «Безбожник», карикатурки на попов и расстрелы их же, октябрения вместо крестин, да хоть и взрывы храмов…
Нового человека этим не вылепить. Верующий, неверующий – все это величины в одной системе координат. В одной!!
В сознании нового человека вовсе не должно быть Бога. Ни с прописной буквы, ни со строчной.
Об этом говорили еще с Троцким… Сжечь все старые книги (кое-что, конечно, поместив в фонды спецхранилищ, доступ в которые будет только у особых людей, у касты креаторов), подрядить писателишек перелицевать всю мировую классику, придумать иные объяснения существованию уцелевших церквей… Это-то как раз несложно.
Ни бессмертия души, ни души как понятия, ни сотворения мира, ни Христа, ни святых – ничего этого попросту не должно быть в современном сознании. Атеизм должен быть не выбором, пусть даже навязанным воспитанием, но единственно возможным взглядом на мир. Само слово не подходит: а-теизм. Оно подразумевает то, что нужно отрицать.
Но разговоры упирались тогда в отсутствие практического решения. Национализировать всех детей? Само по себе неподъемно. Но допустим даже – сладить. Но где взять гарантированно надежные кадры воспитателей? Сотни тысяч кадров? Ведь довольно одной дуре, даже из лучших целей, брякнуть, что-де раньше люди были темные и кому-то молились, и всё, пиши пропало. Надежности нет там, где есть информация.
Полную переплавку целого народа (для начала) можно осуществить, лишь умея внедряться в мозг.
Тогда, с Рерихами, дело зашло в тупик. Африка – вот где нужно было искать с самого начала. Африка – не отсталый мир, как думают профаны. Это мир, пошедший по иной дороге. Для развития не непременно нужен технический прогресс… Да и вообще механика. Бывает развитие биологическое. Черная раса умеет умирать по желанию и убивать словом. Овладевать чужим телом изнутри. Управлять мертвыми телами.
У черной расы надлежит учиться управлению чужой волей, управлению полному, абсолютному. Подвергнуть взрослое население обработке мозга – единственное решение.
Сколько лет потрачено зря! Дурак был покойный Яшка. Ведь верной дорожкой шел, вертелся около этого Гумилева. А потом – и Гумилева проморгал, дал расстрелять раньше времени, и на Рерихов перескочил…
Но, как и следовало ожидать, все-то этот Энгельгардт знает. Как затревожился за семью – и на связь сам вышел, и артефакт отдал, и расчеты сделал. Странные расчеты, шифровальный отдел так с ними и не разобрался покуда. Ну да ничего, нельзя сразу сильно нажимать. Со временем все разобъяснит. Куда денется. Семья-то – наилучшие заложники.
У нового человека должно быть полное равнодушие к семье. Ну, не полное, допустим. С семьей случается пережить немалое количество занятных моментов. Довольно приятных порой. Но монгольские воины побеждали русских потому, что в случае надобности могли смело бросить на произвол судьбы обоз с женами и детьми. Они были сильнее, они познали суть победы. Могли и рубить головы собственным сыновьям, ибо сын это прежде всего – наследник. А некоторые наследники вырастают слишком рано, а в них растет опасность. Мужчине не очень приятно иметь сыновей, что б там ни лгали на сей счет. С дочерьми куда занятнее…
Бокий усмехнулся, и словно продолжая его мысль, в кабинет вбежала любимица – Оксанка. Платье из светло-кирпичного креп-жоржета в самом деле роскошное, но слишком взрослое, дамское, куда смотрит эта дура – мачеха? И брови ей щипать рановато.
– Пап… Тут, знаешь, какое дело…
– Я работаю. Тебе своих гостей мало, меня отвлекать, – не очень строго проворчал Глеб Иванович. Он нуждался в отдыхе, напряжение утомило. Вид накрашенных бордовой помадой губ, завитых локонов и щедро открывающего молодой бюст выреза оказался кстати. Хороша выросла, шельма.
– Может, срочно… – Оксана казалась озадаченной. – Я тут хотела, знаешь, у Фроськи соды поискать… Она к себе в комнату уносила, зуб полоскать…
– По существу. Фроськины зубы мне не чрезмерно любопытны, равно как и иные ее телесные части.
– Папа… Она все свои вещи – унесла. Комодик пустой, сундучка нету.
Комнатушка при кухне выглядела совершенно нежилой, как только успела опустеть за несколько часов? Будто год никто тут не жил. Аккуратно заправленная серым с четырьмя коричневыми полосками одеялом узкая койка явила отсутствие постельного белья. Исчезла и скатередка с комода. То и другое у Фроськи было своим, обшитым кружевом «ришелье». Вправду исчез и сундучок, кованый, крашенный красной краской. Уж сколько предлагали деревенщине вынести это позорище на свалку! Какое там. Сундучок ей достался, впрочем, не из деревни, от какого-то местного то ли деда, то ли дядьки, лень было вникать.
Исчезновение этого жалкого барахлишка говорило: Фроська покинула дом добровольно, с продуманной хитростью. Хуже нет этой хитрости дураков!
Куда она денется, безпаспортная? Сбежать из квартиры начальника Спецотдела НКВД – это еще смешней, чем сбежать из самого Большого дома. Ее, дуру, даже воры не приютят, такую. Уж они-то определенно знают, от каких лишних забот стоит держаться подальше.
– Иди, веселись. – Бокий усмехнулся дочери, уже вновь погружаясь в свои мысли. – Только сильно не орите, я работаю. Завтра подумаем, оставить эту тварь, когда ее воротят, или эта пусть лес валит, а взять новую.
Но, как выяснилось в ближайшие дни, Глеб Иванович, как ни странно, ошибся. Даром что лично давал распоряжение искать. Найти Фроську так и не удалось.
Глава ХХ. Горестные планы– Ларинька, я давно хотел поговорить с тобой. – Энгельгардт, отложив томик Корнеля, прошелся по комнате, привычно огибая загромождавшую ее мебель.
– Я слушаю тебя, Nicolas. – Жена не пошевелилась, только пальцы продолжили гладить каменные шары, извлеченные из их шелковой фиолетовой шкатулочки с пагодами. – Судя по твоему виду, опять случилось либо ожидается нечто плохое?
– Не совсем так. Слишком уж мы привыкли к плохому, ты не находишь? – Энгельгардт растворил пошире окно, впуская в дом веселые шумы майского дня. – Пусть речь не о хорошем, но и не о плохом тоже. Однако же о важном. Видишь ли, в довольно скором времени мне хотелось бы отправить вас… В Латвию. Дальше я бы предпочел, чтобы вы перебрались в Литву, там русским попроще.
– Но… каким образом? – Шарики со стуком столкнулись на столе для рукоделия. Выпустив их из рук, Лариса Михайловна с тяжелым удивлением посмотрела на мужа. – Неужели ты рассчитываешь получить для нас визы? Трубецкого с одним из детей отпускали к родне, лечить астму ребенку, но ведь жена с остальными оставалась, пришлось возвращаться. Ты и сам говоришь, что останешься. Всех вместе нас не выпустят. Так каков смысл?
– С визами все хуже, даже при домашних заложниках. По ряду причин я не стал даже пытаться что-либо предпринять в их рассуждении. Другое. Я хочу направить вас через границу.
– Как?! Лесами? Nicolas, это безумие! Ты только газеты погляди – сплошные «подвиги пограничников»! Но мы же понимаем, кого они ловят на самом деле! Не тех, кто идет сюда, таких, если и есть, единицы! Тех, кто отсюда бежит! Все это помешательство на страшных сыскных собаках…
Собаки… Николай Александрович давно уже отслеживал этот газетный психоз вокруг пограничников и пограничных собак. Так часто о последних, похоже, не упоминали в хвалебном ключе со времен опричнины. Нагнеталось впечатление, будто в страну ломятся толпы всевозможных диверсантов и шпионов с полными рюкзаками динамита для диверсий, с кодаками наизготовку. Кто еще думал посреди этого морока, не утратил способности понимать: «герои» хватают несчастных своих. В особенности много «диверсантов» было схвачено или растерзано собаками на Дальнем Востоке после начала коллективизации. В Маньчжурию бежали толпами – кто-то и прорывался.
Но иного выхода все равно нет.
– Успокойся. – Энгельгардт накрыл руку жены ладонью. – Я достаточно хорошо все обдумал, поверь. Есть человек, которому я доверяю, он давно связан с семьей. Даже тебе не стану раньше времени говорить подробностей. Но Господь не без милости, именно с таким человеком меня свела случайная встреча. Он как дома в лесах, он вас проведет. Он и сам иной раз хаживает в те края, контрабанда вечна. Идти с ребенком большой риск, спору нет. Думаю, Галину лучше оставить у отцовской родни. Но Лена уже взрослая девушка, а вы с Аней всегда любили бродить лесами. Авось пройдете.
– А если нет? Какой смысл рисковать детьми? Собаки, Nicolas…
– Я боюсь, что оставлять здесь вас – больший риск. Слово «риск» даже, пожалуй, и неуместно. Нас долго не трогали. Но так не может продолжаться вечно.
– Ты недоговариваешь…
– Возможно. Просто верь мне. Так будет лучше. В особенности опасной жизнь здесь становится для Ани и Лены. Учитывая, что Галю отправить сейчас нельзя, остается порадоваться, что у нее другая фамилия. Что же до Александра… Тут надежда только на то, что Архангельск далеконько. Он зряшно полагает, будто бы можно сделаться благополучным, приноровившись к новому строю. Нынче иные времена: легче легкого и душу погубить, и тела не спасти. Не стоило кидать ладану в эту кадильницу.
Шары звякнули так, словно тоже испытывали боль.
– Саша считает себя отрезанным ломтем, а сам не видит, сколько нитей продолжают связывать его с семьей. Теперь вот следом за Аней занялся кукольным театром[5]5
А. Н. Энгельгардт был одним из первых сотрудников Театра кукол в Архангельске, основанного в 1933 году. Учитывая то, что театр в Ленинграде основан двумя годами ранее и труппа состояла всего из трех незаменимых участников, бродящая по мемуарам версия о том, что Анна Николаевна ездила-де к брату за наукой и какое-то время служила в том театре, не только трещит по швам, но и рвётся на клочки. Вероятнее всего, в Архангельск она не ездила даже в гости: дорого, далеко, младшее дитя младенец, только что начатое дело требует постоянного присутствия и больших трудов.
[Закрыть].
– Без Аниной увлеченности. Но даже будь Александр здесь, он бы с вами через границу не пошел. И я на его выбор влиять бессилен, он взрослый мужчина. Так что готовься потихоньку, Ларинька. Побольше гуляй в парках.
– Но… ты? – губы Ларисы Михайловны задрожали. – Почему мы не идем вместе? Зачем ты хочешь остаться?
– Иначе невозможно, увы. За нами следят. Но надзор за вами ослабеет лишь в одном случае, когда все их внимание будет приковано ко мне. Такой момент будет, и мы должны им воспользоваться. Вы должны им воспользоваться.
– Ну, дорогой, так просто тебе от меня не отделаться. – Лариса Михайловна улыбнулась – слабой тенью далекой, так когда-то милой ему улыбки. – Неужто ты не видишь, я давно уже умерла. Дети это знают, и потому больше, много больше любят тебя. Аня девочка нежная, чувствительная, но на самом деле стойкая. Лена почти выросла, и ей тоже не занимать ни храбрости, ни стойкости. Отправим их трех, а я, я останусь с тобой. Во мне, может статься, и есть силы, но нет желания к новой жизни.
– Я остаюсь на верную смерть.
– Я сказала: я давно уж мертва душой. Но и будь жива, мы слишком мало придавали в былые дни значения словам брачного обета. Не жене бежать от мужа в безопасность. Мы исполнили свой родительский долг. К тому же и я смогу, быть может, занять место в твоих хитроумных планах, тоже чем-то отвлекая внимание от Ани с девочкой? Не отговаривай меня, дорогой. Я тоже имею право… «выбирать себе смерть».
– Это будет… не самая поэтическая смерть, Ларинька. Издевательства, хамство… Возможно, и пытки.
– Не пугай. Господь не без милости. Я останусь с тобой.
Лариса Михайловна обвела тесную от мебели комнату взглядом, словно давно не видела. Когда-то, в незапамятные времена, они обставляли новое жильё, придирчиво выбирая обои и драпировки. Для Колиного кабинета был выбран чиппендейл, по стенам определили маринистов, зрительно увеличивающих отяжелевшее от книг пространство. Здесь Коля написал добрую половину своих трудов. Для гостиной остановились на добром старом никогда не приедающемся ампире.
Стили смешались, чужие вселились, но стены помнят все вехи жизни семьи: рождение Саши и Ани, их рождественские ёлки, домашние молебны, лица и разговоры за столом… С явлением Саши в квартиру вселились лошадки на колёсах, с мочальными гривами, и заводные паровозики. С Аней – куклы, куклы и куклы. Она играла в кукол самозабвенно, словно угадывая в них свою жизнь. А какое у нее было воображение! Помнится, как-то, когда Саша начал ее задирать, маленькая выдумщица напугала брата посулами, что кукла Долли-Пуппе тайком бегает по квартире и будет теперь гулять около его кровати. Мальчик сперва не поверил, но Аня предъявила в доказательство стоптавшиеся подмёточки кукольных кожаных башмачков. Саша испугался. И ведь как-то очень уж ловко Аня с этими башмачками обошлась, даже слишком умело для такой малютки сумела придать им поношенный вид. Еще после обувь «износилась» сильнее. Но ни разу так и не удалось поймать Аню на этом простодушном обмане.
Стены помнят, как Аня, такая непривычная с убранными под белый апостольник волосами, шурша белоснежным передником с красным крестом, молча прошла без кровинки в лице в свою комнату и только спустя несколько часов вышла – с красными опухшими глазами: в то дежурство у нее на руках впервые скончался раненый.
«Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли их дотянуть до утра. Я прошу об одном: напишите, напишите две строчки сестра…» Как о ней был в те дни этот романс, звучавший отовсюду.
Но на следующее утро Аня вновь ушла на дежурство. Вскоре ее передник и апостольник сделались всем в доме привычны.
Стены помнят, как они вслушивались в полифонию стрельбы на Литейном, ничего еще в те февральские дни не зная, кроме единственного объясняющего всё слова: Кутепов.
Стены помнят. Стены помнят всё, прожитое в них.
Здесь ее дом.
Ей некуда отсюда уходить.
Мысли ее, верно, отразились в обращенном на мужа взгляде.
– Пусть так, это в самом деле твое право. Главное – спасти наше будущее. – Энгельгардт улыбнулся жене. В старомодной, давно забытой манере, оба одновременно поднесли к губам ладони друг друга.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































