Текст книги "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева"
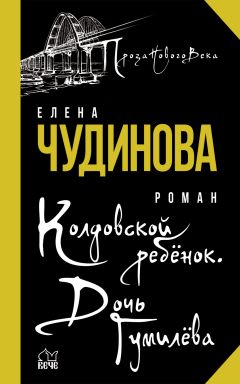
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
1937–1939
Глава XXXV. Круги кошмараЭнгельгардты и Гумилевы который месяц жили словно во сне. Во сне, как выяснилось, можно делать все то же, что и наяву. Александр Николаевич занимался на дому все теми же рутинными техническими переводами, перестав уже задаваться бесполезным теперь вопросом: не зряшно ли отказался от риска, связанного с попыткой отправки семьи через границу? Возможность ушла, что теперь спрашивать. Лариса Михайловна ходила за покупками, что занимало немного больше времени, чем обычно (с провизией в очередной раз сделалось похуже), что-то готовила, впрочем – самое простое. Еда все равно утратила запах и вкус. Анна Николаевна делала «прогон» «Бевронского луга» и готовила новый спектакль – про Храброго Портняжку. Она даже и не замечала как будто новоселья: с Литейного театр переехал вовсе близко к дому – на Бассейную. Страшная смерть поэтов Васильева и его друга Корнилова жила в ее душе как адский рефрен. Лена ходила теперь на службу – пунктуальная, сосредоточенная, молчаливая в той мере, чтобы отвадить сослуживиц от общения. Раздражающим и каким-то нечистоплотным, мушиным жужжанием без того звучали в ушах их смешки о танцульках с курсантами, разговоры об удачно купленных тканях, взаимное одалживание друг дружке кожаных туфель на свидания.
Ленины туфли развалились до отказа ассирийца в их спасении, так же, как и зимние ботики. Летом она носила парусиновые баретки, зимой – подшитые валенки. Это было и неважно. Вовсе неважно.
Истаяли последние надежды на известия от Пети. В Митиной квартире, в двух комнатах, занятых некогда Журовыми, жило теперь какое-то чужое семейство. Рабочее, многодетное. Куда исчезла Митина мама – вскоре после ареста Мити – выяснить не удалось.
Орденский храм Симеона и Анны теперь был закрыт, разграблен, отдан под склад. Последнее утешение. Последняя радость – отняли и ее.
Как долго семья прожила так? Времени не хотелось и замечать.
Первым оказалось суждено пробудиться Николаю Александровичу. Пробудиться – или увидеть сон во сне, кошмар в кошмаре?
Как-то незаметно для себя он встал плечом к плечу с молодыми, все чаще проводя время у Задонского, чья комната превратилась в некое подобие штаба. Немудрено, что вировцы собирались у Юрия, хотя до Исаакиевской площади было все же не рукой подать. Но не у каждого ведь жилище в единоличном распоряжении: а ценна, между тем, возможность не обременить семьи многолюдством, папиросным дымом, тревогой. Немаловажным было и то обстоятельство, что в квартире имелся телефон.
Вопреки всему – в этих бденьях до полуночи звучал молодой смех. Случается так, что падать духом непозволительно, Энгельгардт был рад, что молодые ученые способны это понимать. Впрочем – путешественники, не неженки. Это тоже закаляет дух.
Силы подкрепляли немыслимым количеством чаю, вернее сказать – брандыхлыстом. Треть заварки шла на две трети зверобоя или мяты, что у кого находилось. Сбрасывались на коммерческий магазин, кто-то бегал за булками, и красавица Катя Вергасова делала из обнаруженного по сусекам крошечные изящные тартинки.
Вавилова ждали из Москвы. Невзирая на то что в комнате было промозгло (калорифер еле грел, домоуправ на жалобы отвечал, что «по календарю не зима»), дверь в коридор оставалась приоткрытой. Это не помогало расслышать звонка, которого все не было.
– А где ж сегодня ваш Валентинов? – спросил, дабы просто найти предмет разговора, в этот вечер против обыкновения не клеившегося, Энгельгардт. – Не простыл часом?
Катя уронила на тарелку ножик, которым намазывала яблочное повидло: беспомощно звякнул фарфор.
– Здоровее некуда, – мрачно отозвался Задонский. – Но за минувшую ночь Вася Валентинов пришел к выводу, что сожжение на костре здоровью может повредить.
Вот оно что… Теперь Энгельгардту сделалось понятнее, отчего у присутствующих подавленный вид. Ах, этот их Николай Иванович… «Пойдем на костер, но науке не изменим»… Неужели он не понимает, баловень, окруженный этими преданными учениками, какая жгучая зависть грызет душонку того, кто смертельно боится даже собственных приближенных? Обуян паранойей, убивает то одного, то другого – и продолжает никому не доверять?
Горец не умен, но адски, как порой свойственно примитивным умам, хитер. Он боится тронуть слишком уж известного, мировую величину… Понимают ли они, что, десять лет потихоньку обкладывая Вавилова красными флажками, горец год от года исполняется все большей ненавистью?
– Что ж, будут и иные, – жестко произнес он. – Когда пахнет дымом костров, некоторым людям в самом деле становится жарковато. Нельзя их слишком осуждать. Люди, друзья мои, не равны в этой жизни ни в чем. Ни в таланте, ни в силе, ни в красоте. Виновны обычно не те, кто оказался слаб, но те, кто принудил к подлости. Те, для кого подлость явилась выбором добровольным. Не обессудьте на стариковском морализаторстве. Чуть не запамятовал между тем: я ведь прихватил ландринок к чаю.
Телефон заработал, как показалось, очень громко.
– Алло?! Да… Да, Ефрем Сергеевич… – Голос Задонского был хорошо слышен через распахнутую дверь. – Да… Да… Вот как… Да… Остаетесь? Да, конечно… А что он?.. Да…
Что-то холодное, похоже, уже шелестело в воздухе. Слушая односложные реплики Юрия, Катя куталась в козью свою пуховую шальку, словно ее знобило.
Кто-то вновь закурил, хотя в комнате можно уже было вешать топор.
– Пятнадцатого… Пятнадцатого марта, – походка Задонского, когда он вернулся в комнату, была какой-то деревянной. – Николай Иванович был в Кремле… У Сталина. Тот вел себя… хамски. Не предложил сесть.
Юрий отчетливо скрипнул зубами. В наступившей тишине это прозвучало особенно жутко.
– Продолжайте, Юрий Сергеевич, – мягко попросил Энгельгардт.
– Что? Да… Конечно… – Задонский встряхнул головой, словно просыпаясь. – Прошу извинить. Вместо «здравствуйте» он заявил: «Ну что, гражданин Вавилов, так и будете заниматься цветочками, лепесточками, василёчками и другими ботаническими финтифлюшками? А кто будет заниматься повышением урожайности сельскохозяйственных культур?»
– Лысенкины словечки, – угрюмо уронил Дмитрий Иванов, светловолосый скобарь с военной выправкой.
– Вне сомнения, – недобро усмехнулся Задонский. – Патрон вынужден был стоя читать ему целую лекцию… Тот расхаживал, попыхивая трубкой… Ничего, похоже, не понял. Николай Иванович ведь не умеет приноравливаться… В конце концов он прервал на полуслове. «У вас всё, гражданин Вавилов? Идите. Вы свободны». Это уже вечер был. Ефрем его ждал на дому, сидел у него в кабинете. Николай Иванович прошел к нему в пальто, в шляпе. Он сказал: «Это конец». Пока что оба остаются в Москве. Много неясностей. Нет, пока не арестован. Хотя неизвестно, что будет к утру. Они же любят – по ночам…
Молчание было мертвым, как погост.
– Завтра проводим закрытое совещание в лаборатории, – веско, на правах одного из старших присутствующих, заговорил, поднявшись, сухопарый, в тяжелых очках, Александр Гаврилович Щукин. – Не могут же нас арестовать всех и разом. Надлежит продумать вопрос сохранности коллекции. Не хочется говорить высокие слова, но речь о достоянии человечества, коллеги. Пшеница Вавилова – это будущее человечества. Коллекцию надлежит сохранить во что бы то ни стало. Предлагаю обдумать все возможные варианты. Я уверен, что этого ждет сейчас от нас Николай Иванович. Давать прямые указания по телефону рискованно, но именно этого он и ждет.
– В котором часу нам будет удобно, коллеги? – спокойно, будто обсуждался банальнейший рабочий процесс, поинтересовался спортивный Вадим Лехнович.
– В десять? – предложила Ольга, жена Лехновича.
– В десять утра, в первой лаборатории по картофелю.
…Открыв своим ключом дверь квартиры, Николай Иванович ощутил в коридоре чье-то присутствие раньше, чем повернул выключатель.
Слабенькая лампочка выхватила из темноты светлые волосы Лены, сидевшей с ногами на старом кованом сундуке, принадлежавшем когда-то покойной Аниной няне. Зеленый этот сундук, оклеенный по внутренней стороне крышки картинками из Писания, стоял тут еще с незапамятных времен – до «коммунальной» эры: рука хозяев не поднималась выбросить неуклюжую эту память.
По всему судя, Лена и не ложилась.
– Почему ты здесь, Ленок? – Новая тревога вспыхнула в душе. – Что-то случилось?
– Нет. Я просто хотела дождаться тебя. И не будить бабушку и маму, они сегодня обе устали. Я заварила мяты, дедушка. Мы можем выпить по чашке на кухне.
– Благодарю. Пожалуй, что да. Я сразу не усну. Только не расспрашивай меня теперь.
– К чему спрашивать, я вижу, что плохо.
Чайник уже ждал, накрытый стеганой покрышкой. В такой час можно было не тревожиться присутствием на кухне соседей.
Лена разлила по чашкам успокаивающе пахнущую мяту. Чашки были простенькие, в узеньких гирляндах из незабудок.
– Как раз то, что нужно. – Энгельгардт глубоко вздохнул. – А тебе ведь завтра рано вставать, мой друг.
– Пустое, – Лена вертела чашку в руках, любуясь клубами ароматного пара. – Дедушка… Знаешь, я не могу понять. Вся моя жизнь – одна длинная трагедия, с двух лет. Трагедия в моей судьбе, трагедия вокруг… Папа, дядя Serge, наша церковь, Петя, Митя, процессы и высылки, теперь вот ВИР… Я не могу понять: все ли беды уже случились – со мною и с нашим городом?
(Закончено 1 мая MMXX, в период эпидемии)
Книга II. Костяная длань
Глава I. Лингвистика войны
Вода текла из крана еле-еле и отдавала ржавчиной. Да и на вид была рыжеватой. Лена выждала немного, покуда вода примет нормальный цвет, а после уже намочила тряпицу. К книге прилипли ссохшиеся комочки глины, истлевшие уже осенние листья. Теперь немного просушить, и книга в порядке.
– Дедушка, погляди! Кто-то книги выбросил. Ты ведь упоминал о нем.
Лена не столько спешила поделиться находкой, сколько хотела развеять настроение деда, в последнее время тяжелое.
– Что там у тебя? А, Бодуэн де Куртенэ. В имении у меня была такая книга, даже и с автографом Иван Александровича. С имением и сгинула книга, поди, пустили мужички на самокрутки. Ты Ивана Александровича не видала даже и маленькой, он теперь, благодарение Богу, в Варшаве. Выдающийся человек, истинный Капетинг. «Общие замечания о языковедении и языке»… Дело, стоит тебе прочесть. Ученый на грани лингвистики с высокой философией. Может статься, и я перечту.
Энгельгардт с удовольствием принял когда-то белый, посеревший томик.
– Да, это был своего рода переворот в языкознании… Держи. Что-то там из книги выпало, carte postale?
– Нет, дедушка, – Лена нагнулась за бумажкой. – Погляди, как странно! Это же деньги! Билет в пятьсот рублей, но не имперский… Но русский! Ты только посмотри!
– Боже милосердный… – Энгельгардт со странным волнением потянулся к купюре. – Я слышал об одной важной вещи, но не имел возможности лично удостовериться… Дай мне лупу, Ленок, будь добра. Она на столе.
Зайдя за спину дедова кресла, Лена через его плечо разглядывала блеклую бумажку… «Северо-Западной армии полевое казначейство»… Знамена, орел, попирающий змею… Разборчивая подпись генерала Юденича… Композиция не очень удачна, верно, не большой мастер компоновал. Это на войне и понятно. Какие-то детали слишком крупны, какие-то чересчур мелки, и нагромождены излишне тесно. А так – банкнота как банкнота. Из чего дед так растревожился?
Лупа остановилась в верхнем углу купюры – на изображении древнерусского шлема, увенчанного двуглавым орлом…
– Ты видишь? Скажи мне ты, что ты здесь видишь?
– Два лица… Слева женское, справа мужское… Мужчина с бородкой… Погоди, это что – нимбы? Это святые?
– Все верно. Это Государь и Государыня, Ленок. Когда-нибудь их прославят, и я уповаю, что ты до этого доживешь. Но для христолюбивых воинов, идущих на смерть, они уже были святы. Поэтому и изображены с нимбами.
– Дедушка, может быть, заварить тебе пустырник?
– Пустое, Елена. Сядь и выслушай. Это в достаточной мере серьезно. Сейчас идет война, страшная, страшнее прошлой. Чем она завершится – Бог весть. Уповаю, что такая гроза оздоровит наш обезумевший мир. Иной раз клин вышибают клином, это правда. Я германца не жду, хотя мне и трудно осудить тех, кто ждет. Люди не помнят себя от страданий. Но мы должны себя помнить. Мы не должны быть слабыми. Елена, Елена, дочь Николая, я довольно ждал. Ты ходила как мертвая два года. Но скоро умру я, не спорь, я уже вправе услышать свое «ныне отпущаеши», ты выросла. Я скоро умру, поэтому тебе пора оживать. Я не осуждаю тебя. Эти мальчики были частью твоей жизни. Если случится чудо – Петр объявится. Дмитрия ты должна иметь мужество наконец похоронить. По всему судя, его вплели в какой-то из больших политических процессов, а тут все приговоры одинаковы. Я перед ним виноват, увы. Но Бог свидетель, что я мог подумать, когда у него в кармане оказался домашний номер телефона одного из катов?
– Ты не виноват, дедушка. Тут никто не виноват. – Лена легко вздохнула. – Но Митя был рад, что разобрался с этим случаем. А дочь этого… она была хорошая девушка, Митя говорил. Что-то с ней сталось?
– Скорее всего худое, как и со многими другими хорошими девушками. И с плохими тоже. Но сейчас речь о другой девушке, о тебе. Ты должна жить дальше, Елена. Проснись. Учиться ты понемногу продолжила, я вижу. Мозг надлежит упражнять. Пиши стихи. Выйди замуж. Почти никто не вступает в брак по первой любви, обыкновенно она остается прекрасным воспоминанием. Даже в более счастливые времена первая любовь – эфемерида. Есть за кого, ты еще не разглядела. Но всему свое время. Пусть испытания войны, пусть мы с бабушкой уйдем, радуйся жизни. Повторять ничего из сказанного я не стану.
– И не понадобится, дедушка. Можно, я сделаю стрижку?
– Можно – щипать Машку за ляжку, везти козу на возу, прыгать в телегу с разбегу, а все остальное – позвольте. Так мы говаривали буршами. Но это – туше. Как мне теперь возразить? Ленок, мне твоих волос так жалко…
– На них много мыла уходит. А оно опять по карточкам.
– Эх ты, маленькая ты женщина, ну конечно, экономия это самое главное.
Дед и внучка рассмеялись. Давно им не было так легко друг с другом. Словно краски жизни проступили вдруг ярче, как на реставрируемом полотне.
– Ну я же не под «гарсон» хочу подстричься, а под «удлиненный боб»! Это по плечи!
– Удлиненный что? Ладно, поступай как хочешь, я успокою бабушку. – Энгельгардт бережно сложил вдвое помятую купюру. – Сохрани эти деньги. Мы на них еще похороним всех февралистов.
– Ты о чем?
– Так, пустое. Разберешься. Главное, сохрани.
– Я сохраню. – Лена положила бумажку в карман джампера. – Странно, ведь армия не дошла до Города? А ее купюра как-то да попала сюда…
– Хороший сюжет для романиста. Я уже не возьмусь. Мои литературные штудии остались в прошлом. Да и не такие уж сильные они были, по чести сказать.
– Мне нравятся. А все-таки интересно, как эти деньги пробрались в Петроград?
– Возможно, книгу кто-то привез из Гатчины. Или из Ямбурга. Что ты там еще разыскала?
– Владельца! – Лена просияла. – Ты только посмотри!
Форзац книги явил отнюдь не скромную надпись ex libris. Химическим карандашом, то бледневшим, но набиравшим яркость, оказалось начертано целое воззвание.
«Книга сия является неотъемлемой собственностью подпоручика 3-го Ливенского полка гр. Сергия Коновницына, в силу чего, нечего вам, оболтусам, а особливо тебе, Володька, ее листать – это не Поль де Кок и не Гауптман, а для меня и различия меж ними нету. Взято при последнем посещении родительского дома, дабы мозги sub tentorium не заржавели. Июля 1919 пятое, Принаровье».
– Коновницын, Коновницын… Это чей же будет? – задумчиво нахмурился Энгельгардт. – Из Гдовских, я чаю? Там второго инициала нету?
– Нет, только имя. А он ведь совсем молодой. Может быть, и моложе меня… Как ты думаешь, он остался жив?
– Едва ли, едва ли… Северо-Западная наша армия погибла почти вся… Положи книгу под пресс, она, видимо, отсырела. Переплет коробится.
Но переплет, как выяснила Лена уже у себя, коробился не из-за сырости.
Глава II. За чужим столом
Уютное местечко, Харитоньевский переулок. Тихое, будто и не центр Москвы. Липы в окна заглядывают, приятно. И здание основательное, красивое. Палаты Юсуповых.
Трофим Денисович поднялся из-за стола, прошелся по кабинету. Всё здесь – крытый зеленым сукном стол с резными ножками и ящиками, темного мореного дуба, и тяжелые, как брезент, портьеры из китайского птицами расшитого шелка, серебристого, неброского, и бронзовая лампа под зеленым стеклом на столе – всё оставалось неизменным со времен прежнего хозяина.
Прежнего настоящего хозяина. Муралов ничего переменить то ли не посмел, то ли не успел. Он свое место знал, даром что бывший наркомзём. После того, как сняли, разумеется, из наркомов-то. До этого нагличал немножко, в детские книжки лез.
Полон думой он одной
О земле твоей родной.
Чтоб она дала тебе бы
Каждый день краюшку хлеба.
Смешно, а ведь многие через эту книжонку приключений на задницу нажили. А потому, что дурачье. Разве ж можно в наше-то время с кем-то в компании щеголять? Вот и оказался в одной связке с Каменевым да самим Троцким. Оно конечно, кто мог знать еще, чья возьмёт наверху? Но не знаешь – так и не хороводься ни с кем. Держись идейно, да на особицу. А ежели ты весь брат военного героя, так сегодня он герой, а завтра кто? Вот-то-то.
Сиди себе тихо, планы сочиняй, как мужичков раскулачивать. Впрочем, он и сидел тихо в последние годы, Саша-то. Превосходно понимал, что всего лишь кресло греет в этом кабинете. Вот это самое полукресло, резное, под стать столу. Его кресло. Понимал толк. Барин… Видали мы таких бар, беспартийных президентов… Кто теперь где? Кто на нарах догнивает, а кто – в кресле?
А вести себя – это надо с умом. Когда хозяйственники спросили, менять ли обстановку, он, Трофим, что ответил? «Нечего зря средства народные расходовать. И эта сойдёт».
Еще бы не сошла. Сам бы он нипочем так не обставился. А и не надо нам самим утруждаться. Но мы скромненько, скромненько. Никто ничего не скажет, кроме похвалы.
А все-таки, теперь, когда иные, да серьезные заботы в голове, что ж покойник Саша-то вспоминается?
Сволочь Сашка… Ой, сволочь… Чего вдруг выкаблучивать пошел? Что, уважал тебя Барин, что ли? Ведь знал же ты. Какая цена тебе в его-то глазах… Брезговал… И ведь вначале ты как по нотам пел, показания давал, каких от тебя Хозяину хотелось… Продолжил бы – авось Хозяин бы тебя и пощадил… Хотя, конечно, хрен бы пощадил. А все ж таки, как люди делают, посерьезней тебя: к стенке шагаешь, а все одно кричи славу Хозяину. Он это любит. Чего ж ты, сука, вдруг красивым к стеночке встать захотел, а? Кого ради, ради Барина, что тебя за пустое место почитал? «Меня пытали», да «отказываюсь от показаний»… Фу ты, ну ты, цаца… Да на суде, да открыто… Тебе-то чего, тебя палкой с крюком да в общий ров, а нам с хозяйским гневом тут из-за тебя разбирайся… Ох, гневен был… Лишних три года из-за вас с Фляксбергером на свободе Барин гулял… Хозяин-то, это вам, дуракам, кажется, что хочет, то и воротит, а на деле и он осторожность свою понимает… Очень даже понимает. Это уж как по Европе война пошла, знамо дело, не до Вавилова им там сделалось… Хозяин – он ждать умеет.
Война-то пошла, да… В горле вдруг запершило. Трофим Денисович нацедил в стакан воды из сифона. Сифон был еще немецкий, кто-то подарил к новоселью. Теперь таких не раздобыть. А стакан чудной, вроде стеклянный, а как хрусталь, и разноцветный. Тоже, поди, от Барина уцелело. Как-то вроде называется такое стекло… Вроде название чем-то как раз Муралова напоминает… Муральское? Мурановское? Пёс его знает… Красивое. Эх, только на работе настоящий комфорт и есть у трудящегося человека. Дома-то, дурища, понакупила чего дороже, наступить некуда, а приятности нет…
Чего-то мысли сегодня скачут, как блохи… Ничего, Трофим, не робей… Ты ж, поди, не в Киеве, это тамошние пусть дергаются, а здесь чего, здесь спокойно, в наступление перешли. Ельню вон заняли, нормально. В Ленинграде, знающие люди шепнули, дело погано… Оттуда уже любимых шутов самолетами вывозят, артистов всяких и прочих. На кой черт самолеты ради них гонять? Потерян город, сам Хозяин сказал, дело «безнадежно». Железные дороги все перерезаны, и к Пушкину подступают, и к Красному селу… Эх…
Вновь захотелось пить. Вода, пузырясь, заиграла в стекле. Вспомнилось вдруг: тогда этих необычно праздничных стаканов было несколько. А вода была в графине, таком же – с синими, красными, золотистыми и зелеными прозрачными узорами.
А из полукресла поднялся, навстречу вошедшему, он, полубог с веселыми глазами и по юношески быстрыми движениями.
Он казался здесь, в этой комнате, так уместен, словно дружески гостил у этих самых князей. Как знать, может, и вправду водил знакомство… Он не казался здесь чужим. Барин…
«Присаживайтесь, присаживайтесь… Как же, как же… Успел просмотреть. Весьма интересно, весьма…»
И что-то аж в горле запищало от восторга: одобряет…
«Только знаете… Трофим… Трофим Денисович, да, теперь я запомнил… Не могу не предупредить, для меня это самое важное в ученом… Если метод оправдает себя, это будет немалым шагом вперед… Я готов всячески вас поддержать, без колебаний. Но… пятьдесят на пятьдесят. Результаты могут обмануть ожидания, даже после первых удач, вопреки огромной работе… Вы готовы к разочарованиям? Если да – рискнем. Но поверьте, нет картины печальнее, чем неумение вовремя понять ошибку. Бывает чудовищно жаль потраченного впустую времени. Но эту жалость надлежит уметь преодолеть. Вы готовы и к такому повороту судьбы, принимаясь за столь новое направление?»
Конечно, он заверил тогда: готов. Кто б не стал заверять на его месте? Да и уверен он был в успехе, еще как уверен. Да и не очень-то всерьез эти слова для него звучали. На таком посту оно положено – говорить о всякой ответственности и прочем.
А потом на – отказывайся. Снова сделаться никем – из знаменитости, уже расхваленной журналистами? Серой рабочей скотинкой, начинающей путь к успеху с нуля? Да и выпадет ли следующий-то путь? Многим за всю жизнь и не выпадает ни разу… Ему-то легко рассуждать о научной добросовестности…
Ну, шалишь… За свое, за кровное, любой горло перегрызет. Нет успехов, так будут. Затраты велики, так невелика печаль. Любой результат будет получен, если подбирать сотрудников так, чтобы бились над получением именно заданного им результата[15]15
Действительное «научное» кредо Т.Д.Лысенка.
[Закрыть]. А другие нам не нужны.
Он знал, за что будет бороться.
Ах, каким несокрушимым он тогда казался… А капля камень точит. К тому же – слабое место он углядел почти сразу. Барин не любит ни под кого подлаживаться. Принародно возражает Хозяину. Не постигает, что сами по себе научные открытия в нашей жизни – тьфу.
Так что в борьбу вступать все же было не безнадежно. И он вступил.
Одно время так и шутили с Презентом: Вавилон должен быть разрушен.
Ах, ребячество… Но как было удержаться от мига торжества? Он возвращался в тот августовский денёк из Кремля. Хозяин был весел, он даже осмелился пересказать ему шутку про «разрушенный Вавилон». Хозяин посмеялся, не преминув добавить, что «этот Вавилон это буржуазный Вавилон».
Для самого себя неожиданно, он велел водителю свернуть на Калужскую дорогу. Автомобиль так приятно мчал по шоссе, еще теплый ветерок задувал в приоткрытое окошко, зеленел справа Нескучный сад… Вот и саду конец… Замелькали хозяйственные постройки… Ага, вот они, теплицы московского отделения ВИРа.
Он вылез, не жалея лакированных ботинок, прошел напрямик. Очкарик Глущенко, в брезентовых штанах и синем сатиновом халате, бродил среди багровеющих помидоров, помечая что-то в дневничке.
«Где твой директор?» – спросил он вместо приветствия.
Интеллигент состроил недовольную физиономию, демонстрируя, что «ты» ему, видите ли, не по нраву.
«Откуда я могу знать? – Ответ прозвучал холодно. – Разве я контролирую его работу? Вероятно, он в Ленинграде».
«Его нет ни в Ленинграде, ни в Москве. Он арестован[16]16
Действительный эпизод в буквальном пересказе.
[Закрыть]».
С этими словами Трофим круто, на каблуках, развернулся и направился к машине.
Не стоило, конечно. Но как приятно… Жуть до чего приятно…
В одном только Хозяин дал слабину. Хотя о таком даже думать надо шепотом. Побоялся расстрелять. Мало ли, как война повернет. Вдруг придется отчитываться? В лагере сгниет, так не беда: умер и умер, врачебное заключение пожалте. А расстрелять не решился.
Глупая мысль… Вовсе глупая… А иной раз приходит и мучит, особенно по ночам. Ну как Вавилов – вернется из лагеря? Он же, подлец, живучий: весь Кафиристан пешком прошел, саранчой питался…
Даже снится иногда. Что заходит сюда, в кабинет, на ходу превращаясь из зека в грязной робе в холеного Барина. Входит и подходит. И какая-то сила вдруг выбрасывает его, Трофима, из-за стола… И ветер, ворвавшись в окно, сдувает с зеленого сукна его бумаги… Вместо них вдруг из ничего появляются чистые листы. Вавилов протягивает руку к своему чернильному прибору, начинает что-то писать. Словно бы и не замечая его, Трофима…
Как-то оно пойдет дальше? Война смешала всё, и Хозяин не бессмертен… И отчего-то терзает давняя заноза: неприятное воспоминание о том, как Муралов отказался от выбитых на допросе показаний.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































