Текст книги "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева"
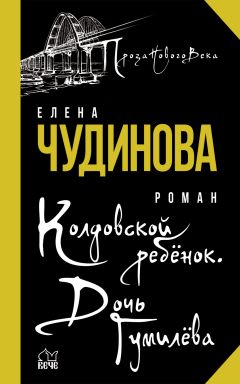
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
– Nicolas, зачем вносить в дом этот хлам? – Лариса Михайловна недовольно поморщилась, увидев на белой китайской скатерти «Известия», «Правду», «Красную газету» и еще какие-то листки, чьи названия были завалены. – Если тебе любопытно, они же на улице висят, под стеклами, не из чего и деньги тратить. А мы с Анет этого не читаем.
– Ах, утомительно и объяснять. – Николай Александрович улыбнулся. – Читайте советские газеты, мои дорогие! Их необходимо читать. Если, конечно, выпал злосчастный жребий жить при советском режиме. В особенности необходимо читать то, что набрано между строк. Тут уж иной раз приходится перечитывать не по одному разу, не сердись на расход. Любопытно, что теперь они не обо всей своей внутрипартийной поножовщине сообщают открыто. Но слухи, вне сомнения, верны.
– О чем ты, Nicolas? И чем ты так доволен, разглядывая эту гадость? – Лариса Михайловна, воротившаяся с прогулки, принялась стягивать старенькие перчатки.
– Нам не придется разлучаться с Аней и Леной.
Лариса Михайловна, побледнев, поднесла руку к груди, словно ей было больно. Казалось, известие больше испугало ее, чем обрадовало. Она боялась поверить.
– Помнишь, есть старая восточная притча о хитреце, который взял золота, обещав шаху за десять лет научить ишака разговаривать. Его спросили, не боится ли он, что по истечении срока шах отрубит ему голову. Плут отвечал: за десять лет сдохнет либо ишак, либо я сам, либо шах. Вот, дорогая, в роли этого хитреца выступал я – в течение четырех лет. Вся неприятность была в том, что мог ведь и не сдохнуть никто. Но, похоже, кто-то все-таки отправился к праотцам. И это не я.
– О чем ты? – Вид пожилой женщины сделался еще более испуганным.
– Успокой себя, дорогая. – Энгельгардт отшвырнул газетный ворох и подошел к жене, все вертевшей в руке перчатку. – И прости, что изъясняюсь тёмно, как трубадур «загадочной» манеры. Забудь о моем плане относительно лесной прогулки. Он был весьма рискованным, но я не видел иного выхода. Но сейчас нас на какое-то время оставят в покое. Шах и ишак сдохли.
– Все пишут, что к власти у опричников пришел некто Ежов. Везде фотографии. Какой-то отвратительный карлик. Едва ли с ним будет лучше. – Лариса Михайловна все еще колебалась, опасаясь разделить хорошее настроение мужа.
– Едва ли. – Энгельгардт рассмеялся. – Но я не ему обещал, что ишак начнет цитировать Маркса.
– Ты?..
– Ларинька, не проси подробностей. Лучше тебе этого всего не знать. Так, один розыгрыш, на какие был щедр покойный зять. Розыгрыш, приведший к нежданным последствиям. Не надо рассказывать страшные сказки дуракам. Но ты словно не рада. Нам не придется расставаться с дочерью и внучкой. О нас забудут сейчас, уверяю тебя. Сейчас они займутся друг дружкой, есть надежда, что убиение невинных если не прекратится, то пойдет потише.
– Ты думаешь, можно надеяться, что террор пойдет на спад? – неуверенно повторила мысль мужа Лариса Михайловна. – Как бы хотелось верить… Лена, ты не забыла зайти в бакалею, как я просила?
– Забыла, бабушка, извини. – Тон вошедшей девушки показался странно безжизненным. Почему-то при ней была сумочка, хотя обыкновенно, возвратясь, Лена клала сумочку на комодик в их с мамой комнате.
– Ленок, что случилось? – спросил Энгельгардт, окидывая лицо внучки настороженным взглядом. – Откуда ты теперь?
– Митя ни в чем не был виноват, дедушка, – произнесла Лена вместо ответа. – Ты зряшно на него подумал плохое.
– Ты все же видаешься с ним? – Энгельгардт нахмурился.
– Нет, мы не встречались три месяца. Покуда не знали, что тебя рассердило. Но потом Митя догадался. Он хотел сам тебе объяснить. Ты думал, что у него есть телефонный номер комиссара Бокия, да? Что он за нами шпионит?
– Господи помилуй, Митя Журов мог звонить этому Бокию? – с ужасом переспросила Лариса Михайловна.
– Погоди, Ларинька, – Энгельгардт жестом остановил жену. – У меня хорошая память на цифры, Елена. Это был на самом деле телефон Бокия, и с твоей стороны было предельно неразумно все это с молодым человеком обсуждать.
– Нет. – Лена оставалась все так же странно спокойна. – Этот телефон дала Мите Аля Бокий. А она делала кукол для маминого театра. Они и познакомились в кукольной мастерской, это ее куклы были к Гофману. Митя просто не знал, кто ее отец. Они об искусстве ведь разговаривали. И она чаще называется материнской фамилией. А недавно Митя узнал – ну и понял, почему ты о нем плохо думаешь.
– Поворот настолько странный, что невозможно не поверить. – Энгельгардт, тем не менее, вздохнул с облегчением. – Но ты не должна обижаться, я был вправе на мои подозрения. Людей и постарше твоего Мити сейчас понуждают к очень скверным делам. Да, придется с ним поговорить всерьез, надо многое выяснить. Пусть он приходит.
– Митя не придет, – все тем же ровным, почти равнодушным голосом ответила Лена. – Его арестовали. Сейчас так много опять расстреливают, дедушка. Митю тоже расстреляют, как ты думаешь?
– Господи, помилуй! – Лариса Михайловна схватилась за воротничок блузки, словно верхняя пуговица вдруг сделалась тесна и душила ее.
– Лариса, скорее! – Энгельгардт метнулся к внучке. – Чайник, завари чаю! Сахар, поищи сахару…
Подхватив на руки странно безжизненную Лену, он донес ее до дивана, уложил, стянул с ножек туфли, принялся укутывать пледом.
– Дедушка, Митю расстреляют?
– Тише, Ленок, тише. Мы обо всем подумаем после, – негромко говорил Энгельгардт, подсовывая под голову диванную подушку. – Не сейчас, не надо сейчас. Сейчас бабушка принесет чаю. Выпусти ручку, сумочка нам не нужна вовсе… Вот так, разожми пальчики…
А ведь могут и расстрелять мальчика, прозвенело словно где-то вдали. Вот же старый дурак, обрадовался, что змеи опять едят друг дружку. Будто им это мешает быть ядовитыми. Уж если арестовывают вовсе своих, безопасных и даже полезных новой власти, таких, как этот Васильев, про которого Аня говорила недавно… Там ведь, по слухам, пахнет расстрелом. Но то пролетарский поэт, а то интеллигентный юноша, дворянин по матери. Уж если пролетарского не пощадили… Дело плохо, будь оно все проклято. Но – после, после. Все после.
– Петя опять не пишет уже несколько месяцев, дедушка. Я не понимаю, что с ним. А Митю арестовали.
Этот ровный механический голос со слишком детской интонацией!
– Сахар у нас есть, Лариса? Ты положила сахару? – Энгельгардт поднес ко рту Лены высокую золоченую чашку с буколической картинкой в медальоне. – Ну-ка пей, душа моя, надо это выпить.
Лена взглянула на чашку с легким удивлением, словно не понимая, что это за предмет и что с ним надлежит делать.
– Пей, моя хорошая, пей!
Лена сделала неуверенный глоток и покосилась на деда, словно спрашивая одобрения.
– Еще немножко…
Следующие глотки Лена сделала уже охотно, согревая при этом о стенки чашки пальцы – ледяные, как успел заметить дед.
– Дедушка!
Благодарение Богу, шок проходил. В голосе звучали теперь слезы.
– Я здесь.
– Дедушка… Но это же Пуленк. Это же «Диалоги кармелиток». Что же – так и будут замолкать по очереди голоса, покуда не останется соло? Кто же будет петь сольную арию? Я раньше верила, что Петя воротится… Но дедушка, это же Пуленк…
Ответить было нечего, но ответа и не требовалось. Внучка плакала теперь – у него на груди, у самого сердца, которому Николай Александрович волевым усилием запрещал болеть.
Глава XXXIII. Не спасти, не спастись…Алёна Бокий бежала по улице Дзержинского так, будто за нею гнались. В ушах свистело, блузка взмокла на спине и подмышками и походила, верно, на тряпку – красивая мадаполамовая блузка, только сегодня надетая в первый раз. Дыхание, впрочем, не сбивалось. Привычная к физкультуре, она бежала всю дорогу, от Китай-города. Проще было, вероятно, воспользоваться транспортом, но Алёна в самом деле не бежала, а убегала, убегала от охватившей ее невозможной жути, от собственного крика, который, остановись на миг, сорвется с губ и зазвенит.
Вдогонку неслись сердитые окрики: какая-то женщина уронила из-за нее кошелку с провизией, какая-то старушонка получила удар локтем в бок, но Алёна не видела и не слышала…
Она заставит отца помочь. Это билось в висках, колотилось в груди. Он сам говорил, что для хозяев жизни нет ничего важнее желаний. Так зачем быть его дочерью, если не можешь получить своё?
Она заставит его понять. Ведь это же так просто для него. Пройти в кабинет, подойти к столу, снять трубку одного из телефонных аппаратов. Даже не ту, что без диска. И всё тут же встанет на свои места. И жизнь будет такой, как вчера, когда она сдуру считала себя самой несчастной на свете.
У Оксаны всегда лучше получалось быть такой, как ему нравилось. Оксана и теперь в большей милости, успела в девятнадцать лет выскочить замуж, и муж ее отцу пришелся по нраву, он отца забавляет. А главное – с тех пор как родилась в прошлом году эта пискливая Алла, к старшим дочерям он ощутимо охладел. Надоели.
Что-то стиснуло горло. Не удастся… Вдруг не удастся? Если б это был Оксанкин Лёва, который свой, какой надо, шансов было бы куда больше.
Нет! Нельзя так думать! Так думать – значит самое же себя настроить на провал. Отец сам сколько раз им это объяснял. Она – хозяйка жизни. Она войдет спокойно, она приведет волосы в порядок, умоется холодной водой. Войдет и скажет, небрежно, весомо: «Папа, ты знаешь… Мне бы хотелось, чтобы ты освободил одного человека. Его на той неделе забрали. Он мне нравится, да, ты угадал. Не знаю, сильно ли. Может быть, это просто мой каприз. Но я так хочу».
В конце концов, она знала, даже на это ее достанет, ей есть чем пригрозить отцу. Способна ли она взаправду донести на него? Нет, конечно нет. Но он же этого не знает. Он поверит. Все эти Павлики и Прони сейчас слишком навязли в зубах.
Вот уже дом, их двенадцатый дом… На какое-то странное мгновение привычное здание показалось девушке чужим и страшным. Давящие столбы, похожие на слепые глаза огромные окна верхнего ряда, тяжелая башня… Глупости. Все завидуют тем, кто живет в двенадцатом доме, не меньше, чем жильцам дома на набережной. Все завидуют. Все хорошо.
Алена замедлила шаг. Ишь ты, к Шнеерсонам из пятой квартиры опять на марусях прикатили. Самого-то Натана Михайловича еще месяц назад забрали, это, верно, за женой. Какое ей дело до совсем чужих соседей, хотя они и невредные были, на них с Оксанкой никогда не ругались, не то что Отто Оттович из десятой. И лишь бы отцу до этих соседей дела не было – станет всех жалеть, не послушает ее. Всех не вытащишь. Странно, что в одиннадцать утра, а не ночью.
Мысли о соседях отвлекли внимание. Алена спокойно вошла в прохладный просторный подъезд. Как обычно забыв поздороваться с вахтершей Сидоровной, взбежала по ступенькам и уверенно шагнула в тяжелую клеть лифта. Гуденье лифтовой машины было приятным. Сейчас она уже, конечно, давно не катается вверх-вниз просто так, к злости Сидоровны и жильцов, но ездить на лифте ей по-прежнему нравится.
У нее все получится. Все будет хорошо. Уже, может быть, к вечеру Митя вернется домой. Она ничего ему не скажет. Иначе б это походило, будто ждет благодарности. Но из благодарности невозможно полюбить. А Митя ее не полюбит, никогда. Ну и ладно об этом. Еще разревешься, а сейчас никак нельзя.
Дверь открыл кто-то из папиных сотрудников, незнакомый. Ох, как некстати. Теперь придется дожидаться.
– Кого впустил сейчас? – раздался чужой оклик из отцовского кабинета.
– Дочь.
– А, ну ладно.
Из спальни выглянула мачеха, непривычно ссутулившая плечи – будто кто-то взорвал у ней над ухом хлопушку. Как вышло однажды на карнавале. И лицо перепуганное – как в тот раз.
– Папа, ты дома? – крикнула Алена. Голос почему-то дрогнул.
– Тише, девушка. Пройдите спокойно куда-нибудь в комнаты и сядьте.
«Они – не к Шнеерсонам…»
Этой мысли оказалось слишком просторно в опустевшей голове.
Ноги, которые только что мчали ее по улицам, вдруг сделались слабыми, какими-то тряпичными. Как у куклы Маруси, которую подарила Але в детстве нянька Никитишна. Сама и сшила, из обрезков, а глаза сладила из пуговиц. Мама велела выбросить Марусю на помойку, у Али же были покупные, настоящие игрушки, из магазинов. И заграничные были, привозили знакомые из командировок. Кукла из Парижа была такая роскошная, с настоящими волосами, в шелковом платьице, с сумочкой и зонтиком, что ее трогать было страшно, не то что играть. А Маруся, как почему-то казалось Але, этими своими глазками-пуговками смотрела взаправду – и превесело. Но мама сказала: «Только перед людьми позориться босяцким хламом!» И Марусю выбросили. Аля долго плакала, а Оксанка над ней смеялась.
Аля еще не знала, что в минуты, когда жизнь переламывается надвое, вспоминаются самые странные вещи, вовсе порой вытесненные из памяти. Поэтому, проходя в кабинет, опираясь рукой о стену, она как-то безжизненно удивилась мыслям о кукле Марусе.
В кабинет Аля прошла лишь потому, что дверь оказалась ближе двери гостиной. Хотелось одного – сесть.
Отца дома, похоже, не было. В комнате шаркали сапогами по китайскому ковру еще трое товарищей. Нет, четверо, Аля не сразу заметила женщину, что-то искавшую за тяжелой портьерой.
Ящики бюро и стола были выворочены, дверцы шкафов – распахнуты. Один из товарищей доставал книги – одну за другой. Перетряхивал, подхватив за корешок, затем швырял на пол. На полу уже высилась небольшая книжная горка. Другой зачем-то прощупывал с задней стороны картину Рериха, отцовскую любимую.
Ни одного из троих (лица женщины видно не было) Алена не знала. Но они показались ей какими-то одинаковыми. Впрочем, нет. Лица были разными. Один похож на латыша, другой еврей, третий курносый. Одинаковым, кроме формы, было только их выражение: одновременно сосредоточенное – как у врача на осмотре, и со скрытым странным удовольствием – как у мальчишки, который собрался плюнуть в твою чернильницу.
– Нашла, товарищи! – Женщина, одетая как мужчины, только в не прикрывающей сапог юбке вместо галифе, повернулась. – Вот где он ключ прятал. Тайничок под подоконником.
Аля в изумлении отступила на шаг, забыв, что только что не держали ноги.
– Фрося, – негромко выдохнула она.
Фрося и не изменилась за это время. Разве что пополнела у нее шея. А губы развеселились, заблестели, будто помадой намазанные. Но ни помады, ни пудры бывшая обслуга по-прежнему не употребляла.
– Фроси никакой тут вам нету, гражданка, – ответила она, небрежно скользнув взглядом по лицу Алены. – Есть товарищ Вёшкина. Покудова вы не под следствием, можно так и говорить – «товарищ».
– Так чего, Вёшкина, нашла ключ-то? – поднял голову над ящиком один из сотрудников. – Или взламывать будем?
– Зачем взламывать? – усмехнулась Фрося, и ее губы опять показались Але ярко накрашенными. – Вот он, ключик, в выемке так и лежал под окном.
Что-то блеснуло в пальцах ее вскинутой руки. Короткие пальцы, некрасивая рука. Ногти обкусывает как раньше. А отец, верно, уже арестован. Их с Оксаной, что ли, тоже заберут? С этим всегда по-разному. Мите она уже не поможет, если б знать хоть вчера… Еще вчера можно было помочь. Теперь всё. Вообще всё.
– Который шкаф? – товарищ, забравший у Фроси ключик, окинул взглядом три высоких и узких черных шкафа, еще не отпертых.
– Не, не эти. – Фрося кивнула с торжеством на комодик змеиного дерева, неприметно стоявший в углу. – Здесь. Самые как есть его дела. Определенно будет интересно товарищу Ежову поглядеть. Нижние-то ящики не заперты вовсе, это от верхнего.
Ящик, выдвинутый полностью, упал из рук на пол, сопровождаемый грязным словцом. Содержимое раскатилось по розово-пепельным рисункам ковра. Один из предметов коснулся сапога ближнего товарища. Тот отскочил, словно боялся укуса.
– Ядрёна мать… – хрипло выдохнул курносый. – Девка-то тут зачем? Выведите ее, что ль.
– Да ладно, – усмехнулась Фрося. – Эти девки сызмала всю срамотень папашину перевидали. Ее еще подрасспросить стоит, с Иванычевыми показаниями сверить. Может, слышала – он с мертвых тел это срезал или прямо с живых?
– Хороший вопрос, – еврей казался подчеркнуто спокоен, но избегал смотреть вниз. – Откуда взяты эти… фрагменты тел. Вы знали, что находится в этом шкафу, девушка?
– Ты, Вайнер, погоди. Как хотите, а девке тут глядеть не на что, – решительно возразил теперь курносый. – Чего она знала, после разбираться будем. Выведи ее, Вёшкина. Заодно и обыщи, ну там, по-бабьи, понимаешь сама.
Фрося, которая теперь отчего-то казалась Але страшнее даже того, что было рассыпано по полу, сделала к ней шаг. Только один.
Аля упала, будто ей подрубили сухожилия. Того, как стукнул о паркет затылок (ковер в этом месте уже кончался) она не ощутила, проваливаясь в черную бездну, которую понадеялась принять за смерть.
Глава XXXIV. Новая метла, новые опричники…– Это дело будем засекречивать. Полностью. И вести тихо, наособицу от больших процессов.
– Так точно. – Порученец, которому не было предложено сесть, стоял навытяжку.
С первого взгляда казалось, будто человек, отдававший распоряжения из-за массивного дубового стола, говорил сидя. В действительности, произнося «судьбоносные» речения, хозяин кабинета предпочитал привставать. Так ему представлялось внушительнее. Можно бы, конечно, заказать кресло с высоким сиденьем, но тогда будут обидно болтаться в воздухе ноги: заметят.
Смеяться, конечно, не станут. Коротышка невольно обернулся. На стене, прямо над его головой, висела большая фотография двух доверительно склоненных друг к другу головами людей. Очень доверительно, очень задушевно.
Смеяться не станут, нет. Но все равно неприятно.
– А с семьей как? Они пока что под квартирным арестом.
– Под каким таким квартирным арестом, что-то я не понимаю. – Хозяин кабинета все же сел. – Это что же – семья врага народа до сих пор пользуется предоставленными пролетарской властью превосходными жилищными условиями, в то время как нам негде размещать кадровые пополнения из других городов?
Шея порученца сделалась краснее петлиц на воротнике. Не все с перепуга бледнеют, случается и наоборот.
– Позовите-ка товарища Вёшкину, – снисходительно распорядился начальник.
Молодая женщина, вошедшая нарочито тяжелой походкой, не вызывала желания вводить ее в замешательство, тыкать носом в вымышленные либо настоящие провинности. Неказистая, грубо скроенная, она тем не менее была чем-то симпатична. Потому ли, что – собственное его, можно сказать, творение. Всем обязана, но ведь чувствует. Так и ест глазами, сидя на самом краешке стула. Уж для этой он определенно – великан.
А есть дураки, что либо слишком запугивают домашнюю обслугу, либо не обращают внимания, что у той на уме. Дураком стал и Глеб Иванович с того дня, как, шикарно притормозив на улице Дзержинского, он, умный Коля Ежов, повез простуху в саржевом платье пообедать в «Прагу». Вразумив снисходительно, что смущаться и не из чего. Мы здесь власть. Любая из этих, расфуфыренных с чернобурками на оголенных плечах, стоит нам пальцами щелкнуть – ноги нам будет мыть и воду пить.
За этим обедом он девку и завербовал – где-то между котлетами по-киевски и пирожным, носившим название ресторана. Сам, лично потрудился. Не под кого-нибудь копал, готовился к грядущей Большой Чистке. Большой Чистке по большим людям.
Молодца Коля, молодца. Умеешь, брат, работать.
Два года сотрудница трудилась самозабвенно, не покидая квартиры Бокия. Уйти он разрешил лишь, когда все было разрисовано в подробностях: связи, планы, разговоры, привычки. Радехонька теперь. А что, вот и форму носит, и личное оружие, и, захочет, так купит себе крепдешиновое платье – да и в ресторан. Уж теперь, поди, не станет робеть от восторга и ужаса, поедая десертной вилкой не объедок с господского стола, а раскрасивую порцию на тарелочке с золотой гофрированной окантовкой.
Нарком приветливо улыбнулся молодой женщине.
– Садись, разговор есть.
Вёшкина села на край стула, поедая начальника глазами. Да уж, как же мало надо, чтобы сделать человечка полностью твоим, с потрохами. Всего лишь – дать вкусить наслаждения расправы над тем, кто то ли обижал, то ли пренебрегал, то ли вызывал зависть. Ничего нет слаще этого. Это как напиток Старца горы, которым тот потчевал своих ассасинов. Кто ж это рассказывал – про этого Старца горы? А… Наш бедолага как раз и рассказывал. Забавно.
– Вот чего, Фрося… Слушай внимательно.
– Слушаю, товарищ Ежов. Только… – Женщина замялась было, но решительно выпалила: – Я теперь не Фрося. Я уж и документы поменяла.
– А кто ж? – Ежов развеселился.
– Фрата.
– Фрата? Это чего ж за имя такое? Еврейское, что ли?
– Нет, просто революционное. Полностью – Фратернита, – выговаривая, Вёшкина усиленно налегла на «и».
– Впрямь революционное. Сама придумала?
– Нет, в загсе предложили. У них теперь новый список имен, для детских октябрин. Ну и взрослые, кто захочет. Меняют некоторые. В тот день предлагали женские на выбор: Фратернита, Эгалита и Либертина. Я теперь Фратернита Молотовна по документам.
– Звучит хорошо. – Нарком смотрел теперь Вёшкиной в глаза – глубоко пронизывающим долгим взглядом, словно пытался хорошенько разглядеть через зрачки, что происходило в ее голове. – Только вот ты ведь по личному делу – сирота? Не жалко имени с отчеством – все ж память родительская.
– Я так понимаю, товарищ Ежов, что при нашей советской власти сиротой быть невозможно, – бойко отчеканила бывшая Фрося. – А что родители? Темные были люди. По святцам назвали, в честь какой-то Евросиньи Полоцкой, чуждого элемента. В наше-то время – какие еще деревенские Ефросиньи?
– И то верно. – Взгляд Ежова обмяк. – Но к делу. С бывшим твоим объектом номер один мы, как ты понимаешь, разбираемся сейчас. Но ты долго наблюдала семью, знаешь, что к чему. Слыхала, небось, про директиву на «детей-мстителей»?
– Слыхала.
– Какие твои характеристики на семью? Дочери, молодая жена? От кого чего ждать?
– Жена – мямля. – Для Вёшкиной настал новый приятный миг – ведь сейчас, она понимала, и от нее зависят судьбы этих всех. – Побаивалась она мужа-то. Сама не решится ни на что. Тихо сидеть будет. В страхе, чтоб писклявку при ней оставили, в детдом не забрали. Да и за себя будет дрожать, понятное дело.
– Старшие дочери?
– Разные они. – Фрата наморщила лоб. – Оксанка, она, ох, бойкая. Что она, что Лёвка ее. От них всего можно дождаться.
Фрате неожиданно вспомнилось, будто вчера, кирпичное платье с голыми плечами, что примеряла Оксана в последний день ее, тогда Фроси, пребывания в доме. Фрося же и принесла его от портнихи, а Оксанка собиралась покрасоваться вечером перед гостями. Этого Фрося уже не увидела, пора было следовать за осторожно вынесенными накануне вещами. Красивое платье. Одна материя такая богатая.
– А старшая, Алёна?
– Эта – водоросль, хуже мачехи. – Фрося пренебрежительно усмехнулась. – Вообще блажная какая-то. В мастерской кукольной работает. Последний год даже и денег у отца не хотела брать, мне, мол, хватает.
– Понятненько. Ладно, будем разбираться. Ты, Вёшкина, молодцом справилась. Буду тебя продвигать. – Ежов поднялся, было отпуская сотрудницу, но передумал, сел вновь. – А вот скажи-ка… Ты раз деревенская, так ведь не барышня кисейная. Грязной работы не боишься? Курам головы скручивать доводилось?
– Знамо дело. И курям шеи сворачивать умела, и поросятам лишнее чекрыжить. – Фрося на мгновение испугалась, не догадается ли всесильный начальник, что поросята были свои. Но вроде пронесло.
– Это хорошо. Со мной будешь работать. Мне нужны такие, что не соплились. А то знаем некоторых, на словах-то ух какие, а дело поручишь – в обморок. Ладно, ступай.
Да, кадр толковый, мелькнуло в голове вслед закрывшейся двери. Особливо красивых баб колоть будет – как орехи. Ну да ладно.
Дело придется секретить, заметать следы. Всего неделю дело в работе, а уж такого набралось, что никому знать не следует. Даже Хозяину.
Ежову показалось вдруг, что кто-то смотрит в затылок. Ощущение было не из приятных. И все же – с Бокием надо расправляться по-тихому.
Он бережно переставил по другую сторону бронзового письменного прибора чернильницы красивую коробочку из слоновой кости, с тонким орнаментом в виде павлиньих перьев. Поколебавшись, открыл. По донышку перекатывались кусочки свинца, снабженные этикетками с фамилиями. Особая красивая коробочка – чужих здесь нету, только свои. Скоро в ней будет немалое прибавление. Одну из новых пуль выковыряют по его приказу из холодеющего тела Глеба Ивановича Бокия. Щипцы раздвинут бледную, будто резиновую, кожу, без особых церемоний полезут внутрь по дорожке пули. Не сегодня еще, конечно. И не завтра. Но и затягивать не стоит.
Надо прикрывать все эти секретные лаборатории, в расход всех участников – с испытуемыми вместе. Их время прошло, время всех этих учеников махатм, орионийцев, масонов и прочей шушеры. Хотели слишком многого – бессмертия того же, да и много чего еще. И начали упускать, что до бессмертия можно не дожить, хоть на миг отвлекшись от самого главного – от борьбы за власть между своими. Хозяин вдесятеро умнее их всех – он не заморачивается пустяками, он обхитрит, обведет вокруг пальца любого. Кто не понимает, что нет ничего сладостнее и важнее власти, тот теряет власть.
Это ж надо, над чем Бокий сидел в последние два года. Изучал колдовство черномазых. Какие-то надежды у него были… Ну да это не особо интересно. Проект «Трильби». Что еще за Трильби? Мудреными словечками любим щеголять, легендарные Горные институты демонстрировать? Мы тоже, положим, слышали слово трилобит, лектории посещали. Только теперь не это нужно, граждане колдуны.
Бумажные кипы каких-то зашифрованных записей, переложенных личными делами путешественников по Черной Африке… Половина имен тоже заменена оперативными псевдонимами. Вот этот, к примеру: «Тесть». Чей такой тесть, хотелось бы знать… Нет, знать вовсе не хочется. Иваныч бы, в деревенских ручках той же Фроси, которую еще надо, конечно, немножко подучить, мигом бы все как есть рассказал. Но лучше, чтоб такого даже в протоколах не было. Мечтатели, заменили Бога на чёрта и решили, что чёрт им наворожит… А черт черта знает, есть ли он.
Всё подчистить. Мы никогда не отклонялись от материализма. Подлежащие чистке партийцы повинны только в заговорах, уклонах, шпионских связях.
И усилия должны быть сейчас особенно направлены на материальное. На важнейшие стройки недостает рабов. Из этого, конечно, не вытекает, что нужно меньше расстреливать. Нужно лишь получше различать, кому нельзя давать ни крошечного шанса. В лагеря надо слать «ошибочников», как зовут в Доме баранов, твердящих, что взяли их «по недоразумению», бедняжечек неповинных. Да кому ваша вина нужна? Нам нужны сегодня планы, а не вины.
Проще надо, конкретнее. Спускать на места разнарядки, сколько голов нужно для производственных нужд. По расстрелам тоже нужны разнарядки, чтобы без этой самой самодеятельности. Они всей информацией не владеют, так что пусть выполняют конкретные указания. Столько всего еще упорядочить…
Ежов задумчиво закрыл и отложил коробочку. Голова тяжелая, пора бы домой… По дороге еще заехать в спецраспределитель… Сказать чтоб позвонили им, пусть пока не закрываются, кстати. Взять для Наташки килограмм конфет «Гулливер», она любит – за то, что огромные. Каждая прямо как плитка шоколада.
Бокий, что сейчас плюётся на нарах выбитыми зубами, своим девкам, бывало, заказывал кукол по заграницам. Ну и олух. Буржуазной роскоши хотел. Можно подумать, малое дитя различает, из Парижей ли кукла. Главное что, чтоб у него все было, у дитёнка, чего другие дети хотят. Вон, у Наташки в комнате – верблюд на колёсиках, под седлом, катайся не хочу, ну и что, что страховатый на морду. Да, легкая наша промышленность не блещет, потому – не до пустяков. Но ведь главное-то в жизни не непонятное «хорошо», а всякому ясное «лучше, чем у других». Так что – только, как они сказали б, эти, «карму» себе портить заграничными заказами. Он таких глупостей не допустит. И никаких иных тоже. И Натаху правильно воспитает.
Ежов расслабленно обмяк в слишком большом для него кресле. Хоть успеть уставшему человеку, пока ребенка не уложили, поиграть с дочерью. Смешная все-таки, кучерявая, как негритенок, волосы прямо дыбом. Жаль, не растут длинными. Не спи, вставай, кудрявая! Ей, когда папа дома в выходной, очень нравится, чтоб будил ее этой песней, этими самыми строчками. Кудрявая, что ж ты не рада… Ну, тебе, Натаха, радоваться фабричному гудку не придется. Повезло тебе с папкой. Все твое, только захоти – хоть «Гулливер», хоть «Дирижабль», хоть луна с неба. Мы здесь власть. Ну пусть и неродная ты, что поделать, если не получается с бабами… Женька хоть понимает. Ну, ее, Женькины похожденья он ведь тоже понять готовый. А девчушке, главное, хорошо. Родная, неродная, предрассудки все это. Кто воспитал, тот и папка. Да… Запоешь над кроваткой – не спи, вставай, кудрявая, так и подпрыгнет. Хочу, папа, того, хочу этого, сразу. Бойкая такая растет. Кстати ведь, поэта-то этого, с фабричным гудком, тоже бы в расход пустить. Как его? Корнилов. Экая фамилия незадачливая, нет ли тут чего, не подделана ль биография… Но сперва, сперва – Васильев. Обнаглели творческие работники, думают, раз пролетарские, так им всё и можно. Один кулачье недобитое жалеет, другой анекдоты спьяну загибает.
Нет, шалите. Вы не власть, вы обслуга. И потому должны страх понимать.
Ежов, свернув неудобную крышечку со стоявшей под рукой жестяной коробочки монпансье, положил в рот сразу три разноцветных леденца. Бокий олух. Ягода – лопух. Экий молодец сочинил про «ежовы рукавицы»! Хорошие, колючие рукавицы – и на руках у него сидят крепко.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































