Текст книги "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева"
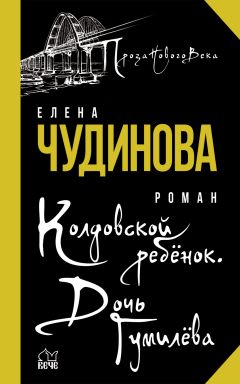
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
Глава XXI. Мотивы Грига
Лена давно не развязывала своей ладанки. Не было сил порадоваться своим сокровищам, особенно теперь, когда каждый день являл новую перемену в матери. С отъездом театра Анна Николаевна словно начала таять заживо.
Этого почти не сказывалось в ее обыденном поведении. Отчасти стало и легче, ведь больше не требовалось делать сверхчеловеческих усилий – репетировать, играть. Появилось больше времени на очереди, дважды посчастливилось получить по карточкам не только хлеб, но и немного ячневой крупы.
Мама горюет, горя слишком много. Но отчего кажется, что она словно делается с каждым днем все прозрачнее? Еще немного – и через нее можно будет видеть, как через легкий сизый дым.
Пальцы развязали ленты. Хоть капельку бы отвлечься от этих сводящих с ума мыслей… Нет, все ей мерещится. Не надо больше этих мыслей, не надо…
Первым в руку попал дневничок Коновницына. Сколько ж она его не перечитывала? Странно… Странички в какой-то серой тяжелой пыли… Откуда могла взяться пыль в завязанной ладанке?
В непонятной тревоге Лена вытряхнула содержимое на стол. Пыльным было всё. И купюра СЗА, и письмо безымянного молодого барона, и листочек с гербом… Горсточка пыли посыпалась и на скатерть. Чего-то недоставало среди ее сокровищ. Лена не сразу поняла.
Откуда же она, эта пыль… В ней посвёркивали какие-то цветные крошки. Желтые. Крошечные лохмотья краски.
Папа! Папочка…
Твой солдатик погиб.
Больше у меня от тебя ничего не осталось. Почему он рассыпался в прах[34]34
Так называемая «оловянная чума», реакция металла на переохлаждение.
[Закрыть], твой стойкий Желтый кирасир?
Что могло с ним случиться? Кирасир, почему ты ушел с поста?
Лена тихонько собрала и сложила все вещицы обратно.
Мама умрет.
Это не ее страх, это такая же данность, как то, что сегодня наступит ночь.
Мама умирает. Мама умрет.
У нее отняли то, что давало ей силу жить.
Театр, мамин театр, теперь стоял безнадежно пустым… В нем словно сделалось много холоднее. По-хозяйски, нагло забегали голохвостые, неуловимые крысы. Словно чуяли, что теперь им – можно. Куклы, не взятые в эвакуацию, висели как неживые среди сложенных декораций.
Все, вообще все вокруг сделалось каким-то неживым.
…
Анна Николаевна лежала, укрытая шубкой, на диване, служившей ей кроватью.
– Мама…
– Я не сплю, дорогая. Просто греюсь.
– Мамочка, я сейчас подкину в печку дров… Не надо так лежать, днем. Может быть – пройдемся до театра? Театру ведь грустно без нас, у него лишь мы и остались.
– Завтра, Ленок, лучше завтра. Что-то у меня слабость сегодня. Слабость… И всевозможные мысли… не подумай, это хорошие мысли. Присядь, я сейчас вспомнила одну историю, расскажу. Надо же, сколько лет не вспоминалось. О твоем отце.
Лицо Анны Николаевны казалось даже отдохнувшим. В нем больше не было этого страшного, вымученного выражения, что появилось, когда театр покинул город. К чему эти страшные фантазии? Кто сказал, что мама может умереть? Ведь даже и хлеба добавили недавно. И весна скоро.
– Расскажи! Пожалуйста, расскажи. Я люблю слушать твои рассказы про папу, ты знаешь, как люблю.
– Голова немного побаливает. – Анна Николаевна вытащила гребень. Волосы золотистой волной рассыпались по подушке. – Я была твоих лет. И еще очень глупая, ты умнее. В то лето, лето нашей помолвки, меня очень печалил один пустяк. Ты знаешь, я привыкла с детства к цветочным лавкам. Теперь таких нет. Продают иногда розы… продавали перед войной… Но все не то. Это не букеты, а какие-то охапки. А у нас были орхидеи, в стеклянных с позолотой коробочках, в темно-красных лентах… Корзиночки с полевыми цветами, сплетенные из нарядной шляпной соломки… Все это было так радостно… Но в то лето шла война… Я как-то посетовала, не всерьез… Но Коля выслушал как-то слишком серьезно, я уж и пожалела, что сказала. Пару дней он расхаживал с каким-то загадочным видом, это он умел на себя напустить. А потом с утра… Очень рано, так рано не приходят. Застал меня с распущенными волосами, как сейчас.
– Папа приходил сюда? Ходил по этим комнатам? Ты знаешь, мамочка, мне всегда так трудно это представить…
– И очень любил стоять в этих трех окнах, когда курил свою папиросу. Здесь ведь была моя комната, раньше. Но так вот, в тот день… Я было испугалась, будто что-то случилось. Представь, он был небрит. Небрит и бледен. И в смявшихся воротничках. «Извини, Аня, я некстати. – Он так по-мальчишески улыбнулся, что от сердца сразу отлегло. А глаза у него так и сияли. – Я на минуту, после пойду спать. Я, видишь ли, не спал всю ночь. Бродил по парку. Искал кое-что для тебя». – «В парке?» – «Надежнее было бы в лесу. Ну да что поделаешь. Тебе же грустно было без цветов? Без красивых цветов?» – «Коленька, но зачем ночью?» – «А ты помнишь, какая сегодня ночь?» – «Со среды на четверг». – «Эх, ты… – Он рассмеялся, страшно довольный. И протянул мне, извлекши из своего платка, цветок, всего один. Небольшой, похожий немного на кувшинку. Но багряного цвета, с золотистыми прожилками. Цвет его был так ярок, что мне показалось, будто он бросает отблески на его ладони, как уберегаемый от ветра огонек. – Сегодня Иван Купала».
– Мама! Это в самом деле был цветок папоротника?!
– Не знаю, дорогая. – Анна Николаевна улыбнулась, но словно и не Лене, а воспоминанию. – Но я поверила тогда, не могла не поверить. Уж таков он был, твой отец. В тебе тоже это есть… Простит ли меня Галинка, что тебя я всегда любила больше? Это несправедливо, это дурно. Но ты так на него похожа…
– Мамочка, не думай так! Ты со всеми самая лучшая. И ведь как хорошо, что Гали нет сейчас здесь. Ведь это же просто прекрасно…
– Но так тяжело без писем… Полгода ничего. Да, хорошо, что ее здесь нет, я знаю. Но знаю и другое – с тобой бы я не смогла расстаться ни из каких разумных соображений. Просто бы не смогла.
– Со мной тебе и не придется расставаться никогда! – Лена поднесла руку матери к лицу, поцеловала в ладонь. – Не станем сейчас говорить о грустном. У меня тоже были плохие мысли сегодня, а сейчас, когда мы с тобой так хорошо вдвоем разговариваем, они растаяли, как грязные льдинки. Скоро снимут блокаду, увидишь. И будут письма. Сразу штук десять. Они ведь все ждут где-то, уже написанные. Скажи лучше, а что было с цветком?
– Я не стала его показывать знатокам ботаники. Через несколько дней цветок словно бы стал бледнее, не так полыхал огоньком. Не хотелось, чтобы он осыпался. Я его засушила в одном из своих дневников. Кажется, это был последний дневник. За восемнадцатый год. Открою тебе секрет. Замужние женщины почему-то перестают вести дневники. Уж не знаю, отчего. Но да – девушки ведут дневник почти всегда, и почти всегда его забрасывают после венца. Я покончила с этим унынием, не тревожься. Завтра я буду бодрее. И в самом деле – проверим театр. Ты знаешь, у меня сейчас разыгралась забавная ложная память. Я сказала, что Коля любил курить, стоя в этих окнах. Но почему-то мне кажется, что он стоял там, когда я ему играла на фортепьяно.
– А этого разве не было?
– Как же такое могло быть? Это же была моя комната. Фортепьяно теперь здесь стоит, но раньше оно могло стоять только там, где принимают гостей. Nicolas иногда заходил ко мне в комнату, но это уж он был жених.
– Я все забываю о таких вещах. При мне фортепьяно всегда стояло только тут, в нашей с тобой комнате.
– А поиграй мне сейчас. Мы так давно не садились за инструмент.
– Но ведь его давно не настраивали…
– Неважно. В доме должна звучать музыка. Хоть иногда, нельзя об этом забывать. Неподдельная музыка, не из уродливой коробки радио, не с патефонной пластинки… Это не музыка, это муляжи музыки.
– Что тебе сыграть? – Лена послушно подошла к инструменту.
– «Du fatter ei Bølgernes evige Gang».
– Ну конечно же. – Лена, улыбаясь, подняла крышку. – Мама, а все-таки я и тут похожа на отца, ведь правда же? Я более-менее пристойно играю только потому, что ты столько билась надо мною в детстве. Но моя игра все равно несопоставима с твоей.
– Но мне дорого тебя слушать.
Пальцы Лены коснулись клавиш. Такие истончившиеся, с некрасиво проступившими костяшками, что могло бы показаться, им не под силу извлечь звуки из инструмента.
Но музыка зазвучала. Сначала неуверенно, затем смелее и словно бы громче. Северная музыка, созвучная северному городу, родная низкому небу и холодной соли вод. Созвучная зиме, но исполненная затаенной весенней надежды.
Анна вздохнула, но этот вздох был легок. Телу сделалось уютно и тепло. Душу, словно золотая паутина, окутывало ощущение сладостного, долгожданного покоя.
Лена еще некоторое время продолжала игру. Уже после того, как все поняла, услышав этот легкий вздох.
Глава XXII. Девичьи разговоры
Жизненная сила теперь напоминала своего рода волны. В «прилив», как привыкла определять это состояние Лена, можно было что-то делать по дому, выходить, читать, заниматься, думать, интересоваться новостями с фронта. В «отлив» приходилось ложиться – не всегда даже в постель, то и просто на оттоманку, как придется. Ложиться и впадать в полусон, длившийся то несколько часов, а то день и другой. Каждый отлив мог оказаться последним. Тем более, что за пропущенный день хлеба не выдавали. А есть в «отливы» и не хотелось. Зато с новой мучительной силой голод говорил о себе в «приливы».
Вполне может быть, что последним отливом окажется этот, безразлично думала Лена, лежа одетой на маминой кровати. (Свою раскладную она определила на дрова – зачем теперь столько кроватей?)
Мартовский день пробивался в окна. Ледяные сказочные узоры, которые она так любила в детстве и вовсе разлюбила в эту зиму, на прошлой неделе сошли, хотя снег еще не думал таять. Стекла сделались грязно-прозрачными, серыми.
– Девочка, ты дома одна? – Женский молодой голос прозвучал заботливо. – Почему у тебя не заперта дверь? Разве можно… Скажи пожалуйста, ведь здесь живет Елена Николаевна Гумилева?
Лена открыла глаза. Тусклый свет сумрачного дня позволил разглядеть молодую особу в полушубке цвета слоновой кости и такой же ушанке со звездочкой. Лямки сидора на плечах, ствол мосинки, выглядывающий из-за спины. В разновидностях обмундирований РККА Лена не разбиралась, поэтому определить род войск едва ли сумела бы. Если ей все это не примерещилось.
– Я вас слушаю…
– Господи! – В голосе незнакомки прозвучал ужас. – Это ты… Вы и есть… Вы Елена Николаевна?
– Да. – Особо удивляться нежданной гостье не было сил. Как-нибудь сейчас все само разъяснится.
Не тратя больше времени на слова, незнакомка торопливо сняла свою амуницию и полушубок, принялась развязывать тесемки мешка.
– Вода кончилась? Нужно за ней идти? – спросила она, что-то вываливая на пол.
– Вода есть… в кране.
– Вот это отлично! – Девушка, это была несомненно молодая девушка, оказавшаяся без шапки темноволосой, с красивыми короткими кудрями, подложила дров (четыре куска двух ножек соседской табуретки) в печку. – Совсем огонь угас. Лежите, Елена Николаевна. Я сейчас сделаю чаю.
– Там немножко зверобоя оставалось… В фарфоровой банке.
– Я разберусь.
Под основательные хлопоты, воцарившиеся в комнате, Лена опять впала в полусон. Отлив сильнее прежних, вновь подумалось ей безразлично. Так можно и уплыть.
– Елена Николаевна!
Кто-то, поддерживая за плечи, поднес к губам теплую ложку. Она невольно сделала глоток.
Чай… Настоящий крепкий чай. Сладкий, с сахаром, очень сладкий, как сироп.
– Как хорошо… – Забытый вкус оказал такое действие, что Лена приподнялась на кровати сама. – Извините, я чуть не заснула.
– Еще выпейте немножко… Кружку удержите?
– Такую роскошь я не пролью. – Лена улыбнулась, глядя, как девушка продолжает хлопотать вокруг стола. – Вы ведь с передовой? Я могу быть чем-то полезна?
– Извините, не представилась… Меня зовут… – Гостья неожиданно замолчала, почти с испугом глядя на что-то в глубине комнаты. – Это…
Лена обернулась. Всего-то полкружки горячего чаю, половинка незнакомой чужой металлической кружки, а сколько вдруг сил…
Девушка, не отрываясь и странно изменившись в лице, смотрела на куклу, угнездившуюся в кресле.
– Это Пагат. Память о маме. Ее театр уехал, а кукол к Гофману оставили. Сказали, что не станут ставить Гофмана в эвакуации. Взяли сказки попроще. А одну куклу я унесла обратно домой. Вправду же он хорош?
– Не знаю. – Девушка замялась. – Я глупая, можно было и не удивляться. Это, видите ли, Елена Николаевна, это моя работа. Несколько лет назад я делала этих кукол для спектакля по Гофману.
– Так вы и есть та девушка из Москвы? – Допивая сладкий и крепкий чай, Лена вновь обретала способность воспринимать происходящее. – Мне Митя Журов о вас рассказывал.
– Я не знаю, все ли он вам рассказал. – Лицо девушки сделалось напряженным.
– Все, – ответила Лена. – Так стеклось, что ему пришлось раскрыть нам ваш секрет, не вините его. Вы Аля Бокий?
– Доллер, – ответила девушка. – Я взяла фамилию мамы. Но не думайте, не после того, как отца расстреляли. Раньше. Я просто любила маму. А про отца мне тяжело говорить. Он был страшным человеком. Немыслимо страшным. Я о нем почти не вспоминаю.
– Для меня вы прежде всего просто Аля из Москвы, та Аля, что делала для маминого театра чудесных кукол.
– Уже не из Москвы. – Аля улыбнулась. – До войны я жила в Александрове. Сто первый километр для всех, в столице неугодных. Но на это я не жалуюсь. У меня там есть комната в общежитии, около старого большого парка. Мне там хорошо. И главное – подальше от всего. Давайте-ка еще чаю… И я тоже выпью. Мы тут вовсе огрубели в окопах. Я не сразу заметила красивые чашки на столе, вот смешно, кинулась вас поить из своей солдатской кружки…
– Возьмите себе чашку. А я уж тогда допью из кружки. Настоящей солдатской. – Лена улыбалась.
Аля, с занятыми руками, опустилась на пол около дивана. Кроме чашки и кружки она принесла еще и сухарь, который принялась ломать на кусочки, протягивая с перерывами Лене.
– Елена Николаевна, после я вам дам еще один сухарь, даже с лярдом. Но не сразу, вечером. Я вам оставлю немножко всякого – сахару, сухарей, по баночке лярда и тушенки. И чай еще есть.
– Но это же ваш паек…
– Ничего. Мы на фронте все же не голодные. Не слишком он большой, вот это жаль…
– Волшебный вкус. Я давно не ела такого хлеба, почти без примесей. Аля, а как же вы меня нашли? Едва ли у Мити была необходимость оставлять мой адрес, да и хоть так, он бы затерялся давно…
– В адресном столе.
– Но… он же не работает.
– Я один раз была в Ленинграде перед войной. Тогда и зашла в стол, узнала ваш адрес. Но тогда зайти не решилась.
– Но почему? Почему даже сейчас вы захотели найти меня? – в голосе Лены не было подозрительности. Только желание понять.
– Из-за него… Из-за Мити… – Алин взгляд сделался незрячим, обращаясь в прошлое. – Вы были ему очень дороги, Елена Николаевна… Я догадалась… Он этого не говорил, конечно… Но каждый раз, как случайно о вас упоминал, прямо светился весь. Елена Николаевна, у меня и тогда не было в мыслях с вами соперничать. Вы поймете: мне нельзя замуж, нельзя иметь детей. Нельзя.
– Дети ни в чем виновны не бывают, – возмутилась Лена. – И перестаньте, Аля, наконец, величать меня по отчеству. Мы же ровесницы.
– Виновны – нет, прокляты – да. Я попробую, Елена Николаевна… Елена… Это горькая тема. Я много думала, и мое убеждение не переменилось. К тому же я все равно люблю Митю. А его нет.
– А я люблю другого человека. Митя мне был как брат, с детства. Настоящий-то брат… Но что о нем. Братом я считала Митю. Он был самый лучший брат, который всегда меня защищал. И Митя бы полюбил вас, я уверена. Я думаю, что уже понемножку любил… И мы бы все вместе ходили на спектакли моей мамы, спектакли с вашими куклами… Аля, как странно… Мы с вами так молоды… Вроде бы наша жизнь в самом-самом начале. Почему же все мертво вокруг? Разве так может быть? И будем ли мы живы сами, вы в боях, я здесь… Я бы уснула сейчас, если б вы не пришли. Как это все немыслимо…
– Благодарю Бога, что я смогла к вам выбраться!
– Аля, вы верующая? Это сейчас так редко… Только у нас, бывших. И у простых совсем людей.
– Я не знаю, Елена Николаевна…
– Лена! Сколько можно, Аля?
– Больше не буду. Я крещеная… Моя мама… Она тоже была из семьи революционеров… Но под конец она как-то переменилась… Она лгала отцу, что меня покрестила по недосмотру нянька… Но это она просто боялась… Он крестик обнаружил, случайно… Она сама. А сестру он уже смотрел в оба, не дал. Я крещеная.
– Как хорошо! Значит, вас поминать можно… Сколько буду жива, помолюсь. Больше ведь некому за вас молиться.
– Вы будете живы. Вы должны жить. Ради Мити, ради всего… Вы такая… Такая…
– Такая смешная в своей детской одёжке. Но этот матросский костюм очень уж тёплый… И оказался впору. Я носила его в одиннадцать лет.
– Не шутите так… Не смешная, нет. Теперь я вижу, вас нельзя не любить. – Аля, отставив кружку на пол, с силой сжала истонченные запястья Лены в своих руках. – Вы светлая, Елена… Лена… Вы нездешняя… Лена, вы должны жить. Ради нас, замаранных в этой грязи. Нам надо на кого-то уповать. Вы будете жить! Я постараюсь вам что-нибудь присылать, будут оказии. Вы должны жить. Иначе ничего не имеет смысла.
– Пол холодный. Снимите валенки и залезайте ко мне. Вы ведь не уйдете сегодня?
Аля, скинув сыроватую обувь, забралась на диван. Девушки закопошились, устраиваясь под тулупом вдвоем. Сделалось тепло.
– Я в отпуску на два дня. Если позволите, я останусь у вас.
– Конечно! У меня в самом деле идет вода из крана. Немножечко. Но можно нагреть и вымыть голову.
– Это счастье. А дров хватит?
– Вполне. Я прогнала соседей и ломаю их мебель. Сейчас пустила на дрова целых четыре кухонных стола.
…День постепенно сменился вечером. Они все говорили тихонько, делясь воспоминаниями о Мите. И посреди рассказов в конце концов уснули – не страшным и не смертельным сном.
…
Среди прочих радостных вещиц в Алином сидоре нашлась стеариновая свеча.
На следующий вечер она украсила стол, к большому удовольствию Лены.
Теперь обе девушки уже сидели за этим столом. Днем занимались обыденными хлопотами. Выстирали и высушили около буржуйки Алину гимнастерку и еще кое-что из одежонки, помогли друг дружке вымыть волосы.
– Ой, как же хорошо… – Алины кудри блестели, темным облаком распушившись вокруг лица. На коленках ее расположился соскучившийся друг – кукла Пагат. – Самое на фронте страшное, это грязюка… А я вшей боюсь, ужас. Просто визжу, как увижу. Ничего не могу с собой поделать. Но у нас в роте завшивленных нету. У нас с гигиеной строго.
– Здесь тоже… И грязь и вши. – Лена сидела простоволосой, досушивая волосы. – Это огромное счастье, что в доме нашем есть вода[35]35
Воду подавали менее, чем в сотню домов, но дома такого случайно и огромного везения существовали.
[Закрыть]. Аля, а что теперь на передовой? Во вторник[36]36
10 марта с 16.00 часов по городу выпущено 300 снарядов. 63 погибших.
[Закрыть] нас очень сильно обстреливали… Они все так же близко стоят, немцы? Говорят, от завода только четыре километра.
– Готовимся к наступлению на Любань… Так говорят, во всяком случае. Может, и отбросим километров на двадцать… Не знаю. Но пока что да. Я ведь пешком до города прошла. Близко, очень близко… Трудно наступать. Кавалерию вот присылали к нам. А где фураж? И вообще – ну куда в нынешней войне кавалерия? Теперь уже они все в пехоту переведены.
Лена грела пальцы о стенки чашки. Чай издавал упоительно настоящий аромат. Она старалась пить понемножку, растягивая наслаждение. Надо будет после Юрия Сергеевича на чай позвать.
– Аля, а вы в каком роде войск? Я только в старых знаках различия разбираюсь.
– ПВО. Я рядовой боец ПВО. Ничего интересного, честно говоря. Те же бомбежки, что и у вас, грязь и холод. И много смерти. Я вблизи ни одного живого немца еще не видела. Совсем другое воображалось, когда в военкомат день за днем ходила. Других девушек сразу брали, а меня вначале не хотели. Ну а после, как уж совсем плохо сделалось, уже всех подряд пошли набирать.
– Вы ведь доброволец?
– Да. Я решила, что так лучше.
– Раньше этого слова не любили. А теперь оно явилось вновь. – Лена поднялась, прошла к маленькому бюро в эркере, выдвинула ящичек. – Аля, вы знаете… У меня к вам одна просьба.
В ее руках оказалась перевязанная лиловой лентой пачка писем. Нет, бумаг. Сложенных вчетверо или вдвое разных листков – от благородной верже до разлинованных карандашом тетрадных страничек, потемневших до цвета заварки.
– Я вам могу это доверить. В память Мити. Знаете, это стихи. У нас было что-то вроде игры. Поэтический клуб, гильдия. Нас было трое. Я, Митя… и еще… еще один мальчик. Тут стихотворения всех троих. Если что, я ведь одна. Родня, какая осталась, далеко. Покуда они доберутся до города, в квартире незнамо кто сто раз похозяйничает. Я верю, вы сохраните.
– Елена Николаевна! – Аля гневно вспыхнула. – Я уже говорила – вы должны жить! Вы сами их сохраните, зачем расставаться? Лена, ну к чему такое придумывать?
– Не негодуйте сразу. – Лена все теребила шелковую нежную ленту. – Эти стихи важно сохранить. Они хорошие, во всяком случае, часть из них. Они имеют право жить. Может быть, когда-нибудь они еще увидят свет. Но сейчас я говорю так не потому, что собираюсь умирать. Я постараюсь выжить. Но мною движет здравый смысл. Видите ли, я все это помню наизусть, каждую строчку. Если мы разделим – рукопись у вас, а память у меня, то шансов у стихов будет больше ровно вдвое. Неужели вы не понимаете этого? Никогда не надо, как в поговорке, класть все яйца в одну корзину. Ну хоть одна же из нас доживет до конца войны?
Некоторое время Аля молчала, сосредоточенно раздумывая.
– Хорошо, Елена… Лена. Я сберегу, будьте уверены. И сразу как смогу после войны – привезу вам. Давайте лучше обе будем живы.
– А я разве спорю. – Лена протянула Але бумаги. – Это странно, но я все же хочу жить, даже теперь, когда у меня нет больше мамы, деда и бабушки. И Мити, и… Странная вещь – эта жажда жизни.
Свеча горела празднично, ярко, не чета коптилке. Две юных девушки, светлая и темная, спокойно продолжали свой разговор о жизни и смерти.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































