Текст книги "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева"
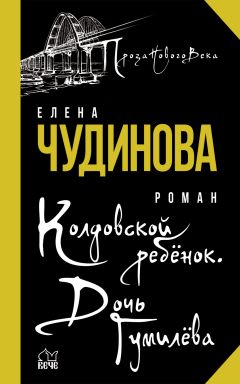
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Глава XXVI. «Самому выбирать себе смерть»
Укладывался он недолго. Необходимая теплая одежда – вся на себе, лишней не надо. Чистую смену белья – пригодится в любом случае. Все остальное имеется на месте, место-то – обжитое. Что еще положить в портфель? Мамину фотографию? Нет, пусть мама останется тут, среди привычных ей вещей. Маме лучше здесь. А зато это… Это он возьмет с собой.
Задонский снял с бюро икону, давнее благословение Энгельгардта.
А еще говорят, что в такие минуты редко складываются возвышенные мысли. Только они в голову и лезут, самому неловко. Мог ли я понимать всю меру святости хлеба, покуда не прожил зимы на ста двадцати пяти его граммах? Покуда не увидел священников, отнимающих у самих себя половину этих граммов на просфоры? Постигал ли все величие научного подвига моего учителя, когда бы нам не пришлось выбирать между его собранием и собой?
Когда-нибудь его труд победит голод. До конца времен победит. Все не зря.
Божия Матерь парила в лазоревом небе, стоя на хлебных снопах. Спорительница Хлебов.
Да, самая моя икона. Она будет со мной до конца.
Задонский положил икону в портфель.
Через несколько минут он уже стучал в квартиру этажом выше.
…
– Елена Николаевна, я вас просто прошу. – Юрий все смотрел и не мог насмотреться, зная, что видит Лену в последний раз. – Иначе они ведь пропадут. Это же нельзя, чтобы попусту пропал паек. Мы сейчас делаем важнейшее дело, от нас зависит, чтобы город был в начале лета хоть немного накормлен. Очень бережно, мы коллекции не вредим. Но от двойных дубликатов мы сможем высадить картофель, над капустой тоже наши мудрят. Каждые руки на счету, когда мне ходить по очередям? Все наши теперь ночуют на Адмиралтейской.
– Домой не сможете ходить, но ведь можно отоварить по месту службы.
Она словно вновь стала ребенком, в этом синем матросском костюме, который, он помнил, носила в школе. Волосы заплетены в простую недлинную косу. Быстро отросли с осени. А глаза даже в детские годы не были такими огромными…
Такой ли он запомнит ее? Или – взаправдашним ребенком, которого можно было водить за руку? Или счастливым подростком, полным секретов и стихов? Или той, что была, разрывая его сердце, перед войной? Почти неживой от подлости этого мира? Или ожившей, с нарядной, неожиданно взрослой стрижкой – в сентябре?
– По конторам ходить… Поверьте, сейчас не до бюрократов. Каждый день на счету. Скоро – пахать и сеять. Подумать только – пахать и сеять посреди нашего города?
– А что же вы будете есть, если вам некогда стоять за хлебом?
Он видел: хлебной добавки ей и не хочется. О, спорила б она в любом случае, даже при лютом чувстве голода, он был к тому готов. Но сейчас она возражала умозрительно, вяло, и это ему не нравилось. Анемия. Это нехорошо, совсем нехорошо.
– Елена Николаевна… Я же вам уже сказал. У нас же хозяйством заведует наш Лихвонен, а он попросту волшебник. До войны наша столовая была – лучше ресторана. Зная, что сейчас сотрудникам придется ночевать в институте, уж он расстарался. Добыл чечевицы, репы, лярда… У нас будет все это время горячее питание. Елена Николаевна, ну как я смогу спокойно есть горячие супы, тревожась за вас? Тем более – иначе мой хлеб все равно будет ежедневно пропадать зря.
– Как-то неловко… Юрий Сергеевич…
– Какая неловкость? Елена Николаевна, считайте, что я сейчас говорю с вами по поручению Николай Александровича. Обещайте мне, что будете ответственны. Карточки беречь, за хлебом выходить пораньше… Один паек ешьте с утра, другой на ночь. Чтобы спать без кошмаров. Елена Николаевна, дорогая Елена Николаевна… Осталось продержаться только до лета. Там будет картошка, самая настоящая картошка, мы запечем ее в печке… А через месяц… через месяц я вернусь. Но этот месяц – обещайте делать так, как я прошу!
– Обещаю. – Ее взгляд сделался живее. – Но Юрий Сергеевич… Вас не будет целый месяц?
– Он пройдет быстро. Зато мы оба чуть-чуть за это время окрепнем. Мне будет проще – и не ходить каждый день по часу в каждый конец, и питание горячее за меня повар сварит… Договорились?
– Да. Я же обещала.
Он бережно засунул непочатую бумажку в ее карман.
– Возвращайтесь скорее, Юрий Сергеевич! У меня ведь кроме вас – одни тени. Из живых больше никого. Я буду вас ждать…
Она неожиданно, каким то не девичьим и тем более не женским, детским движением вскинула руки и обняла его за шею.
Впервые в жизни он держал ее в объятиях. Вдыхал золотой запах ее волос. Впервые. В последний раз.
«У вас никого больше нет из живых, единственная моя. Я уже мертв. Но вы, вы, любовь моя, вы должны жить».
Глава XXVII. Пустота
Хлебный паек вдруг опять увеличили. По двум карточкам Лене выдали целых восемьсот граммов. Это было так много, что она испугалась. Как ей показалось, испугался даже желудок, давно сжавшийся до размера цветочной бутоньерки.
Она съела за день две трети – и больше не смогла. Так же и на другой день.
«Лишние» за два дня почти полкило она высушила на сухари. Когда вернется Юрий Сергеевич, они отлично попьют чаю.
Полно, пташечка, постой,
Оставайся с нами!
Мы дадим тебе конфет,
Чаю с сухарями, —
вспомнилось вдруг детское. Мы сами себе дадим чаю с сухарями, хлеб лучше любых конфет.
Вернется Юрий Сергеевич… А Лена выложит в севрскую вазочку эти сухарики, поставит чайник… Он, конечно, заругается… Но и пусть его сердится. Уже пойдут новые листочки, из рябиновых можно будет заварить свежий, пусть горьковатый…
Лена старалась, в надежде на это чаепитие, каждый день подсушить хоть по сто граммов. Иногда очень хотелось съесть весь этот «большой» паек, но надо ведь и о Юрии Сергеевиче подумать. Горячее блюдо это хорошо, но все-таки… Да она и не голодна вовсе. После зимних ста двадцати пяти граммов хлеба ведь так много…
Когда почки начали набухать и лопаться, Лена в самом деле дошла до Таврического сада – за рябиной. Немного нашлось и богульника.
Ходить стало легче, много легче, чем зимой. Только шаги казались какими-то странно плавными и невесомыми – как случается в сновидении.
А сновидения были в эти недели живее снов. Несколько ночей ей снилось одно и то ж. Родная церковь, храм ее детства, до закрытия его красными. Она, совсем маленькая, с чинно сложенными на груди руками, идет среди падающих из окон солнечных лучей-мечей – к круглому столику с теплотой. А там, на салфеточке мережкой, предмет ее простодушного детского восторга: кукольные чашечки. И ведь всё – разные. Одна с цветочком на боку, другая золочёная, третья голубенькая. Но совсем-совсем кукольные. Ей казалось очень важным, опустив, наконец, руки, выбрать – какая чашечка-игрушечка, в которой плещется разбавленная вишневым цветом вода, сегодня предназначена для нее. А мальчик в стихаре, как же его звали, того мальчика, державшего на подносе антидор, всегда поглядывал на нее строго, почему она мешкает.
Но в последнем сне с антидором стоял не мальчик, а почему-то Юрий Сергеевич. В обычном своем поношенном до невозможности аккуратном костюме. Подносик был золотым, и золотое свечение исходило от хлеба.
А за Юрием Сергеевичем стоял, улыбаясь одними глазами, но глазами, исполненными молодого веселого сияния, стоял человек средних лет, чем-то тоже ей знакомый. И это была уже не Литургия и не солнечное утро, а вечерня. Потому судя, что у него в руках тоже был золотой поднос, но большой, с ломтями от пяти хлебов, напоенными с краю темным вином. И этот хлеб светился тоже[38]38
Представляется символичным, что внучатый племянник Н.И. Вавилова, Иоанн, сын и внук выдающихся физиков, избрал духовное поприще, был в последние годы почетным настоятелем храма Преп. Сергия Радонежского в Крапивниках. Русская наука – далеко от Господа никогда не отходит.
[Закрыть].
Этот сон, уже как перестал сниться, еще несколько дней мерцал, словно просвечивая сквозь зыбкую ткань яви.
А сухарей в самом деле скопилось на полную вазочку – к тому дню, как в карточке Задонского был оторван последний лоскуток бумаги.
Скоро появится Юрий Сергеевич. Совсем скоро, на днях. И можно будет попроситься с ним вместе сходить в ВИР, как тогда, в детстве. Все только и говорят, что на вавиловцы уже распахали часть площади перед Исаакием под огороды. Там будут сажать капусту и картофель.
Лена невольно улыбнулась. Всякое повидал Исаакий под своими стенами, но чтоб капустные огороды! Вот и ему что-то внове. Это, поди, интереснее, чем глупый мятеж противных декабристов. Впрочем – а помнит ли собор тот мятеж? Ведь он же еще не был тогда достроен. Может и не помнить.
Отчего-то вспомнилось вдруг, как Задонский водил ее в детстве в ВИР. И залитые весенним солнцем лаборатории, и веселые молодые ученые, и жидкий азот, щекотными клубами вылетающий из ноздрей.
И тот важный разговор по дороге, вполне понятный одиннадцатилетней девочке и осевший в ее памяти, разговор о святости хлеба. Ведь это с нею – всю ее жизнь, вот даже и снится.
А ведь Юрий Сергеевич был тогда даже моложе нынешней ее… Ну, умнее, вероятно.
Надо бы у него прибраться, чтобы не возвращался в неуют.
Ключи у Лены были. С конца декабря и Юрий Сергеевич жил в одиночестве. Один сосед его умер, других, семью с какого-то закрытого завода, эвакуировали.
Странно, живем теперь, как когда-то было обыкновенным. Мы – впервые в жизни. Дедушка бы сказал, что «печем яйца в лаве Везувия».
Лена, отворив входную дверь, проскользнула в комнату Задонского. Она заходила сюда еженедельно, надо же ведь хоть иногда протапливать квартиру, иначе во что она превратится. Юрий Сергеевич почему-то ее об этом не попросил, видимо, не догадался подумать. Ну да что взять с мужчины, тем паче ученого. По счастью, Лена и самое сообразила. Но теперь надо и пыль вытереть, и хоть подмести.
Невзирая на благие намеренья, оказавшись в привычной комнате, Лена забралась с ногами в высокое кресло в сером чехле, что стояло напротив окна.
Печем яйца в лаве… Хорошо без чужих. До конца этой блокады так и будет. Но конец, которого так ждали осенью, о котором молились зимой, теперь представлялся чем-то нереальным.
Вавиловцы скоро будут сажать капусту и картофель. Что из этого следует? Что летом будет какая-то еда, горячая еда, что-то еще, кроме хлеба и редких крупяных добавок. В это много легче поверить, чем в снятие блокады.
Самое страшное уже миновало, уже позади. На улицах больше нет мертвых тел, Ладожские ветры унесли тот чудовищный запах, который грозил убить город в начале весны. Говорят, что удалось отремонтировать электрические генераторы. Скоро пойдут трамваи, хотя в это и трудно поверить. Но радио сулит пустить их прямо ко дню рождения, совсем скоро…
Промелькнувшая было мысль о дне рождения, который придется встретить без всей семьи – а на ведь прошлый были еще живы все – и бабушка, и дед, и мама – уже не причинила боли.
Лена уткнулась щекой в грубый холодный холст. Захотелось спать. Она теперь очень легко, почти мгновенно, засыпала. Последней мыслью мелькнуло, что вот придет Юрий Сергеевич, а она спит в его комнате, неловко.
Но, когда Лена, уже в темноте, проснулась, Задонского в комнате не было.
Не пришел он и на следующий день.
И к концу недели.
Глава XXVIII. Отложенное поручение
Барон Иван Арсениевич Роговиков, остановившись неподалеку от грядок с завязывающимися кочанами капусты, сбросил сидор и вытащил драгоценный «Зефир». Не махорку же курить в этом городе! Хороших папирос еще почти пачка, как раз на побывку и хватит.
Милиционер, маячивший вдали, явно ждал, покуда он закончит с папиросой. Жди-жди, тыловой, ближе-то не подойдёшь. Знаешь, как мы вас любим.
Ваня понимал, что огороды, конечно, надлежит охранять, чтобы никто не покусился на первые, еще небольшие всходы.
Но как же странно… Вот он, великий Исаакий. А под ним – огород, как в деревне.
Много ли он теряет, что первым взглядом видит этот город в военной затрапезе, а не в горделивом парадном убранстве?
Статуи вывезены или заколочены, а уж так хотелось побывать в Летнем саду! Побывать-то он с утра побывал, да толку…
Но город всё равно прекрасен и немыслим. А ведь ночи еще белые! Можно будет бродить до утра, не спать же он сюда прибыл!
Впрочем, о ночном гулянии думать еще рано. Он затушил окурок. Косвенное, но важное поручение еще не выполнено.
В городе ли она, Елена Гумилева? Жива ли? Удастся ли ее застать?
Как воспримет она все эти чудом дошедшие до него слишком странные новости?
Несколько лет – ничего. И вдруг – дошедший через третьи, но исключительно надежные руки – воистину приключенческий рассказ о цепочке невероятных случайностей, вызволивших Петьку Оборина из лагеря и выведших ни больше ни меньше, как за границу. Такого не бывает.
Бывает. В жизни случается все самое неслыханное, конечно, только с теми, кто не мыслит убогими категориями реализма.
Он всё ей расскажет – во всех майнридовских подробностях.
Но как она воспримет самое главное? Странное и вместе с тем какое-то очень ожиданное решение Пети сделаться священником? Он уже в стенах доминиканского монастыря, самом для него, кстати, сейчас и надежном месте. Католическая церковь не сдает своих.
Ведь ребенку ясно – дороги назад, в этот город, для Пети нет. Нет и дороги к ней.
Но поймет ли, примет ли…
И вообще – какая она, Елена Гумилева, дочь Поэта?
Он наверное знает одно – то письмо осенью Мишель передал в руки Лениной бабке. Возможно, что она молится за Петьку как за погибшего. Очень бы надо, чтобы довелось теперь сказать ей – Петя жив.
Мешок, вскинутый обратно, тяжело стукнул по спине. Хорошо бы застать девушку, если она в городе. Кое-чего он, в надежде на этот краткий отпуск, за последнюю неделю подкопил. Эти трофейные консервы «Нестле» очень хороши, особенно мясные.
Как же всё странно, как странно… Исаакий… Огород… И он среди бела для наедине со всем этим сновидением. Если не считать милиционера и тоненькой женской фигурки, бредущей между грядок. Верно – сотрудница этого необычного хозяйства, раз ходит внутри огороженного пространства.
И тут что-то случилось. Женщина или девушка вдруг беспомощно заметалась, словно раненная. Но стрельбы же нет!
Тем не менее она упала на колени. До него донесся слабый крик – крик скорее ужаса, чем боли.
Перемахнув через проволоку заграждения, Иван помчался к ней.
Вблизи женщина оказалась еще меньше, чем издали. Темноволосая, с греческим узлом на затылке, вероятно, совсем молодая, сейчас трудно сразу понять. Сидя на земле, она плескала ладонями вокруг себя, словно пытаясь нащупать что-то незримое.
– Что с вами?! – выдохнул он.
– Не вижу… Я ничего не вижу… – сдавленным голосом произнесла женщина. – Темно… Так темно…
– Товарищ, вы зачем на огороженной территории? – Милиционер подбежал почти следом за Иваном. – Здесь не положено!
– Не видите, человеку плохо, – отмахнулся Роговиков. – Обопритесь на меня… Я рядом. Такое случается…
– Но… совсем ничего… Темнота… Как в запертой комнате… – Она всхлипнула.
Милиционер бестолково переминался рядом с ноги на ногу.
– Нам нужно в помещение, там вам станет лучше. – Иван легко подхватил ее на руки – легкую, как ворох пустой одежды. – Куда вас доставить?
– В институт… В лабораторию…
– Держите меня за шею. Сейчас доберемся. Это пройдет… Вот…
Он чуть не сказал – вот увидите.
Но все же… Стоит надеяться, что это временное… Бедняжка…
Следуя указаниям сначала женщины, затем старика на вахте, Иван поднялся со своей ношей по высокой светлой лестнице – на второй этаж, затем по длинному коридору…
– Оля!! – Мужчина, работавший за столом, вскочил слишком резко: его зашатало от слабости. – Что с ней?!
– Вадик… – При звуке знакомого голоса слезы хлынули неудержимо. – Вадик… Темно…
Вдвоем они осторожно устроили больную на черном кожаном диване, подложили под голову свернутое покрывало.
– Не представился, простите. Лехнович. Вадим Лехнович. А это моя жена Ольга.
– Иван Роговиков.
– Спасибо вам…
– О чем речь, помилуйте.
Дыхание Ольги было судорожным. Переплетя пальцы с пальцами мужа, она поднесла его руку к лицу.
– Я покуда сделаю крепкий чай, с сахаром, у меня есть. Это может помочь. – Иван кивнул на замеченный им на лабораторном столе примус. – Керосин есть?
– Немного.
Иван взялся за тугие завязки мешка. Извлек одну из припасенных чайных осьмушек, синий тюбик сгущенного молока и вощеную упаковку галет.
– Успокойся, Оля… Успокойся… Я думаю, это нервное. Сейчас ты выпьешь горячего, будет лучше… – Голос Лехновича был ласков и спокоен, но в лице отражалась мучительная тревога.
Вода закипела быстро. Иван заварил чай покрепче, основательно забелил сладкой сгущенкой.
Вадим принялся осторожно поить жену из большой кружки. Ольга с наслаждением сделала несколько глотков.
– Как вкусно… Но… нет, я не вижу[39]39
Зрение не вернулось. Ольга Воскресенская продолжала работу до конца блокады, на ощупь различая клубни. Она умерла спустя два года после войны. Вадим Лехнович дожил до восстановления научной справедливости.
[Закрыть].
– Не спеши, дорогая. Пей, тебе нужно подкрепиться. Подкрепиться и успокоиться – это сейчас самое важное. Вот она, кружка… Осторожно…
Ольга послушно продолжила пить.
Опасаясь бросить лишний и потому бестактный взгляд на эту трагическую сцену, Иван прошелся по лаборатории. Безжалостный летний свет обнажал следы горестной зимы: почерневший пол, отсыревшую лепнину, следы потёков на стенах… Странные колбы… Для чего они?
Иван машинально перекрестился. Среди непонятных ему предметов научного обихода на полке, рядом с застекленной фотографией улыбающегося мужчины в старомодном галстуке, стояла икона.
Божия Матерь Спорительница Хлебов.
– Мы сами не очень-то верующие, – поймав его движение, счел нужным пояснить Лехнович. – Ни на что, кроме науки, недостает ни жизни, ни головы. А эта вещь принадлежала одному нашему сослуживцу. Он умер весной.
Он сжимал пальчики жены, свободной поглаживая по плечу.
– Прекрасная икона. Очень хорошего письма.
– Да, красивая. Но боюсь, что может испортиться. Видимо для такой живописи здесь не очень хорошие условия, как бы краска не слезла. Она всё время отсыревает…
– И пахнет, как духами… – слабо прошептала Ольга. – Такой дивный запах… Или у меня обонятельные галлюцинации…
Ольга лежала с закрытыми глазами. Вероятно – боялась разглядывать эту нежданную темноту.
– У тебя нет никаких галлюцинаций, я тоже чувствую иногда цветочный запах. Вероятно, это какой-то ароматный сорт дерева.
Иван подошел к иконе поближе. Мужчина на фотографии, что стояла рядом с ней, как оказалось, не улыбался. Ну да, старшее поколение не имело такой манеры: улыбаться перед фотоаппаратом. Показалось. Улыбка, чуть заметная, играла в углах губ, сияла в глазах.
Икона как икона… Нет… Теперь он разглядывал ее в упор.
Совсем крошечные, меньше капель росы, на лике Божией Матери проступали слезинки прозрачной влаги. Две… нет… три слезинки. Он решился дотронуться пальцами.
Тонкое-тонкое благоухание… Чуть-чуть напомнившие Ивану мамины старые духи Коти. Капли слишком легкие для масла, но не похожие на парфюмерию.
– Здесь у вас происходит что-то очень хорошее, – справившись с волнением, произнес он, перекрестившись еще раз. – Что-то прекрасное.
– Еще бы – здесь наша работа, которая дарит нас смыслом жить, – ответил Лехнович. – Работа спасает нас[40]40
Настоящие слова Вадима Лехновича.
[Закрыть].
– Вероятно, нам следует доставить Ольгу на квартиру и вызвать врача, – вернулся к делу Иван. – Вы далеко живете?
– По нынешним силам не слишком близко. На Бассейнной… Некрасова.
А это в двух шагах от дома Лены Гумилевой, отметил Иван, заранее исследовавший старую городскую карту. Очень удачно. После, стало быть, еще не будет поздно сегодня зайти.
– Пожалуй, что нет… – Лехнович колебался. – Мы часто ночуем здесь, чтобы не отходить от коллекций. Тут даже удобнее, чем дома, – есть вода. Она только устанет от дороги. Знаете, Иван, сделаем вот как. Хороший терапевт есть и здесь недалеко, на Почтамтской. Мы его, к сожалению, уже не раз сюда приглашали к нашим коллегам. Надо его привести. Не обессудьте, что и тут обременю вас. Я не могу, вы понимаете, отойти сейчас от Оли. Я мог бы, конечно, попросить кого-нибудь из сослуживцев. Но нам так непросто ходить… Непросто и долго. Вы сильны, поможете и доктору добраться.
– О чем речь, я обернусь по возможности быстро.
– Благодарю. Почтамтская семь, третья квартира. Иван Петрович Шитов. Вы запомните?
– Да, конечно. Не тревожьтесь, попробуйте пока еще дать ей чаю с галетами.
По всему получалось, что к Лене Гумилевой сегодня не успеть. Но, если она жива и в городе, ничего страшного. Он зайдет пораньше с утра, так и застать вернее.
Иван Роговиков уже спускался по широкой лестнице. Он еще ощущал легкое благоухание. Ни на что не похожее. Про духи Коти он ведь, пожалуй, подумал лишь потому, что это были мамины духи. Таких запахов на земле нет и таких цветов не растет.
Глава XXIX. Пора!
Лена ждала.
Не человека (кого было теперь ждать), не события (ничто, могущее случиться, уже не имело значения).
Но любимые белые ночи были исполнены странным и спокойным ожиданием.
Она больше не ходила за хлебом, догрызая иногда сухарики, припасенные весной для Задонского. Стоять в долгой очереди, среди людей, озлобленных, исполненных отчаянья, лелеющих надежду, делящихся новостями, – ничего этого совсем не хотелось. К тому же все вокруг, она только теперь стала это замечать, сделались за зиму и весну зловещими, словно аллегории ужаса и беды на старых гравюрах. Жалости ни к кому больше не было. Безразличие мягким и ласковым покрывалом окутывало душу.
Не было и голода. Желудок, давно сжавшийся до размеров ее ладанки, теперь оставался доволен половинкой сухаря. Пришла абсолютная легкость тела, словно она двигалась во сне.
Керосин давно вышел, печки Лена больше не топила, зачем летом топить?
Вчуже она думала, что можно бы насобирать трав для декохта, но горячее питье тоже не стоило лишних усилий. Единственная доставшаяся ей роскошь, рыжеватая вода, тонкой струйкой исходившая с перебоями из кранов, годилась и сырой.
Не хотелось и читать, вернее – мешало чувство ожидания. Лена часами напролет тихо сидела на подоконнике, наблюдая безлюдный Эртелев переулок.
Единственным, что требовало от нее некоторых усилий, было неукоснительное соблюдение правил, от которых никто в семье не отступился за всю страшную зиму. Лена подолгу расчесывала поутру волосы, растиралась холодной рукавичкой, аккуратно сложив ночную сорочку, натягивала чулки, полностью одевалась.
Спала она тоже почему-то мало, очень мало. Верно, опасалась во сне не услышать, пропустить… Пропустить – что?
Но этой ночью она отчего-то заснула рано, и очень крепко. Впервые за долгое время приснился Петя, только он был почему-то старше Лены. Он находился в маленькой побеленной комнатке с очень низким потолком, уютно освещенным одной лампой. Половину комнаты занимал резной гардероб, везде громоздились стопки книг в черных с золотом переплетах. И одет Петя был как в книжке: в черную, метущую по полу жесткую сутану с маленькими пуговицами, которых, должно быть, она знала, ровно тридцать три. Черная сутана с белым круглым воротничком. Но, словно бы этого странного одеяния оказалось недостаточно, он принял из рук серьезного мальчика лет двенадцати другое – белоснежное, наполовину кружевное. Альба, да, так это и называется, альба. Затем в руках его оказалась толстая веревка, вроде бельевой. Он завязал ее на поясе каким-то сложным узлом, вроде морского. Повесил на шею черную епитрахиль. И, наконец, сверху водрузил парчовую квадратную ризу, тоже – черную.
Missa Reqiem, по всем, откуда-то Лена знала, погибшим и погибающим христианам.
Петино лицо было бледным и сосредоточенным, когда, согнувшись в низенькой двери, он вышел под высокие готические своды, осиянные разноцветным светом, бьющим сквозь оконные витражи.
К мраморному алтарю с золотым символом Императора Константина.
Мальчик высоко поднял руку с колокольчиком, но звук получился странным: не звон, а стук, нежный и негромкий, словно бы стеклянный, но не совсем.
Лена проснулась.
Белая ночь заливала комнату призрачным сияньем, сразу выдав, откуда исходил стук.
Бабушкины нефритовые шары, давно стоявшие в своей шелковой коробочке на краю комода, упали вместе с коробочкой, вывалились из нее, стукнулись друг о дружку и покатились в разные стороны.
В ночном свете они казались не зелеными, но скорее селадоновыми. Белая ночь ведь прихотливо меняет цвета.
Ожидание закончилось, теперь сделалось понятным, чего она ждала. А Петя приснился на прощанье. Не навсегда, но надолго.
Лена выскользнула из постели.
Вычистить зубы пустой щеткой (порошка не было уже давно), умыться, одеться, прибрать постель – на сей раз все это получилось без обыкновенных тяжеловатых усилий.
Волосы, уже довольно сильно отросшие, Лена было начала как обычно заплетать в косу, но отчего-то передумала. Просто распустила по плечам, как в детские годы.
Через несколько минут Лена уже спускалась по лестнице, высокой лестнице любимого с детства парадного.
В лицо дохнуло морской свежестью. Эртелев переулок был безлюден так, словно во всем городе и не осталось ни одного человека, кроме Лены.
Только шаги ее ног, обутых в старые, подбитые железками ботинки, нарушали полную, совершенную тишину.
На Литейный Лене показалось приятнее пройти по Бассейнной, мимо маминого театра, похожего как всегда на замок из сказок братьев Гримм. Но так и не было длиннее. Лена и знала, к тому же, что непременно успеет.
Вот и нужная остановка: близ дома с зеркалами, которые чудесным образом спасли в феврале семнадцатого героического генерала Кутепова.
Лена остановилась. Уставшей она себя вовсе не чувствовала. Могла бы так еще идти и идти, сколько угодно, как, бывало, бродила до войны.
Над домами почему-то нет больше привычных аэростатов, неуклюже толкающихся меж собой. Небо чистое, жемчужное, ночное.
Она успела. Ждать пришлось минут десять, не больше.
Издали послышался уютный грохот.
Наконец трамвай сделалось уже возможным разглядеть. Деревянный, с киноварными бортами, почему-то очень большой. Он шел быстро, поэтому над тонкой дугой так и звенели веселые букеты бенгальских звездочек, так и сыпались во все стороны. Хоть ночь и светлая, но, для порядка, маленький фонарик, которому полагалось освещать номер маршрута, исправно горел.
Номера маршрута, впрочем, не было.
Как тогда, в детстве.
Подножка оказалась ровнёхонько рядом с Леной, когда трамвай нетерпеливо притормозил.
Надо садиться. Лене сделалось немного не по себе. Неужели в детстве она была храбрее?
– Сударыня, вы позволите помочь?
Какой-то молодой военный, вероятно, только что подошедший к остановке, бережно поддержал ее под локоть.
Лена ступила на дребезжащий железный пол.
В вагоне, конечно, было пусто.
– Благодарю вас.
– Не лучше ли будет присесть? Сейчас мы поедем быстрее, может оказаться немного тряско.
Только теперь, переведя взгляд на неожиданного попутчика, Лена увидела на рукаве его френча трехцветный шеврон. Лицо показалось знакомым, как, впрочем, и сразу внушивший доверие голос.
Светлые глаза, при дневном свете, вероятно, серо-голубые, светлые волосы из-под фуражки… Фуражка тоже была родная, с кокардой как у папы.
– «Est immortale quod opto»…
– Я рад, что вы узнали меня… – Коновницын улыбнулся. Улыбка у него оказалась совсем мальчишеская.
– Мудрено не узнать, Ваше Сиятельство, – Лена улыбнулась в ответ. Они между тем прошли к деревянной скамеечке, ближней справа. Лена села у окна, ей всегда нравилось быть у самого окошка. – Вы мне столько раз мерещились за этот почти год…
– Только в мыслях вы называли меня иначе.
– Я не прошу извинения за мысли.
– Это я прошу назвать меня по имени вслух.
– Вы меня старше… На целых двадцать лет. Это неловко.
– Нет, Елена Николаевна… Я мог бы быть старше вас на двадцать лет. Но я ваш ровесник.
– Тогда… Je m’appelle Hélène. – Лена улыбнулась чуть задорно, как не улыбалась уже несколько лет.
– D’accord! Смотрите же в окно, Hélène!
– …Но мы выезжаем на Невский! Сережа, право же… Как это может быть? Здесь же не проложены к нему рельсы!
– Уж будто и не проложены? Впрочем… Пожалуй, за нами рельсов в самом деле и нет. Но лишь бы были перед нами, не так ли?
– Сережа… – Лена, оторвавшись от окна, повернула к спутнику испуганное лицо. – Но мы ведь не уедем… одни? Мы ведь остановимся еще? Юрий Сергеевич, дедушка, мама, Митя… Все, все мои… Мы ведь не оставим их… здесь?
Коновницын дотронулся рукой до ее руки.
– Мы не остановимся больше. Но тревожиться не о чем, поверьте. Они не здесь. Мы едем к ним. Хотя путь будет достаточно долог.
– И к папе? Мы едем к папе?
– Ну конечно. Кто же еще мог…
Он недоговорил.
– …Сережа, – задавать этот вопрос было неловко, но и не спросить Лена не могла. – Но… если все они уже далеко, то отчего вы всё еще тут? Ведь прошло больше двадцати лет.
– Я слишком хотел войти в мой город. – На лицо Коновницына упала легкая тень. – И я в него вступил, даже не сразу заметив, что сбросил с плеч плоть – как ненужный плащ. Верно мне нелегко было сразу расстаться с ним. Вот я и задержался немного. Но всему приходят свои сроки. А вы немного помогли мне с транспортом. Не тушуйтесь расспрашивать – вам ведь еще многое хочется узнать?
Странный маршрут за окнами уже не удивлял, равно как и безлюдье. Трамвай дребезжал, набирая скорость.
– Трамвай… Он вовсе не грозный и не страшный, как тогда, у папы. Теперь он другой… Я уже каталась на нем в детстве… Мне подсказала это одна странная старая дама. Она и после, нет, больше не появлялась, но напоминала о себе. Кто она такая, вы ведь, поди, знаете?
– Одна странная дама? Вне сомнения, она не была одинока и в ваши детские годы. Других вы просто забыли, так случается с детьми. Наш город – он слишком фантастичен, чтобы быть населенным исключительно людьми. Кого в нем только не обитает! И ожившие персонажи местных легенд, и души шедевров, и неприкаянные тени, вроде меня… Но для меня наступило время попрощаться с ним.
Они мчались уже через площадь перед Исаакием – прямиком пересекая ее. Огородов, которых так и не увидела Лена, огородов с капустой и картофелем, почему-то и не было – поблескивали свежеполитые дворниками булыжники мостовой. Окна в здании ВИРа не были ни заклеены андреевскими бумажными крестами, ни разбиты, ни заколочены фанерой… Чисто вымытые – они тоже поблескивали.
– А Надежду Павловну… её я не увижу больше?
– Нет. Разве что сейчас, где-нибудь на перекрестке, она помашет нам платком. Есть в городе жители, от него неотделимые.
– Сережа!! Смотрите же!! – Лена вскочила. – Петр Великий!! Он больше не в досках! Как же я по нему соскучилась…
Они ли стремительно приближались к Медному Всаднику, он ли мчался к ним? Не то и не другое. Огромный конь коснулся, наконец, мостовой. Какое-то время они мчались вровень – трамвай и статуя. Искры сыпались с дужек, искры летели из-под копыт.
Государь тоже не был на сей раз ни грозен, ни страшен, и никого не преследовал, просто соскучился неподвижностью.
И коню, и всаднику весела была эта гонка наперегонки.
Так они и летели по Английской набережной – вдоль большой воды.
Но у Николаевского моста всадник придержал повод. Ну конечно, он может лишь проводить, но не покинуть своего города…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































