Текст книги "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева"
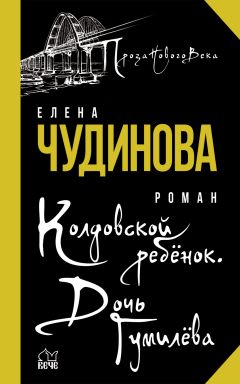
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
– И так, и не так. – Энгельгардт исподволь наблюдал за лицом внучки. Его разбирало подозрение, что для обеих сторон в тексте подразумевались не руки, но губы. Любопытно, понимает ли это второй воздыхатель? Экие они все же забавные. – Да, стихи гаснут, если бросать их в пустоту. Поэзии надобен читатель. Но иной раз и нескольких хороших читателей, даже вдали, человеку довольно. И может быть вполне достаточным, чтобы дождаться своего часа. А час непременно приходит.
– Трудно Петьке. – Митя резко поднялся, заложив руки за спину, прошелся по комнате. Остановился, сердито и долго протирая очки. – Он не сломается, но ему трудно. Совсем это не для него – жить в глуши. Может статься, оно сейчас и безопаснее, но все равно – не для него.
– Я, похоже, что-то уронил со стола. – Энгельгардт кивнул на валявшийся на паркете листочек из записной книжки. – Или в корзину промахнулся попасть. Подними, Ленок.
Лена стремительно кинулась выполнять просьбу деда.
– Странно, у меня отрывных книжек в заводе нету, – удивился Энгельгардт, принимая сложенную вдвое бумажку от внучки.
– Извините, Николай Александрович, – поднялся было Митя. – Это, похоже, у меня из кармана вывалилось, вслед за носовым платком. Номер телефона мне давали, давно еще, я уже переписал в книжку.
– Номер телефона? – Эгельгардт жестом остановил Митю. – И что с вами делать, дражайшие? Князь Сергей Михайлович, благодарение Господу, он теперь отсюда далеконько, помнится, говаривал всегда, что записные книжки – свидетельство умственного убожества. Мозг всё должен держать в памяти, без костылей и подпорок. Я не столь суров к себе и другим, но больше держу в голове, чем в бумагах. А вы имеете экзистировать среди десятков следящих за вами глаз. Неужто так трудно запоминать хотя бы телефонные номера? Моя память хуже, сообразно моим годам, но любые цифры я запоминаю, взглянув либо услышав единожды. – Энгельгардт, с присущей ему невольной аккуратностью, развернул, разглаживая, листочек, мельком взглянув на начертанные наискось цифры. – Возьмите, Дмитрий.
– Я постараюсь впредь побольше держать в уме, – серьезно проговорил Митя, пряча бумажку в нагрудный карман. – С вашего позволения откланяюсь. Обещался встретить маму.
Когда Лена выбежала за Журовым, Энгельгардт изменился в лице, словно внезапно смертельно устал.
Входная дверь хлопнула, а за нею – дверь соседняя. Проводив одноклассника, девочка ушла к себе.
– Лена…
Голос прозвучал слишком слабо. За стеной было слышно, как внучка передвигает стул.
– Лена!
Энгельгардт с трудом поднялся и прошел в комнату дочери.
– Дедушка! Что с тобой? – Лена, раскрывшая было томик По, подняла голову на дверной скрип. – Сердце?
– В определенном смысле да. – Энгельгардт опустился на кушетку, не заметив, что сел на Анину шаль. – Елена, я настаиваю, чтобы этого юноши больше не было в нашем доме.
– Кого бы не было?
– Димитрия.
– Дедушка, ты про Митю?! – Лена вскочила, уронив книгу.
– Ты вечно все роняешь. Когда ты отучишься быть неловкой? Это разночинская манера. Да, я веду речь о нем. Я запрещаю тебе приглашать этого молодого человека к нам, дружить и разговаривать с ним.
– Но дедушка… – Лена растерянно поднесла руку к воротничку блузки – словно пуговички вдруг сделались застегнуты слишком туго. – Дедушка, почему? Почему вдруг? Что Митя сделал плохого? И когда? Ты же только что хорошо к нему относился, дедушка!
– Я в сотый раз могу сказать тебе лишь одно: не задавай вопросов. – Энгельгардт глядел хмуро, отнюдь не намереваясь даже утешить Лену, по щекам которой уже потекли негодующие, растерянные слезы. – Ты еще не вправе этого делать, дитя.
Он вышел, не оборачиваясь на стон пружин, приветивших яростно упавшее на них тело. Пусть проплачется. Влюблена она все ж в того, другого, который в ссылке. Иначе пришлось бы с ней тяжелее. Сейчас есть кое-что поважнее девичьих слез и обид. Обдумать надлежит многое, слишком многое.
Анна телефонировала спустя час, что задержится в театре: пусть ужинают без нее. Но ни дед, ни внучка в этот вечер не ужинали вовсе.
Глава XXX. Невыносимая тайна– У тебя что-то случилось? – Аля смотрела на Митю с тревогой. – Ты сам не свой.
– Неважно. – Вид юноши, впрочем, говорил об обратном. Митя был напряжен словно перетянутая гитарная струна. И за весь день ни разу не улыбнулся, ни разу не пошутил. – Неважно, не думай. Я вполне способен сам разобраться со своими трудностями. Да, я теперь немного в тяжелом настроении. Но я же обещал тебе, что приеду на майские. Ты разве не рада меня видеть?
К его недоумению, Аля некоторое время шла молча.
– Нехорошо было мне тебя об этом просить, – наконец тихо сказала она.
– Жизнь делается набита какими-то неприятнейшими загадками. – Митя резко остановился. – Похоже, что мой вопрос пора переадресовать. У тебя что-то случилось.
– Если и случилось, то не теперь. Подожди, пожалуйста, подожди немного… Сейчас…
Митя ощутил раздражение. Непонятная опала у Николая Александровича без того угнетала его своей пока неразгаданностью. А тут еще какие-то драмы у Али. Ну да ладно, слабым женщинам без поддержки нельзя, придется и с ней разбираться. Наверняка же ерунда на постном масле.
– Помнишь, я говорила тебе, что меня нельзя любить? – Аля зябко повела плечами: с реки тянуло прохладой. На ней был слишком уж легкий наряд: широкий сарафан в любимую ею красную с белыми горошками расцветку, и из той же ткани, очень коротенькая кофточка с рукавчиками, называемая почему-то «фигарушкой». Этим кофточкам полагалось закрывать девичьи плечи вечером, но если летом они, быть может, и были кстати, то в первые обманчиво теплые дни мая едва ли могли согреть.
Митя, впрочем, тоже был без пиджака, так что галантно предложить девушке было нечего.
– Какую-то глупость в этом духе, кажется, говорила. – Митя улыбнулся. – Точных твоих слов не запомнил, извини, у меня нет привычки запоминать ерунду.
– Это не ерунда. Со мной, если по-честному говорить, и дружить нельзя. – Аля вскинула голову с бессознательной гордостью красивой девушки. – Я сейчас даже твою дружбу – ворую… Я давно хотела тебе рассказать всё, но… так больно было, что после больше тебя не увижу. Но сегодня я решила – нельзя дольше тянуть. Я… я грязная.
– Аля… Постой… Не говори ничего! – Митино лицо словно бы сделалось взрослее. – Ты не обязана. Даже если бы мы с тобой собирались пожениться, ты все равно не была бы обязана ни в чем отчитываться, а уж другу – еще менее. Я, кажется, догадываюсь. У тебя была какая-то… ошибка. Какой-то человек, которому ты слишком доверилась. И теперь ты не можешь себе этого простить. Бедненькая, глупенькая, ты ли в этом виновата? В наше время девушек вовсе не оберегают. Вот и случаются ошибки, покуда сердце неопытно. Все это надо просто пережить и забыть, поверь. Кто тебя полюбит, а и я бы полюбил, если б уже не был верен другой, ничего не поставит тебе в упрек. А кто способен упрекнуть – тот и любви твоей не стоит.
Аля рассмеялась, окинув Митю непонятным, напугавшим его взглядом. Никогда и ни у кого из своих ровесников не доводилось ему еще видеть столь странного выражения глаз.
– Если б ты сейчас угадал… О, как бы я была счастлива, когда бы ты угадал… Ладно, покончим с этим всем. Зайдешь ко мне? Поглядишь, как я живу. Иногда проще показать, чем рассказывать.
– Хорошо.
Около получаса они шли молча. Митя не мог понять, что происходило в душе Али, и, пытаясь разгадать, что же в жизни молодой девушки может быть страшнее неосторожного романа, все время утыкался мыслью в тупик. Аля же шла, подумалось ему, как в более красивые времена ходили на эшафоты: высоко держа подбородок, распрямив плечи, очень бледная.
Табличка обозначила улицу Дзержинского. Митя, как не москвич, не знал ее настоящего имени, и невольно завязал узелок после это уточнить.
Огромное новое здание серого цвета, выстроенное в безобразном стиле конструктивизма, было видным с самого начала улицы. Словно бы не они подходили к нему, но оно само на них надвигалось.
– Нам сюда.
Митя отчего-то уже это знал, как только этот безобразный дом воздвигся над крышами. Он притягивал взгляд, притягивал мысли, притягивал шаги.
Аля вытащила из белой сумочки ключи и открыла дверь парадного. Тяжело загудел лифт.
– Дома сейчас никого нету. Но оно и к лучшему. Им незачем тебя видеть. – Аля повернула ключ в замке. – Заходи.
Квартира оказалась не коммунальной, это сделалось ясным с первого взгляда. Роскошная, большая, но какая-то неуловимо казенная, безликая. Стены в коридоре оклеены серыми в разводах обоями, в тех двух комнатах, что видны из коридора – травянисто-зелёными. Удобство, с которым располагалась дубовая мебель, говорило об усердии краснодеревщиков.
– Это не моя комната. – Аля тем не менее прошла именно туда, жестом приглашая Митю. – Это рабочий кабинет отца.
Кабинет оказался меньше скучен, чем по первому впечатлению. Повсюду теснились восточные статуэтки и статуи, еще какая-то экзотика. (Мите бросилась в глаза зулусская маска-гребень, по странному совпадению похожая на ту, что висела у Лениного деда – подарок зятя. Впрочем, ее он что-то давно у Энгельгардтов не видал, может, и не столь уж похожа.) Стены украшали картины, несомненно принадлежавшие одному художнику – Мите не знакомому, но довольно своеобразному. Среди необычных картин висели скучные унылые портреты – отнюдь не семейные. Дзержинский и два разных Ленина.
– Вот оно что. – Митя тихонько присвистнул. – Ты из красной верхушки. Понимаю, хотя мне это еще надо переварить. Конечно, ты права, мне это неприятно. Ты ведь сразу поняла, что я другой. Но послушай, стоило ли устраивать трагедию? Разве ты виновата в родителях? Ты же живешь совсем иной жизнью, творчеством, оно тебе дорого. Я бы, возможно, не смог бы дружить с девушкой из какого-нибудь комсомольского райкома, ты же сразу поняла, что я из других. Ты видишь, я по-прежнему доверяю тебе. Но ты художница, мастерица. Так какое мне дело до того, что твой отец – один из сотен партийных начальников, чьих фамилий и упомнить невозможно?
– Не из сотен. – Аля делалась все бледнее. – Я назвалась… фамилией мамы. Я так иногда делаю… Чтоб не смотрели на меня с особенным выражением.
– Кто твой отец?
– Глеб Бокий.
Некоторое время Митя молчал, пытаясь соединить невозможное: живую и трогательную Алю, с ее влюбленностью в мистический мир кукол, и страшный образ соловецкого палача. В голову лезло с трудом. Ему казалось всегда, что дети партийцев – туполицые, кровожадные, насквозь пропитанные их идеями. Что особенно омерзительны их дочери. С крепкими ногами в белых носках под сандалетами, в коротких юбках, с плоскими тупыми физиономиями.
– А ты… – наконец заговорил он. – Ты и твой отец… Как вы?
– Я бы ненавидела его, – ответила Аля очень тихо.
– А почему – сослагательное наклонение? – жестко спросил Митя.
– Слишком боюсь, чтобы ненавидеть.
– Бедненькая… – Митя непроизвольно протянул руку, чтобы обнять девушку за плечи. – Ты не виновата.
Аля отшатнулась.
– Не трогай меня! Я сказала, я несколько раз сказала тебе, я – грязная!! Сколько можно повторять?!
– Аленька, я все понимаю… Я ни в чем тебя не виню… Это же не ты, это твой отец повинен в гибели людей…
– Да что ты вообще понимаешь?! – отчаянно, словно в злобе, выкрикнула Аля. – Что ты можешь понимать?
Дальше началось страшное. Аля принялась кусать свои руки, отчаянно, до крови. Появившаяся кровь подействовала на нее еще хуже. Она размазывала кровь по щекам, по лбу, задыхаясь, словно в приступе астмы. Сначала она упала на колени, затем покатилась по ковру. Одна туфелька упала с ноги, не выдержав безумной дроби по полу.
– Прекрати!! – Митя, упав на ковер рядом с девушкой, зажал ее неподвижно приемом бокса. – Аля, прекрати!
Мышцы неожиданно обмякли. Аля прислонилась к его груди и заплакала. Горько, как маленькая девочка, которой она никогда не была.
Слова полились потоком. Продолжая крепко держать девушку, Митя сам готов был то ли плакать, то ли убивать. Все, что он мог уловить в сбивчивом потоке Алиных признаний, было слишком невообразимо, слишком чудовищно.
Купчино… Распахнутые двери по всей даче, вечно распахнутые настежь… Веранда, столовая, кухня, предбанник… Липкие облака, вырывающиеся из парной… Священнические ризы, вздетые на голые, распаренные тела, мужские и женские, не молодые, с обвисшими грудями и рыхлыми животами… Повсюду – хохот, визг, стук босых пяток по деревянным полам…
Строгая, похожая обычно на учительницу отцова секретарша Аделаида Львовна, с распущенными мокрыми волосами, пьяная в смерть, ползущая под стол на четвереньках, за нею – молодой шофер Геня, ухмыляющийся во весь редкозубый большой рот… Голый Эйхманс, с обезумевшими от кокаина глазами, облегчающийся в открытое окно…
Повсюду – на столах, комодах, этажерках – пустые и недопитые стаканы, разбросанные прямо по клеенкам и скатередкам куски самой простой закуски – луковицы, огурцы, редиски, сало… Женщин иногда угощали шоколадными конфетами, не часто. Никогда не водилось хлеба. С отцом от хлеба приключалось что-то вроде сильной крапивницы, его и дома не держали.
Кого-то иногда рвало. Прислуге бывать на «балах сатаны» не полагалось, прибирать заставляли провинившихся, верней сказать, не достаточно угодивших отцу женщин.
Нравилось устраивать «отпевания». Для этого («отпевали» непременно какую-нибудь из женщин, перед тем, как навалиться всем – по очереди или разом) в чулане хранился даже настоящий гроб.
И они – две голенастые, едва старше десяти лет, наряженные как мальчики-алтарники. Им полагалось вертеться вокруг, кривляться, высмеивать всех… Их называли «крысами», только позже, прочтя Бальзака, Аля поняла смысл…
– Оксанке… ей нравилось… А я… я боялась… я так боялась, – выдыхала Аля в Митино плечо, впервые освобождаясь от гнета позорной тайны. – Этого не смоешь… не смоешь… Я грязная…
– Тебя… Тебя они не трогали? – Митя с неожиданной для себя спокойной властностью одной рукой обнимал девушку, а другой – гладил ее по голове. – Скажи… твой отец… он тебя не трогал?
– Не трогали… не трогал… Им… им другое нужно было… Просто – чтоб мы были там… Их это веселило, всех… Оксанку – может быть… позже… Не знаю… Я когда старше стала, сказала – не поеду! Думала – побьет… А он засмеялся только – «а уже неинтересно тебя и брать»…
– Успокойся, хорошая… Успокойся… Ты правильно сделала, что мне рассказала. – Где-то на самом донышке души шевелился холодный ужас, но Митя запрещал ему подняться. Сейчас он должен быть сильным – за обоих.
– Ты… тебе не противно? – Аля всхлипнула.
– Нет, что ты. Конечно же нет. – Митя знал, что говорит правду. Он в самом деле не испытывал ни малейшей брезгливости, невзирая на услышанное. Ощущая это скорее телом, она понемногу затихала, уткнувшись в его рубашку. – Ты ни в чем не виновата. Тебя просто очень сильно и жестоко обижали. Только вот жить здесь тебе не полезно. Пока ты здесь – ты не забудешь, а все это надо постараться забыть. Слушай, а почему бы тебе не поехать учиться к нам, в Питер? Можно придумать что-нибудь, историю искусств, к примеру.
– Учиться в Ленинград? – Судя по изумленному выражению Алиного лица, эта простая мысль отчего-то ни разу не приходила ей в голову. – К Эрмитажу поближе… Знаешь, я бы хотела…
Они долго еще просидели на полу, невинно обнявшись, строя планы о перемене Алиной судьбы. А вокруг них словно вела хоровод темная мебель, обитая зеленым сукном, смотрели со стен портреты красных вождей и экзотические восточные физиономии.
Глава XXXI. Имя ЛеныМороженое у тележечника оказалось как раз то, что особенно нравилось детям, уже научившимся читать: с «именами». На верхнем вафельном кружке можно было найти выпуклое «Маша», «Саша», «Катя», «Володя». Старшеклассники, впрочем, тоже предпочитали лакомство с фокусом. Но если мелкая детвора протягивала монетки, возбужденно восклицая «я Вася!», «дядя мороженщик, дайте с Сережей!», то подростки, не спроси продавец сам, хранили фигуру умолчания. У них была своя игра – попадется ли правильное имя случайно.
Но на сей раз пожилой мужчина, в один взгляд пересчитав деньги, добродушно осведомился:
– Зовут-то тебя как, рыженькая?
– Люся.
– Эвон… Люся. Не знаю даже, бывают ли такие у меня. Не по нашему, не по-питерски. У нас Лели больше.
Люся промолчала. Не станет же она отчитываться, когда и откуда ее папу перевели в Ленинград. Вообще болтун – находка для шпиона.
Старик между тем откинул голубую крышку, обозревая свои сладкие владения.
– Нету Люси. Ну, вот тебе тогда, почти похоже будет.
Ловко слепился белый шарик, два кружочка лихо сплюснули его с двух сторон.
– Спасибо.
Люся сперва неудачно приняла свою порцию, зажав пальцами все буквы, кроме «Л». Отойдя, перехватила поудобнее.
«ЛЕНА».
Люся невольно вздрогнула. Сразу расхотелось приступать к лакомству. Хорошо, что Лены в эти дни и не было в школе. Сталкиваться с ней совсем не хотелось. Все-таки не хотелось, словно Лена могла что-нибудь угадать по одному ее лицу. Но угадать Лена, конечно же, не может. И вообще стоит ли себя растравлять? Ведь все это было так, ерунда. Одна сплошная глупость. На такое же никто всерьез не обращает внимания.
Люся медленно брела по Литейному, не справляясь с мороженым – капавшим на асфальт, словно метки, по которым искал дорогу Мальчик-с-пальчик. Пальцы сделались противно липкими. Есть ли платок? Нету. Неважно. Это была ерунда и глупость, ничего больше.
Это была ерунда и глупость, но это было. Люсе очень хотелось бы, чтобы этого не было вовсе. Чтобы она не пошла в тот день к Кларе – учить вместе уроки, как ей казалось.
…Клара повела себя странно с самого начала. К Люсиному изумлению, она повторила ровно тот же поступок, за который только что осудила Митю Журова: подняла еще один экземпляр книжки «Твои наркомы у тебя дома», отряхнув, положила в портфель.
Люся не могла разобраться еще с младших классов – нравится ли ей на дому у Клары? Все было как-то не так, как у них дома, и уж совсем иначе, чем у Лены. Люся не признавалась, но у Лены ей нравилось больше, чем у себя. Одни эти куклы Анны Николаевны… И всё ей нравилось.
У Клары было как-то гулко и пустовато, «не по мещански, без лишнего барахла», как она сама объясняла. Пол – каждый год покрашенный свежей краской, но дощатый, простой, и без ковров. Стены, оклеенные серо-сизыми, скучноватыми обоями, тоже были голыми – ни картин, ни драпировок. Только – портрет товарища Сталина в гипсовой золоченой раме и несколько фотографий. Одна представляла собой групповой снимок красноармейцев на фоне какого-то деревенского дома. На переднем плане лежали два матроса – один с маузером, другой с револьвером. За ними рядком, словно на насесте, сидело человек десять самых настоящих китайцев в богатырках, выставив вперед, прямо через матросские головы, штыки своих мосинок. Сзади горделиво стояли в полный рост шестеро товарищей бравого вида, двое в черных кожаных куртках – мужчина и женщина.
«Тут твой папа?» – спросила еще маленькая Люся, придя в гости впервые.
«Ну вот еще, – обиделась Клара. – Ты что, не видишь, что тут моя мама?»
Палец ее ткнулся в единственную женщину.
Люся промолчала. Узнать на этом потускневшем снимке – в лихой особе с маузером, с убранными под косынку (несомненно красную) волосами – всегда дорого одетую Эсфирь Моисеевну, непременно в шляпке без полей, с эффектной лисицей на плечах – было не так уж просто. Какое-то сходство, впрочем, все же имелось, но если приглядеться.
Первым делом Клара вытащила из портфеля злосчастную детскую книжку, положила на стол, вместо скатерти застеленный зеленой бумагой.
«Зачем это тебе?» – наконец спросила Люся.
«А погоди. Надо изучить, в чьих интересах это может использоваться как агитационный материал. – Клара уселась за стол, перевернула бумагу мягкой обложки. – Сейчас процессов идет много, все разные. Ничего, сейчас все просчитаем. Оно само за себя скажет».
Люся продолжала недоумевать. Хорошо, допустим в книгу попали какие-то враги, это сейчас случается нередко. Но ведь они же уже арестованы, разве нет?
«А ты думаешь, они и сделались врагами прямо в момент ареста? – фыркнула Клара, когда Люся изложила ей какие-то из этих доводов. – Нет. Они стали ненавистниками нашего дела много раньше. А значит – кто-то из их пособников на свободе и сейчас. Неужели ты не поняла? Да, чутья у тебя с гулькин нос. Так… так… Шейнман, это вряд ли. Сам удрал, но сообщников не оставил. Так, мелочь».
Люся со странным чувством наблюдала, как подруга, задумчиво запуская руки в черные кудри, как обычно на контрольной, подолгу разглядывает каждую картинку.
– Все сходится… – Клара подняла, наконец, голову. – В книжонке в этой – в ней про Каменева. Что он, дескать, из главных у нас, в СССР. Расстрелянный-то враг – из главных. Саморазоблачившийся на Московском процессе! Ишь, куда пролез – чтоб про него дети стишки учили. Это и называется – подрывная идеологическая деятельность. Он и с книгоизданием связан был. И уж конечно – у троцкистско-зиновьевского блока щупальца в молодежную среду протянулись. И в нашу школу.
– Ну, уж не в нашу школу! – отчего-то встревожилась Люся. – Из нашей школы, как видишь, всё выбросили на помойку.
– А Журов подобрал. С Гумилевой вместе. – Глаза Клары сузились черными щелочками. – Сохранить хотел, свидетельство былого величия своих хозяев.
– Кларка, ты чего? – Люся, поняв наконец, куда гнет подруга, подпрыгнула на стуле. – Журов с Гумилевой, они «декласе», вроде как из белых или царских. А троцкисты – это предатели внутри партии. У них ничего общего быть не может.
– Очень даже может, если вместе против советской республики. Попался Журов. И Гумилева, думаю, на этот раз не вывернется.
– На какой еще «этот раз»? – Люся продолжала недоумевать и сердиться. – Придумываешь ты, вот и все.
– Прошлый раз я не придумывала.
– Да какой еще прошлый раз?
– А в третьем классе, – Клара улыбнулась с уверенностью, которая все меньше и меньше нравилась Люсе. – Помнишь, у нее вроде как отчим был?
– Ну… вроде помню. Отец Гальки.
– Небродов, – отчеканила Клара. – Серафим Небродов. Серафим.
– Ну и что?
– А то. Почему-то этого Серафима Гумилева пару раз назвала при нас «дядя Serge». Се’гж, – Клара попыталась было передразнить произношение Лены, но получилось не очень. Я ее спрашиваю – как это он Серж, если Серафим? А она даже ответить не сумела толком, так-де дома принято. А сам ходит эдак прямо, каблуками щелкает. Так и выяснилось – Серафим-то был его брат старший, чахоткой умер. А сам он офицер, то ли из царских, то ли белый.
– Откуда выяснилось? Ты ведь… – Люся осеклась.
– Конечно, я все маме сказала. Только хитрый попался, все ж сумел выгородить их, будто они и не знали. Чего-то насочинял. Недорабатывают у нас иногда. Так и мама говорит.
– А Галя теперь без папы. Я не знала, что ты так. Нехорошо это, Кларка.
– Мало ли кто без папы, кто без мамочки, это, Гладкова, сантименты. Мещанские сантименты. Ты всю жизнь эту твою Гумилеву выгораживаешь. А она лишенка и классовый враг, между прочим. Хватит, знаешь, с антисоветским элементом хороводиться.
– Ты просто злишься, – перешла в наступление Люся. – Тебе Журов нравится. Да, да, хоть десять раз элемент, а нравится! А он только на Ленку смотрит! Ты ей просто завидуешь, вот и сочиняешь ерунду! Подумаешь, подобрал дурацкую книжку – посмеяться. Он всегда все высмеивает, будто ты не знаешь.
– Я не такая дура, чтоб на Журова глядеть, все ты врешь, – у Клары задрожали губы. – Очень он мне нужен, контра недобитая.
– Нет, глядишь, – настаивала Люся, смутно пытаясь отстоять и укрыть что-то, для нее самой непонятное. – Глядишь! Он говорил, самое красивое, когда девушка ходит днем в накрахмаленной белой блузке. А кто перестал вскоре юнгштурмовку свою носить, скажешь, не ты? Хвасталась-хвасталась юнгштурмовкой, а потом вдруг на блузку поменяла!
– Просто надоело мне! Чего ты мелешь? – Клара вскочила, уронив книжку на пол. Пальцы ее непроизвольно сжимались и разжимались, словно хотели ухватить что-то невидимое, лицо потемнело. – Про ерунду какую-то думаешь, блузки, куртки, вкусы Журова!
– Ну, хорошо, давай не будем об этом всем говорить больше, – примиряюще ответила Люся. – Мы уроки делать, наконец, начнем?
– Уроки никуда не денутся. – Клара вцепилась в спинку венского стула, словно, наконец, нашла, что сжать пальцами. – Сначала дело.
– Какое еще дело?
– Ты вот не прикидывайся маленькой, ладно? – Клара еще продолжала сжимать стул. Костяшки ее пальцев были совсем белыми. – Ты превосходно понимаешь, какое. У тебя, Гладкова, выбор такой. Либо мы пишем вместе, либо я упоминаю, что ты пыталась прикрыть хранильщиков контрреволюционной литературы.
– Ты чего, ты мне грозишь? Своей подруге?
– Я тебя к сознательности призываю, наконец. – Клара, успокаиваясь понемногу, разжала пальцы и принялась поправлять волосы. – А насчет подруг… Я тебе, конечно, подруга. Ты знаешь – всегда помогу. Но есть вещи поважнее дружбы. И даже семьи. Дружить, знаешь, можно только с правильными товарищами, и в родстве состоять тоже. Ты чего, не слышала про пионеров Олю Колыбину, Проню Колыбина? Может, и про Павлика Морозова не слышала? А ведь там было всего-то навсего расхищение. Проню вон мать кормила той самой ворованной пшеницей. А он все равно сообщил куда надо. И, кстати, был награжден путевкой в Артек. А ведь это пионеры, несовершеннолетние. А мы с тобой комсомолки, паспортизацию прошли. Тут уже все по-взрослому. И спрос с нас – взрослый. Тут не мешком колосьев с колхозного поля, тут троцкистами дело пахнет.
– А если Журов ни в чем не виноват? Не связан ни с какими троцкистами, просто по глупости книжку взял, он всегда ведь выпендривается? Тогда что?
Как Люся не замечала раньше, какая неуютная эта комната? С этой зеленой бумагой вместо скатерти и салфеток, с этими портретами на тусклых стенах? С длинным рядком модных туфель вдоль плинтуса? Зачем ей было здесь бывать? Неужто – хотелось самой?
– Что тогда? А ничего. – Клара уже была совершенно спокойна. – Органы проверят заявление и во всем разберутся. Не виноват, так и прекрасно. Или ты считаешь, что наши органы могут осудить невиновных людей?
– Нет… Конечно не могут. – Ответить иначе было невозможным, это Люся превосходно понимала.
«Значит – ничего плохого сделать мы в любом случае не можем», – припечатала Клара, вытаскивая из портфеля непроливашку.
Отчего Клара всегда казалась Люсе хорошенькой, даже иногда до зависти? Она же отвратительная, немудрено, что с ней никто не дружит из мальчиков! И кудри у нее вовсе не блестящие, а какие-то засаленные, словно намазаны жиром, и поры видны на слишком костистом длинноватом носу… Да на месте любого мальчика Люся бы от нее сбежала сломя голову.
Но на своем месте, и Люся понимала это превосходно, бежать ей нельзя не только сегодня, но и завтра, и через месяц. Надо дружить дальше. Как же хорошо, что они поступают в разные вузы… Ведь хотели было вместе, но плана не сложилось… Поступят – станут видеться реже, это будет естественно, что ли. Уроки разные, новые соученики. А до этого, до этого нельзя.
Сделав вид, будто убеждена разумными Клариными доводами, Люся пододвинула второй стул к столу. Этот стул бы не гнутым, а грубо сколоченным, покрашенным олифой. В доме у Клары, во избежание мещанства, все стулья были разными.
…
– Куда расшагалась?! Дома глаза забыла? – разгневанно накинулась на Люсю пожилая гражданка в полинявшем летнем пальто. – Идет себе как барыня, чуть с ног не сбила! О кавалерах размечталась? Нужна ты им больно, рыжая-конопатая!
Люся не ответила, хотя обычно ей было не занимать слов в уличных перебранках.
Куда деть это раскисшее мороженое? Куда делись все урны? Что делать с этими мокрыми буквами, складывающимися, по прежнему складывающимися в слово «ЛЕНА»? Выбросить почему-то страшно. А как же с ними тогда поступить?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































