Текст книги "Колдовской ребенок. Дочь Гумилева"
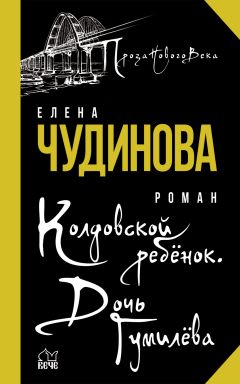
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Глава VIII. Грохочущие ночи
Вышитый мешочек, на котором Лена года три назад вышила готическую розетку[22]22
Е.Н. вышивала гладью. Книжная закладка ее работы, насколько известно, пребывает в частной коллекции.
[Закрыть], теперь превратился в своего рода ладанку. Там нашли место несколько лет пробывший у Пети селенит, пятисотрублевая купюра СЗА, освященная изображенными на ней мученическими ликами, письмо, повествующее об обстоятельствах ареста Пети, записная книжка Коновницына, черно-белый, с переданными штриховкой цветами герб Энгельгардтов, и единственная доставшаяся ей детская игрушка отца – конный солдатик-нюрнберг в желтом мундире кирасира.
Ладанку эту Лена каждый раз надевала под пальтишко, когда приходилось дежурить на крыше. Так было уютнее, особенно в первое время, когда она еще побаивалась бомбежек.
Дежурство выпадало довольно часто: за себя и за маму. Как ни странно, в спорах с мамой Ленину сторону принял дед.
«Она не ребенок, Аня. Ты берегла ее маленькой, настал ее черед беречь тебя. Мы вдвоем прекрасно справимся за всю семью. А ты, дорогая, за нас помолись».
«Против вас обоих я как всегда уступаю, – вздохнула Анна Николаевна. – Но папа…»
«На крыше не более опасно, чем где бы то ни было, – опередил ее Николай Александрович. – Напротив, при дежурстве человек внимателен, он смотрит в небо».
«Мама, ты мне всю жизнь запрещала залезать на крышу, – добавила Лена. – Дай хоть теперь наверстать».
Анна Николаевна не улыбнулась, только обняла дочь.
Но одно – стараться быть молодцом перед дедом и мамой, а другое – сидеть на кровельном железе, злонравном, норовящем шевелиться и погромыхивать, прислушиваясь к нарастающему гулу моторов.
Затем темноту разрывали вдруг огни. На парашютах, иногда видных совсем близко, спускались не люди, а ярко горящие фонари. Световые снаряды. Они освещали цели для бомбардировщиков. (Во всем этом Лена научилась разбираться довольно быстро, но хвалиться не приходилось – мальчишки лет одиннадцати-двенадцати усвоили эти военные премудрости куда быстрее.)
И вот уже тяжелый гул звучал совсем близко, предвещая первые бомбы.
Земля отвечала не менее грозным свеченьем. В небе вспыхивали вдруг – то там, то здесь – лучи прожекторов. Они походили на иголки, протыкавшие черную ткань.
За прожекторами вступали зенитки. Всё это походило на странную симфонию звука и света, и не могло не завораживать.
Ну вот, опять залюбовалась! Лена с досадой нащупала асбестовые рукавицы и принялась их натягивать. Сейчас ведь «зажигалки» полетят.
А одна уже катилась по крыше, обещая лопнуть.
Гремя на бегу, Лена подскочила к злодейке с длинными, до смешного похожими на каминные, щипцами в руках.
Вот, так тебя! Хвать – и в ведро! Ох ты, еще одна! Только успевай от вас избавляться… И третья!
Гул сделался потише, перемещаясь к Петроградской стороне.
По лицу словно прошлась наждачная бумага: Лена, не подумав, попыталась отереть пот, не сняв «каменной» варежки. Теперь царапины будут.
– Ленка! Эй, ты где?
Из чердачного проёма выглянуло личико Владика, мальчика с первого этажа.
– Я-то здесь. А ты сюда зачем? И кто тебе позволил так разговаривать со взрослыми?
– Да ладно, взрослая… – Владик с металлическим шумом вывалился наружу. – Взрослые – это тётки, а ты так. Я пришел – не помочь ли чего?
Лена вздохнула: за каких-то три месяца мальчишки совершенно одичали. Еще весной тот же Владик чинно вышагивал по улице, бережно пронося футляр со скрипкой, а при встрече вежливо приподнимал кепи. Как же он изменился: жесткий взгляд, шустрая манера маленького звереныша. Женщины в очередях постоянно жалуются: детей никакими силами не удержать дома. Они всё первыми узнают, везде (где им меньше всего надо бы находиться) первыми и оказываются.
– Нечего тебе тут делать, твое место внизу.
– А ты чего одна? – Замечания ее мальчик словно бы не расслышал. Это тоже у них появилось обыкновение: попросту пропускать мимо ушей всё, что их не устраивает. – А Маринка где?
– Дома. У нее горло болит.
На самом деле Лена же и уговорила напарницу полечиться. Ей теперь, как привыкла и перестала бояться, больше нравилось проводить эти ночи над городом в одиночестве.
– Непорядок. – Владик нахмурился. – Может, к тебе тётю Машу прислать? Она не при деле уже, песок разбросала.
– Не надо, меня через час сменят. – Лена хлопнула крышечкой дедовых часов. – Незачем Марии Васильевне сюда лишний раз карабкаться, ей это потрудней, чем тебе.
– И то… – Ребенок напрягся, прислушиваясь. – Ишь ты, уже за Фонтанкой бомбят.
– Ты уйдешь наконец, инспектор?
– Да уже пошел.
Оставшись наедине с городом, Лена подошла к краю крыши. Грохот и свет вправду переместились. Совершенно темные очертания зданий были, тем не менее, вполне различимы. Виден Спасо-Преображенский собор, там теперь бомбоубежище в подвалах, а внутри – госпиталь, хотя собор и не закрыт. Так и довелось переступить его порог – впервые в жизни в этом сентябре. А ближе – Лурдская церковь Божией Матери, закрытая, католическая, Петина.
Ленина ладонь, словно сама по себе, нашла под пальто мешочек. Там лунный камень. А еще, оживший в странном ее мире, где теней больше, чем живых, дневник графа Сережи Коновницына.
Глава IX. Собеседник
Не совсем дневник, по правде сказать. Записи даже датировались через раз, а чисто «дневниковые» строки перемежались то коротеньким списком сданного в стирку исподнего, то скромной личной бухгалтерией, то и вовсе обрывками слов, изначально понятых только писавшему.
В какой миг это произошло? Лена и не заметила, как неразборчивые бисерные буквы начали складываться в понятные слова.
«11. Х. Прорвались к чугунке. Станция Вейнмар. Похолодало, но хоть не льёт. Хуже ничего нету. Подвихнутая нога все побаливает, напоминая, как мы волокли орудия, по колено в грязи. На дорогах даже крестьянские подводы тогда вязли. Всем миром навалились, артиллеристы тогда вовсе из сил выбились. Никогда не забуду: шинель, высохнув, сделалась как глиняная крынка. Боялся неловким движением разбить, так и казалось – сейчас отлетит кусок полы. Завидую пермикинским, они-то в Гатчине…»
Это ведь тоже была осень. Лена, пользуясь последними лучами света, перебралась поближе к окнам, непривычно перекрещенным полосами бумаги. Тоже осень. Пропитанную глиной, а потом засохшую до звона шинель Лена словно бы сама не то что видела, трогала. Как же было трудно…
«13. Х. Серебрянка. Морфема есть психическая реальность. Она живая. Психическое явление, с собственным значением, составной элемент слова, родовое понятие для корня и аффиксов… Наименьшая значимая единица… Мозг мой скоро заржавеет».
«Трупы – одни башкирцы. Вот тебе и “братоубийство”. Хотя лучше бы китайцы, как в … (Название оказалось неразборчивым.) Уже Ямбург».
Географические пункты Сережа, так Лена уже привыкла называть молодого добровольца, имел обыкновение подчеркивать.
«17. Х. Отдых в Луге. Блаженство снять сапоги. Больше всего боюсь не ранения, а “маршевого перелома” стопы. В жизни бы не думал, что окажусь в пехоте. Привычки нет. Не знал, как много для солдата значат ноги. Но с лошадьми дело плохое, их достает только для боевой разведки. Да и возьмись лошади – где добыть фураж? Входили опять под колокольный звон. Жители, всем чего-то нужно, спрашивают, просят, ждут, а мы так измотаны, нет и сил разговаривать. Все голодные. Американскую провизию пока успели подвезти только в Гатчину. Делиться нечем. Повсюду – срубленные топорами телеграфные столбы, товарищи постарались. Не думал, что одно дерево можно срубить дважды».
Голодные… Такие же голодные были тогда люди, как теперь? Вчера в очереди Лена слышала разговор двух женщин, судя по всему, врачей. Говорили тихонько, обиняками, но Лена поняла: недовольны указанием помечать «сердечным приступом» смерти от голода. Что надо идти к больным, которые не больны, на это сетовала первая из собеседниц. «Скоро нас перестанут приглашать, – горько усмехнулась другая. – Близкие же сами понимают, какая тут болезнь. Они просто надеются, что у нас окажется в аптечке таблетка-другая глюкозы, долька гематогена… Еще не все поняли, что ничего этого у нас уже нет. Скоро останется только одно занятие – констатировать эти самые “сердечные приступы”».
Некоторое время, так же негромко и осторожно, эти дамы обсуждали, что умирают те, кто послабее: старики и больные, реже дети.
Взрослые и здоровые покуда не умирают. Разговор свернул, как у многих прочих, на злосчастные сгоревшие склады.
После того пожара все боятся, что будет хуже. Но дедушка говорит, что это не так. Там не могло быть уж слишком большого количества припасов. Разве уже не голод, если умирают слабые? Если, спускаясь по лестнице, приходится держаться за перила? Они же едят каждый день – то суп с малой толикой сушеных грибов, то свекольник… А голова почему-то кружится.
Нельзя! Сейчас нельзя думать о еде… Да и об этой войне тоже лучше не думать, слишком близко топчется она у порога.
Вдруг вспомнилось, как она ждала, по маминой просьбе, звонка из театра. Это был день ангела прадеда, Александра Николаевича, поэтому дедушка с бабушкой и мамой пошли на службу, а у Лены был, после загородных работ, отгул. Из театра мама ждала каких-то важных новостей, целых два раза напомнила не выходить, покуда не позвонят. День был такой солнечный… Лена исправно томилась над книгой. Наконец раздалась долгожданная трель. Но в трубке, едва она, подбежав, выдохнула торопливое «алло», прозвучал отнюдь не привычный баритон Шапиро. Незнакомый женский голос, словно бы механический. «Телефон отключен до конца войны». После этих слов в трубке что-то щелкнуло, и аппарат умер.
Только с этого мгновения Лена и поняла по-настоящему, что началась война.
Новая война, вероятно, она будет долгой (ведь враг стоит под обеими столицами) и по-новому страшной. Так к чему же ей, Елене Гумилевой, в объятом новой тревогой городе, часами разбирать сейчас строчки двадцатилетней давности, повествующие о войне предыдущей?
Ответ, как ни странно, ей дал опять же Коновницын.
«Обычно падаю как в черную пропасть, а тут не спалось. Сырой холод пробирал полночи и под шинелью. Думал о Фердинанде де Соссюре. Языки мне даются в самом деле легко (моему “высокому” произношению тот немец под Ригой весь рассыпался в похвалах), мама в свое время говорила, что это связано с музыкальностью. Надо бы поговорить с кем-нибудь сведущим о деятельности мозга. Но все же способность читать и болтать – это так скучно. По-настоящему интересен мне только диахронный языковой срез. Немыслимо интересен. Thanne longen folk to goon on pilgrimages, And palmeres for to seken straunge strondes[23]23
Строка из Чосера, о собирающихся по весне в путь паломниках, на староанглийском языке.
[Закрыть]… Алхимия… Только сравнить, как это на нынешнем английском звучит… А наши “яти” и “еры” с особой, заточенной в них историей… Диахрония… Только диахрония!»
А мне, Сережа, в отличие от вас, де Куртенэ и де Соссюр интересны лишь потому, что дедушка научил: голова, не упражняющаяся в теоретическом мышлении, это не голова, а бессмысленная деревяшка. Но спасибо вам. В ином мы с вами согласны – мне тоже интереснее диахрония. Только не в лингвистике, а в том, как видится мне мой Город.
Я одновременно смотрю: вот волокут Гром-камень, усилием множества лошадей, издалека, и вот он стоит, будто всегда стоял – Петр Великий на вздыбленном коне. Вот решают: отправлять ли медного Государя в безопасное место – ведь Бонапарт так близок… Но Витгенштейн отвечает: нет. Покуда Петр Алексеевич у себя дома – враг не войдет. Вот Петр Великий видит, как Николай Павлович сам бесстрашно ведет верных солдат подавлять мятеж – а стройка Исаакия еще огорожена забором… Вот до вас донесла конная разведка – купол Исаакия уже виден, уже можно перекрестить на него лоб… И вы ждете, ждете, когда увидите его сами… Вот маленькая я – иду на Исаакиевскую площадь, в дом, где живет пшеница, где еще Вавилов… Вот я теперешняя – а на Исаакии аэростаты… Город в диахронном срезе, каждое событие – предтеча следующих, всё одновременно и всё поочередно.
Как же я хочу заниматься историей… Стихи пишутся сами, но историком так хочется стать. Историком-диахронистом. Нельзя пока никому говорить, мысли какие-то смешные. Нет, важные, но еще слишком неуклюжие, я еще не совсем понимаю, чего хочу. Но «диахрония» это ключ.
Дедушка говорит, что после войны многое должно перемениться.
Едва ли настолько, что можно будет получить возможность взять темой исследования «Белый меч», но как знать… Грядущее непредсказуемо.
«21. Х. Володька умирал очень тяжело. Не так необычно, как шпаки представляют, умереть на войне от пневмонии. Треть наших – шагает с бронхитом. Когда по три дня невозможно высушить сапог… Шинель дает над печкой пару, как в бане, но почти не сохнет. Хотели Володьку оставить в ближайшем занятом селе, но умер раньше, на подводе, под открытым небом. Надо было еще в Луге устроить. По его просьбе – взял медальон, передам матери, когда будем в Петрограде».
Его мать не получила этого медальона. Не узнала обстоятельств смерти сына. Впрочем – была ли она самое тогда живой? Они же не знали еще, как истребляли в те месяцы заложников.
А всё жаль, что нет адреса или фамилии. Вдруг всё же мать Владимира-воина и сейчас жива, и живет где-то рядом?
«Володька»… А ведь это тот, которого он Поль де Коком дразнил в той записи…
Что-то проступало из случайных строк, как из переводной картинки, сперва непроницаемо серой и мокрой, наконец, под осторожными пальцами, покажется первая яркая краска – всегда не такая, какую ждёшь…
Теперь виделось: низкое осеннее небо, умирающая толстыми коврами, уже некрасивая листва… Телега, санитарная, но не та боевая, сколоченная из досок, выкрашенная зеленой краской, с двумя неуклюжими колёсами, какую таскают, собирая раненых под огнём, санитары… Обычная, обозная, мужицкая… За возницу – молоденькая сестра в сером апостольнике, другая, постарше, идет рядом пешей, чтобы не загружать лошади… Да такую лошадь и стоит поберечь, иначе не доплетется… Работящая скотинка, старается как может, бабки облеплены грязью, в грязи вязнут колеса…
Коновницын идет по другую сторону от телеги… Он светловолос, хотя не в белёсую масть, волосы золотистые, чуть волнисты… Ну да среди скобарей брюнетов и мало… Красивое лицо, но такое усталое, что сейчас он кажется старше своих лет. Шинель кое-где в черных подпалинах, это следы тщетных попыток высушить ее над огнем. Но, единственным ярким, а потому словно живым в этом свинцово-буром осеннем пейзаже, кажется трехцветный шеврон на его рукаве. Нашитый не как у ВСЮР, не книзу острием, а наоборот, кверху, как установлено в СЗА. И с крестиком. В этих знаках отличия Лена – вдвоем с Петей и Митей – учились разбираться еще в восьмом классе…
Только шевроны, как маленькие трехцветные огоньки… Шевроны на рукавах шагающих воинов… Всё, кроме шевронов – тускло, темно, уныло. Свинец, сепия, охра…
Но шевроны – это лишь герольды. Скоро грядет то, что самое здесь главное.
И сердце замирает вдруг восторгом.
…Что превращает людей, тяжко и мучительно бредущих, скользящих, спотыкающихся, из замученных бедолаг – в удальцов и героев?
Как раз и скупой солнечный луч, всего один, прорывается сквозь сизые тучи. И падает ровно туда, куда необходимо.
Флаг!
Трехцветный и яркий, такой же живой, как шевроны.
Юноша лет шестнадцати ровно держит тяжелое и длинное древко, словно это вовсе и не трудно. Его подбородок высоко вскинут, губа закушена от напряжения. Полотнище вольно плещется в воздушном течении.
Флаг… Кусок материи. Почему это меняет всё для нас, для христиан? Но это меняет всё. Вид флага дает людям силы и наполняет происходящее смыслом…
Но Сережа сейчас – далеко от флага.
Друг Сережи, этот самый Володька, лежит в телеге, под его голову подложено всё, что можно, чтоб было повыше. Цвета волос не понять, они слиплись от много раз выступавшего пота в какие-то сосульки, обмётанные губы почти черны, сквозь лопающуюся корку проступает кровь… Даже под шинелью видно – грудь вздымается словно кузнечный мех. Но проку от этих усилий все меньше и меньше…
«Камфоры нет, – через телегу говорит Коновницыну сестра, успевающая на ходу следить за умирающим. – Ничего нет. И в Луге нечем было запастись».
«Я знаю».
Так вот что вмещают три слова: «умирал очень тяжело»…
Люся умерла мгновенно. А других смертей Лена покуда не видала. Хотя уже увидела на улицах нескольких мертвецов, еще как бы опасающихся привлечь к себе внимание… Не после бомбардировок, это само собой, а иначе – тихонечко притулившихся где-нибудь в арке, на ступенях… Те самые – ослабшие старики, о которых говорила врач.
Не стоит думать об этом.
Что же случилось с самим Коновницыным? Дед так уверенно отнес его к погибшим… Но так ли это?
Вдруг, всему наперекор, Сергей Коновницын все-таки остался жив?
Глава Х. Научная честь
Голод, только что бывший просто мучительным, в несколько дней переменил нрав: сделался страшен.
Не прошло недели, как горожане пережили одно сокращение хлебного пайка, как последовало новое.
Служащим, учащимся и неработающим полагалось теперь сто двадцать пять граммов хлеба в день.
Двадцать пять граммов… Недостаток этого крошечного количества, одного кусочка, вдруг начал делаться определяющим жизнь и смерть. Потеря двадцати пяти граммов почему-то сказалась ощутимее, чем перед тем – потеря пятидесяти. К тому же скудные домашние припасы, сделанные летом, стремительно таяли.
Повлияли и нагрянувшие холода. Сильные, но не достаточные еще для установления зимнего пути через Ладожское озеро.
Если первая половина ноября была тяжела, вторая обернулась кошмаром. На улицах появились первые умершие, не добредшие до дому… Вид их еще пугал, вызывал вокруг слабенькую суету. Но чаще умирали еще дома, не имея силы подняться из постели. В домах так и не затопили. Счастливцы обогревались сохранившимися с прошлой войны «буржуйками». Клепать новые было чревато из-за военной ценности металла. Металлический лом, избытки полагалось сдавать. Черный рынок, впрочем, понемногу снабжал ими город. На это поглядывали сквозь пальцы.
Дверь, некогда соединявшую две комнаты, а затем заставленную мебелью, Николай Александрович выставил и определил на дрова. Буржуйку, чудом уцелевшую под грудой хлама в бывшем зимнем саду, удалось установить почти в образовавшемся проеме. Таким образом тепло шло на обе стороны.
Задонский настоящей печки не раздобыл, но приварил домашним паяльником самоварную трубу к железному ящику из-под образцов.
Соблюдать осторожность было трудно, но необходимо: над городом нависла опасность домашних пожаров.
…
– Александр Гаврилович! – Ольга Воскресенская постучала в дверь кабинета. – Александр Гаврилович, я за вами… В столовую привезли суп, сказали, что с капустой, и не соврали. Это наш Лихвонен расстарался. Давайте-ка сходим отобедаем, вы что-то последнее время вовсе ослабели…
Дверь приотворилась, но ответа не последовало.
– Александр Гаврилович… Эх, надо проснуться… Покуда горячее.
Щукин сидел за столом в своем любимом старом полукресле, уронив голову на руки. Такое случалось с сотрудниками все чаще: голод смаривал мгновенно, в любом положении, кроме ходьбы. Даже стоя некоторые умудрялись на минуту-другую смежить веки.
Ольга осторожно, жалея, подошла, дотронулась рукой до плеча коллеги. Тут же отдернула руку.
В распухших пальцах Щукина что-то оказалось зажато. Бережно, не страшась и не отвращаясь, Ольга постаралась их расцепить. На пакетике из пергаментной бумаги было надписано синим карандашом: «Миндаль. Дубликат. Кол. 30 шт. Колл. № 20А».
Несколько орехов, выпавших из упаковки, лежали на столе, источая тонкий запах, совсем тонкий, уловимый лишь голодным обонянием. Бережно собрав ядрышки, Ольга вернула их в пакет, закрепила скрепкой.
На столе лежало недоконченное письмо. Глаза невольно скользнули по строкам. «…ввиду особой ценности. Условия хранения…» Дальше строка обрывалась[24]24
Обстоятельства героической смерти А.Г. Щукина переданы в точности. Он скончался среди своих орехов, с орехами в руках, описывая образцы для их эвакуации.
[Закрыть].
– Он ведь одинокий?
Ольга и не заметила, как с нею рядом оказался Вадим. Она подняла глаза на мужа – только в этот миг в них расплескался ужас.
– Да… Он один живет… жил… у себя на Лермонтовском. Оповещать некого, – ровным голосом произнесла она. – У Лизаньки Войко, как ты помнишь, осталась мама. Ненадолго, вероятно. Вадик, всего позавчера… Лиза… Такая молодая…
– И первая из нас. – Вадим обнял жену. Несколько мгновений живые оставались так же неподвижны, как умерший. – Оля, родная… Мы сами положили руку на этот плуг.
– Я помню.
– Надо теперь об Александре Гавриловиче позаботиться. Я тебя оставлю с ним ненадолго.
– Конечно.
…
После того как погребальная команда увезла тело Щукина (теперь они объезжали учреждения каждый день), Лехнович спустился в подвалы.
Идти по оледеневшим лестницам приходилось очень осторожно, держась за перила.
Оказавшись в картофелехранилище, Лехнович первым делом подошел к термометру. Два градуса тепла, все в порядке. Дрова, как особая ценность, были сложены тут же, среди стеллажей. Достанет ли их до весны?
Господи, неужели до блокады не прорвут за все это время? Но что сейчас о том думать.
Вадим окинул взглядом длинные ряды коробов, связанных проволокой меж собой. Мера оказалась действенной. Больше крысам не удастся сшибать емкости с полок. Две единицы ведь так утратили. Крысы умны как бесы. Сшибут – и катают, трясут, пока не откроется.
Вот самый драгоценный, южноамериканский… Николай Иваныча добыча…
Вспомнилось, как спешно выкапывали клубни с опытного участка под Павловском тогда, в августе. Никакой землекоп столько не осилит, как наши «интеллигенты», считая хрупкую Олю… Он было гнал ее, вначале. За Олю всегда боязно, слабенькая она, тяжелое детство… Осиротела в Гражданскую, родители попали в «заложники» в одну из волн террора. Оленька угодила в железную, безжалостную клетку воспитательных учреждений Макаренка. Всегда он старался ее беречь, постельное белье кипятил сам, к злословью коммунальных соседок.
Но тут куда уж… «Вадик, каждый час дорог, любая пара рук… Сколько смогу – накопаю». Ох, сколько ж она смогла. Следить за женой было некогда.
Европейские сорта копали уже под огнём… Когда Камераза опрокинуло волной, подумалось – убит. Поднялся, шатаясь. «Да жив я, жив, а хоть бы и нет, что остановились, некогда!»
Всё необходимое для сохранности картофельного фонда удалось перевезти на дачу Бенуа.
А вот теперь все – здесь. Кроме, конечно, дубликатов, дай-то Бог благополучных в Красноуфимске… И здесь, только здесь всему – самое надежное место. И обстрелы не страшны, и не доберется никто, тут, в глубине, под пломбами, которые лишь полдюжины человек вправе снимать. Лишь бы достало дров… Лишь бы достало дальше сил – ежедневно тащиться сюда пешком от Бассейной… Пожалуй что – стоит с Олей чередоваться по дням… Нет, боязно, чтоб ходила одна… Станет совсем тяжко – собрать необходимые пожитки и ночевать в ВИРе… Да, скоро, верно, придется так.
Как же жалко Александра Гавриловича… Как жалко Лизу…
Вдруг, словно застарелая боль, в памяти всплыл теплый августовский день, на какие щедра Малороссия. Весело бежали две «эмки», словно обещая легким своим ходом шутя одолеть расстояние до Карпат. По обочинам желтели тяжеленные колосья, Николай Иванович то и дело приказывал остановиться – брать пробы.
Впервые за последние месяцы настроение было веселым – у всех. Не сбила с него Вадима и такая досадная неприятность, как прокол шины.
«Ну, придется повозиться… – к Сане, молодому и совсем новому в ВИРе водителю Лехнович еще не привык. – Хорошо, от Череповцов недалеко отъехали. До тамошней авторемонтной дотянем. Иначе никак».
«Да не страшно, Вадим, завтра нас с утра догоните! – Вавилов сверкнул улыбкой. – Мне все равно задержаться на месте – командировку-то по пути следования проштамповать у местных чинуш».
«Постараемся побыстрее, Николай Иванович».
«До завтра!» – Вавилов придержал рукой чуть не сорванную ветром шляпу и хлопнул своей передней дверцей. Машина скрылась в облаке пыли.
Возвращаться в путешествии всегда неприятно – это сбивает с взятого ритма. Но что поделать. До ночи Саня новой шины не добыл, пришлось устраивать на ночлег в том же общежитии, что и накануне. В одиночестве Вадиму сделалось вдруг тоскливо в жалкой комнатенке с двумя койками, предоставленной, впрочем, ему одному. Необычная любезность в таких заведениях. Разбирая багажник, заодно обнаружил досадное: Николай Иванович сунул свой чемодан в его автомобиль. Ах, ну да, к нему не вмещалось… Забыли ведь начисто. Шефу теперь и не переодеться в чистое!
На всякий случай вавиловский чемоданчик Вадим взял с собой в комнату. Саня уверял, что багажник запирается надежно, но всё ж…
Он так и не мог заснуть, хотя в дверь постучали далеко за полночь. Двое молодых парней, обычные простоватые управленцы.
«Товарищ Лехнович, уж извините! Срочное дело. У вас ведь вещи товарища академика. Вот вам и записочка от него. Тут, понимаете, как вышло: его срочно в Москву вызвали. Совсем срочно. Он уж на аэродроме».
Почерк был вправду Николай Ивановича. Первый червячок тревоги пополз сверлить душу. Совсем маленький, еле ощутимый.
«Да, конечно. Вы, товарищи, не возражаете, если я с вами на аэродром? Сам и привезу. Мне надо получить инструкции на время его отсутствия».
Товарищи не возражали.
Вместе вышли в тёплую и звездную ночь.
Чужая эмка поблескивала черными боками у крыльца. Чемодан уложили в багажник.
Вадим уже поставил было ногу на приступок автомобиля.
Удар, обрушившийся на шею, был так силён, что в глазах заплясали какие-то фиолетовые спирали. Он попытался было удержаться, но колени подогнулись и встретились с тротуаром.
Когда вернулась способность видеть и соображать – темная улица оказалась пуста.
Пуста, как его душа, оледеневшая от пронзительной ясности беды.
Вчера ли это было, тысячу ли лет назад? Время сошло с ума, как всё в этом мире. Осталась лишь одна непеременная величина: коллекция.
Что с Николай Ивановичем – сейчас? Что будет с нами завтра, через неделю?
Но кто-то же из нас выживет… Кто-то же из нас – сохранит.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































