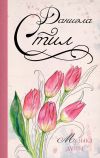Читать книгу "Великосветский прием. Учитель Гнус"

Автор книги: Фридрих Ницше
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
XIX. Прекрасная Мелузина
Прекрасная Мелузина позволила великому певцу Тамбурини облачить себя в меховое манто. Зрелище могло вызвать зависть у многих, но для этого все слишком устали. Гости выходили в вестибюль. Измотанные, бледные либо горячечно возбужденные, покуда разыскивали их одежду, им не оставалось ничего другого, кроме как испытывать недомогание. Сказать друг другу было нечего, хотя буквально минутой ранее их бесшабашное веселье просто не знало удержу. Многие уже раскаивались, что уговорились на всю ночь. Ночь-то кончилась, следовало бы освободиться и лечь спать.
Со скуки разглядывали себя в зеркало и подсчитывали протори. Опять постарела! – видели расколдованные женщины, испытывая изрядное желание залепить оплеуху своему спутнику. Но спутник ничего не замечал, он зевал, не разжимая зубов.
Прекрасная Мелузина отвела достаточно времени на манто, певца и уход. Одна за другой перезрелые дамы сравнивали себя с ней и приходили в ужас. Вот единственная, кто сохранился после этой ночи, которая была сплошным преступлением против нашей холености. Она покорила хозяйского сына, значит, во-первых, она помолодеет. Всем известно, что семидесятилетнюю Нинон[113]113
Автор намекает на знаменитую французскую куртизанку XVII века Нинон де Ланкло.
[Закрыть] любил внук ее первого друга. А если и она его любила, это заслуживает тем большего восхищения.
На долю престарелой супруги консервного президента выпали тяжкие испытания. На лестнице может споткнуться каждый. Сильный юноша самоотверженно подхватил ее. Супруг и сам бы вовремя ее поймал, не будь он крайне раздосадован видом удаляющегося со своей шлюхой оружейного президента.
А сия флегматичная особа, в свою очередь, почувствовала легкое неудовольствие, когда ее обогнала подруга, она же Гадкая уточка, поддерживаемая, почти несомая своим пергидрольным атлетом. «Пусть мой старпер проделает такую же штуку со мной», – подумала избранница президента и отпустила его, дабы лучше разглядеть невзрачную фигуру со стороны.
– Ладно, малыш, пойдем, – сказала она, тотчас успокоившись.
Вышло так, что прекрасно сохранившаяся банкирша и знаменитый человек с поводом для огорчения между лопаток какое-то время остались одни. Она предложила певцу отвезти его в отель, и хотя отель был сразу за углом, он из вежливости согласился. Но вместо того чтобы повернуть лицо к выходу, она обращает его к некоей чуть прикрытой двери и распахивает ее.
– Бьюсь об заклад, маэстро, вам еще ни разу не доводилось видеть «Кабинет Помпадур».
Он видел его, хотя только снаружи, когда, стоя под лавровым венком, размышлял о своем выступлении, но из вежливости согласился, что не видел, и оба вошли туда – причем Тамбурини не преминул оглянуться по сторонам, не занесет ли туда par le plus grand des hasards[114]114
Совершенно случайно (фр.).
[Закрыть] его немилосердную приятельницу Бабилину. Вообще-то он знал, что Бабилина давно ушла, но это ничему не мешало.
С тем же успехом ему могла прийти в голову до сих пор не забытая, хотя вот уже двадцать лет как отошедшая, Ивонна. Она была очень порывистая особа, и, когда это казалось совершенно невозможным, она возникала перед ним.
Действительно, в его представлении Анастасия совершенно переняла у давней Ивонны манеру вести себя. Сценическая память поддержала возникшую у пятидесятилетнего склонность смешивать десятилетия.
Пораженный, будто и в самом деле на нем лежала какая-то вина, внутренне готовый к отступлению, Тамбурини последовал за прекрасной Мелузиной в кабинет, мало того что пустой, так еще вдобавок исторический. Фигуры, вполне бы здесь уместные, отсутствовали. «Что нам следует сделать в подобных обстоятельствах? Промолчать. Я не буду высказывать антикварных познаний, она же поостережется вспоминать свои страдания».
Эта мысль и в самом деле была ей чужда, оставалась чужда, пока не настал должный миг. Она уже стояла по эту сторону двери, она уже захлопывала ее и все еще не понимала, о чем идет речь. Это была отчаянная попытка самолично определить свою судьбу, удержать ее, распоряжаться собственной личностью, не уступать ее из небрежности то ли несчастью, то ли, почем мне знать, – унижению.
Нельзя, будучи вдвоем в комнате, долго стоять спиной друг к другу, разве что надвигается нечто из ряда вон выходящее. Внезапно висок, внезапно щека красавицы прильнула к плечу малорослого певца. Поэтому коленям надлежало в напряженной позе поддерживать их полунаклон. Долго так не простоишь, поза была избрана ошибочно, как знал сей опытный. И он заговорил, щадя ее:
– Только не плакать, моя восхитительная подруга! Вашему прекрасному лицу почти миновавшая ночь не нанесла ни малейшего урона. Несколько слез могут многое испортить, слезы, которым вы не дадите упасть на землю, опасны для вашей по-прежнему гладкой кожи.
– Так и слышится: для моего без единой морщинки достоинства.
– Хорошо, вы готовы уступить какую-то часть своего достоинства. Это ровно ничего не значит для человека, подобного мне. Отказ от достоинства может обернуться благодеянием.
– Человек, подобный вам, готов умалить себя, лишь бы увильнуть. – Это сказано очень жестко. Хорошо еще, что с негодованием, не то ему пришлось бы остерегаться ее презрения. Нет, уж лучше он примет на себя ее гнев.
Она уже сидит на хрупком канапе, а второе место жестом предлагает ему.
– Я вовсе не заманила вас в западню, друг мой, – небрежно роняет она таким тоном, словно просит открыть или закрыть окно.
Тамбурини решил, что при этих словах ему надлежит улыбнуться.
– Ах, какая бы это была сладкая западня, – сказал он столь же тщеславно, сколь и скромно.
Ее взгляд скользнул по нему сверху вниз.
– По-моему, вы и впрямь меня не понимаете.
Он, прижав руку к груди:
– Вы переоценили меня, о женщина моей мечты! Вы и сейчас в заблуждении. В ваших же собственных интересах я прошу вас увидеть меня таким, каков я на самом деле: заурядный человек, без более высоких притязаний, чем имеет в его возрасте любой лавочник. Я просто отмечен двумя редко совпадающими дарами. И вы это знаете.
– Да, потому что вы сказали мне это еще вчера вечером, в другой комнате, где я была счастлива.
– А за несколько минут перед тем вы испытали разочарования.
– Всего лишь одно. И именно в нем я нашла утешение у доброго человека, которого я теперь не узнаю.
– Он притворяется, чтобы не причинить вам боль, – искренне признается Тамбурини. После чего он без церемоний прижал ее колено ладонью, не то она встала бы и оборвала разговор. – А теперь я хочу слово в слово повторить вам то, что подумал, когда вы уходили, а я глядел вам вслед. Вот это была бы женщина для моего дома на лоне природы. Много детей! Смеха! Шуток!
– Была бы, – повторила она вслед за ним.
Он пояснил:
– Когда сам я был моложе. И еще мне надо бы с самого начала быть другим.
Мелузина засмеялась. Жалостный смех, но она его не стыдилась. За много, много часов она первый раз почувствовала облегчение.
– Дорогой друг, – сказала она, даже и не хриплым голосом. – Я не выдвину, подобно вам, множества условий, чтобы признаться, чего я одновременно с вами желала себе или теперь думаю, будто желала. Что прошло, то прошло.
– Если бы знать, – вздохнул он, как бы цепляясь за свою или за их общую нерешительность. Отсрочка, прежде чем разойтись. Вступая в этот разговор, он еще не знал зачем. Теперь же он видел только свою боязнь затянуть его до пределов возможного, перечить ей, удерживать ее. – «Прошло» – говорите вы? Но себе-то вы признавались в своих желаниях?
– Прикажете выразить это на словах? – Она сделала вид, будто раскидывает руки, и голова ее ненадолго откинулась назад.
«Значит, все-таки об Опере, – подумал он. – Если бы я дал ей тогда встать, ее колени тоже бы участвовали в спектакле.
Легкий изгиб бедра, чтобы условно прижать того, каким я никогда не был, к своему реальному, такому красивому телу».
– Не надо слов, Мелузина, пусть это останется самым дорогим, что мне довелось бы услышать в моей жизни.
– Это не было бы объяснением в любви, – трезво возразила она.
И он ответил:
– На свой лад это все же стало бы объяснением. Оно не было бы напрямую адресовано портняжному манекену, мудрому и благородному, но оно дало бы предлог, помогло бы случаю. Вы любили бы свое прибежище. Но так или иначе это было бы прибежищем у него.
И прежде чем он сумел ей помешать, она поднялась на ноги. Ее роскошные бедра продемонстрировали именно тот угол наклона, какой он и предвидел. Ее безупречной белизны руки – ибо они отбросили темные рукава манто – были демонстративно распахнуты и выражали готовность. Ему не оставалось ничего иного, как упасть в их объятия, если силы окончательно его оставят. Так и случилось, и тогда он рухнул перед ней на колени, глаза закрыты, внезапная мертвенность лица, он не двигался, дожидаясь ее решения. Опрокинуть его навзничь кончиком туфли? Это напрашивалось. И жестокая улыбка, которая появляется у них, когда мы пасуем.
Она, однако же, подхватила его под мышки, притянула ближе, как ребенка, приподняла ему подбородок, так что он поневоле должен был взглянуть на нее. И, глядя ему прямо в глаза, промолвила:
– Очень жаль. Был друг людей и бескорыстный друг женщин: им дозволялось даже быть уродливыми. Вот Бабилина, к примеру, не уродлива и не красива.
– Либо то и другое сразу, – перебил он, – но ее я обидел.
– Меня нет. Вообще-то вы меня даже и не разочаровали. Я всегда мечтала о друге, которого покидала бы время от времени. Бедные любовники со всеми их недостатками не шли бы с ним ни в какое сравнение. Но ваше – о, сколь человечное! – поведение соблазнило меня, я не могла отказаться от единственной – и последней – попытки. Вы меня поняли. Верно поняли, – повторила она.
– Хочу признаться, – тихо проговорил он, и действительно это походило на исповедь: – Самой популярной, чтобы не сказать самой желанной женщине пришла в голову мысль бежать всего, что могло бы ее удержать, разделить свое одиночество с другим, который был подобен ей, так же как она, покинул бы свет и, так же как она, старился бы в мире и покое.
– Ибо эти двое были отмечены…
– …блеском и позором, – послушно завершил он.
– Предопределено даже, что один будет слабеть, другой же возьмет верх. Доведись мне быть на сцене спустя десять лет, голос бы мой произносился, и тем отчетливей выступило бы на первый план второе.
Она вовсе не требовала, чтобы второе было названо по имени. И взамен надеялась, что и он со своей стороны, по крайней мере на словах, пощадит ее состояние. Он явно обдумывал более мягкий вариант.
– Женщина, которая от природы красива, останется такой всегда соответственно периодам своей жизни. В этом опасности нет. Опасность в переменчивости поклонников, которые под конец становятся весьма молоды. А красота, наделенная опытом, желает надежности. Отсюда возникает идея популярной светской дамы поменять прихотливый свет на постоянное прибежище уединенного сельского дома с умолкшим певцом внутри.
– А почему бы и нет? – Настойчивый вопрос. Ответом служило его лицо: сомнение, отразившееся на нем, было бесповоротным, слова убеждали меньше.
– Шесть месяцев, – произнес чистый голос певца, словно исполняя песню вечной любви, – шесть месяцев, или, пожалуй, дадим ему все восемнадцать. Тогда он начнет свое прощальное турне, а вернувшись, уже не застанет ее.
– Но почему? – спросила она снова. – Оба вполне могут обождать. – Это не настойчиво, она говорила нейтральным голосом, как будто вмешивалась в чужие дела. Она говорила с тайным опасением: не надо слишком волноваться, это старит.
Он ответил:
– Обождать мог бы скорей неверный виртуоз. Женщина, чьей благосклонности некогда домогались, начнет сама искать то, от чего по легкомыслию отказалась.
– Назовите причину сами! – потребовала она и, поскольку он смолк, как и его лицо, продолжила: – Ваши вечно неупорядоченные дела, ваши мальчики, которые уже начинают отвечать «нет».
Он прижал руку к груди. Опустив глаза долу, к ее ногам, он признавал свою вину:
– Простите меня, о спутница моих грез, которым не суждено свершиться. Мое чувство изощрялось в замыслах, прекрасных и потому утомительных. А все я, это я непродуманно, хотя и не против воли, внушил вам планы: человек разумный никогда бы таких не строил.
– Вы пожелали этого раньше, чем я? Больше, чем я? – с надеждой спросила она в последний раз.
– И с меньшим правом, чем вы, – промолвил он.
– Я начинаю понимать, – заговорила она, ни к кому не обращаясь. – Вы обходились со мной как с публикой, которую вы учите минимальным приличиям, прекрасно сознавая, что она останется какой была. И прибегаете для этого к привычному средству, к вашему завораживающему голосу, словно это такой пустяк.
Пауза. Она, отвернувшись, смотрела в пол, он тем временем мог украдкой бросить взгляд на часы. Слишком долго, увидел он, сцена затянулась, но нельзя, чтобы она кончилась именно так.
– Не позволите ли вы, – попросил он, – чтобы, признав свою вину, я, однако, попробовал оправдаться? Не перед вами: вам пришлось бы слишком многое мне простить. Но как моралист – допускаю это с оговорками – я не всегда был неудачлив. То, что вы милостиво согласитесь выслушать, не касается женщин. Давайте сядем. – Изящный жест.
На сей раз он сам определял, сколько места на канапе должен занять каждый из них. Он мог двигать руками, наклоняться вперед, при нужде оборачиваться к отсутствующему партнеру. Так он себя и повел.
– О! – сказал он. – Милый друг Дорленги, вы снова подле нас? – Никто ему не ответил, и тогда он продолжал: – Пусть вы давно нас покинули, «Бедная Тониетта» живет. Ваша единственная опера, у нас дома каждый ребенок знает ее наизусть. Все, у кого подходящее настроение, поют: «Взгляни, родная, вот наш дом в цветах». Е morto giovane, poveretto[115]115
Бедняга, умер молодым (ит.).
[Закрыть], – пояснил он соседке, которая вовсе не нуждалась в напоминании.
При первых же его словах она увидела перед собой на сцене старую оперу, традиционные декорации крестьянского дома – живая изгородь из шиповника, беседка из лиловых глициний, Тамбурини в роли Маттео: сейчас начнется ария, которую он назвал. Он прервал поток ее воспоминаний. Покамест мы еще не задержимся возле дома в цветах.
– А теперь скажите мне, кто в целом свете, хоть здесь, хоть еще где-нибудь, кроме нас двоих, слышал «Бедную Тониетту»? Их окажется так же мало, уверяю вас, как и тех, кто слышал «Джоконду» маэстро Понкьелли, ведь она тоже итог всей жизни. Вот дома у нас мы все ее знали наизусть.
Он говорил так, словно и сам был человеком с улицы, который поет, раз светит солнце.
– Здесь, вдали от Италии, по радио передают одну, от силы две мелодии. Никто не спрашивает, откуда они. Я не гордец, – продолжал он без остановки, – но все же Италия обладает чем-то более великим, нежели ее всемирная слава. Я говорю о неизвестных шедеврах. Они доступны в Италии каждому ребенку и никогда не выходили за ее границы.
– Плохо для нас, для остальных, – отвечала она, не слишком задумываясь над его словами. В ней все пело: «Взгляни, родная, вот наш дом в цветах». Он был почти уверен в этом. Ее страдание изливалось в незначащих словах, в звуках, слишком похожих на мечты, чтобы они смогли воззвать к истинным его переживаниям.
– Неплохо. – Он упорно держался за свой монолог. – Но для нас, соотечественников маэстро, – реальная причина назвать их своей собственностью. Маэстро Масканьи я сказал: как мы гордимся вами! Как мы гордимся Италией! Все певцы мира пользуются нашим языком, все вот уже пятьдесят лет поют знаменитейшую из ваших опер.
– Только эту одну и поют, – сказала она, словно просыпаясь. – В высшей степени удивительно. Почему не «Le Maschere»[116]116
«Маски» (ит.).
[Закрыть]? – спросила она с проблесками участия.
– То же самое отвечал мне и всемирно известный старый маэстро, чью самую совершенную из его итальянских опер нигде не ставят. Я объяснил ему: вы полагаете, будто сердце мира не имеет границ? Неисчерпаемо лишь ваше собственное. Вы покоряете мир, но вы создали и то, что принадлежит лишь нам, нам – и навсегда. Наша страна – самая богатая в мире, самая всемирная в искусствах и остается для нас самой собственной. У нас слишком много совершенства для большого мира.
– И он вас понял? – Это уже не только с участием, но и с иронией.
– Я увидел слезы на его старых глазах, – признался он и торопливо добавил: – Cosa vuole. Tanti copalavori![117]117
Чего вы хотите? Шедевров так много! (ит.)
[Закрыть] Но он так никогда и не вышел за пределы этой единственной оперы продолжительностью всего один час. Настолько ограничена даже великая жизнь. Е nоi?[118]118
А мы? (ит.)
[Закрыть]
А мы? Вот куда метил весь его рассказ: теперь это стало ясно. Но странным образом не уязвило ее, не оказалось тяжелым ударом, как было бы немногим ранее. «Мы можем сколько угодно рваться из самих себя, но нам бесповоротно предназначена лишь эта судьба, которая и есть мы сами, снаружи и внутри, от кончиков ногтей и до лона. Никто не в силах изменить мою кожу. Никто – увести меня в новую жизнь, никакой Тамбурини – к домику в цветах».
И тут он пианиссимо пропел ей на ушко:
– «Взгляни, родная, вот наш дом в цветах»!
Она заметила, что он уже стоит в парящей позе, повернувшись к ней лицом для прощания. Прекрасная Мелузина внимала ему как дитя, блестящие глаза, полуоткрытый рот.
– Очень красиво и очень жестоко, – сказала она, когда все кончилось, но улыбнулась благодарной и бледной улыбкой.
Он открыл перед ней дверь, верней сказать, его рука держала дверь закрытой несколько секунд, достаточных, чтобы шепнуть над ее плечом:
– Выходите за своего делового друга, которого называют Артуром.
Она вышла в дверь, которую он не держал более. Она не оглянулась. Сказанные им на прощание слова нимало ее не удивили.
Внизу, на улице, тем временем многое погасло, было отодвинуто, скрылось. Дуговые фонари, прожектора, телохранители, швейцары, выкликавшие машины, шустрые тайные агенты, которые неотступно бдели, напитки для шоферов, уличные девочки, подобно мотылькам слетевшиеся на яркий свет, и каких там еще не было странных прохожих – все исчезло. Праздничное освещение, некогда весьма значимое преддверие торжества, захватывающее даже улицу, погасло, пересиленное занимающимся деловым днем.
Одинокая женщина садится в свою машину, проще говоря – в последнюю. Уже на подножке женщина полуоборачивается, она, помнится, собиралась подвезти кого-то домой.
ХХ. Праздник на исходе
Андре и Стефани заняли целый стол, первый попавшийся, за большинством других никого не было. На заднем плане, вокруг сцены, с недавнего времени покинутой музыкантами, что-то суетилось, слабо или судорожно, умеренная толчея.
Может, кто-то сделал свой взнос последними гостями, вот они и не расходились. Между тем с большей или меньшей достоверностью можно было сказать, что этому резко очерченному профилю просто некуда податься, что фигура с фельдфебельскими замашками страдает у себя во дворце навязчивыми представлениями, почему и старается размотать ночь где-нибудь еще. А что до дамы справа…
С голубым начесом?
Именно она охотно прихватила бы к себе обе фигуры с единственной надеждой, что из этого может получиться история, а ее портрет – попасть в газеты.
– Рассеянные звездочки я уже убрал. Может, вообще выключить свет? – спросил Андре.
Тихая юная парочка без всякого расчета заняла удачное место, из этого уголка можно было глядеть на обе стороны, даже видеть часть зала с дорогим папенькой. Артур, измотанный сверх всякой меры, в чем он никогда бы не признался, лежал всей грудью и локтями на одном из углов расчищенного буфета. Кушанья, которые он поглощал в порыве слепой жадности, были остатками, он вытащил их из карманов наемных слуг, всех четверых, не то они послужили бы пропитанием для четырех семейств.
– Вкусно? – спросил кто-то за спиной у обжирающегося Артура.
– За семь часов – ни крошки во рту, – пробурчал Артур, закрывая миску рукой, чтобы спасти от грабежа. – Борьба за существование требует всего человека без остатка. Я не пытаюсь облегчить ее себе, как это делаете вы.
– Ну и ладно, – сказал, куда-то направляясь, Нолус.
Артур пробурчал ему вслед:
– Я целую ночь бьюсь с нашими заимодавцами, мне это уже стоило паралича голосовых связок.
– Это стоило вам гораздо, гораздо больше, – сказал банкир, волосы начинаются совсем низко, вылитая горилла, но в его речи проскальзывал какой-то непонятный оттенок. Сострадание? Издевка? Радость обманщика? Переутомленный Артур не мог это не почувствовать, но чувство не пробилось до сознания. Он держится за свою устаревшую идею, и не диво, что друг его жалеет и высмеивает.
– Только малость подзаправить машину! – Жующего было трудно понять, он разжевывал и глотал слова вместе с содержимым своего рта. – Потом пойду собирать чеки, плод моих усилий! Венец приема! Ga colle, mon président[119]119
Все в порядке, господин президент (фр.).
[Закрыть]. Подавайте-ка сюда! Crachez la forte somme! Rattrapez-vous sur le beau sexe![120]120
Выкладывайте большую сумму. Держитесь без опаски за прекрасный пол! (фр.)
[Закрыть]
Главным образом для вящей наглядности своей заправки он налил в свое шампанское очень много коньяка и опрокинул в себя эту смесь. Наличием бутылок он был обязан личному обыску четырех лакеев. Лишь тут пронырливый биржевик заметил, как плохо обстоят дела. Пациент перенапрягся духовно еще больше, чем физически. Это и нам известно по черным пятницам. Если по ошибке где-нибудь рядом оставили веревку…
Проворно, чего никто бы не ожидал от этого грузного человека, он обшарил ближайшие окрестности либо сделал вид, будто обшаривает. Никаких веревок.
– Вы яд при себе не носите? – спросил он строго.
– Я завтракаю, – гласил четкий ответ.
– Тогда дело обстоит по-другому. Вы внезапно впали в детство по причине последовательного злоупотребления сенсациями. Опасность вечно подстерегала вас в интенсивности ваших профессиональных занятий.
– Во всяком случае, я философ, – лепетал Артур. – Нолус Темный выбьет меня из седла.
– Уже сделано, – заметил успокоенный Нолус.
Несчастный, все еще ослепленный алчностью, от своей тарелки:
– Попробуйте сами собрать чеки.
Сказать еще раз «уже сделано» было бы слишком дешевым ударом, по соображениям вкуса знаток искусства к нему не прибег, попутно обронив пустячный совет:
– Попробуйте выбить капиталец из тех laissés pour compte[121]121
Оставшихся (фр.).
[Закрыть], которые там, в задних комнатах, изнемогают от сонливости.
– А вы? Мои президенты, каждый по отдельности, слышали из ваших собственных уст, что вы уезжаете в Панаму.
– В Сан-Доминго, – поправил Нолус; дальнейшие подробности он не желал тратить на человека погибшего. Этот ничему бы не поверил, ничего не увидел, все позабыл: даже вполне конкретные факты. Возьмем, к примеру, хотя бы то, что все президенты уже давным-давно у себя дома, а невезучий борец за существование завтракает иллюзиями.
Второй же, со вполне надежным рассудком, оставил первого наедине с продуктами питания. Такое случается, деловито подумал он, без страха и без сочувствия. Большинству кажется, будто подобный человек сделан как надо! – рассуждал он дальше. Но где-то есть изъян. Какой-то надлом в нем ощущался всегда, неизвестно только какой. Чрезмерная суетливость еще ничего не объясняет. У человека, к примеру, есть столетний папаша, который разыгрывает комедию. Вот откуда возникло безумие сына.
Остерегаться самому Нолус считал теперь делом излишним. Все позади, он уезжает. Оружейный президент не стал скрывать от второго бананового туриста свою Океанию, за что каждый обозвал другого идеалистом. Роковым оказался для банкира средней руки пример, который подала ему вершина мировой экономики, надумав прихватить с собой свою девку. И в этом уподобиться ему – вот что уже много часов неотступно занимало ум Нолуса.
Итак, Нолус подбил изнутри грудь своего пиджака чеками меценатов, уклоняющихся от налогов, адептов музыки, ценителей красивых ног. Деньги, которые они желали укрыть от обложения, можно, казалось бы, прямиком израсходовать на ноги. Но нет, потребность играть роль в культурной жизни владеет ими даже на смертном одре, одновременно с последним вздохом они закладывают здание новой Оперы.
Генеральный директор, прежде чем повернуться спиной к великосветскому приему, произнес незабываемые слова. Он произнес их как бы в воздух, все равно кто услышит. Мало избранных, и Нолус бывает таким от силы на мгновения, когда его восприятие против обыкновения обострено.
– Весьма поучительно у вас сегодня вечером, – сказал директор, адресуясь как бы к хозяину дома, находящемуся как раз против него, но на самом деле просто в воздух. – Последний прием в свете – это никак нельзя было упустить. Отложив для начала в сторону все личные притязания, охватываешь взглядом происходящее и испытываешь эстетическое удовлетворение.
– Вы – и отложив притязания? – удивился Артур, которому такая позиция была чужда. Директор поморгал белесыми ресничками. Осторожно, как к себе самому, отнесся он к этим словам:
– Было бы проявлением мудрости своевременно воспринять неизбежное. Наша Опера никогда не будет построена. Одни напрасно ее оплатят, другие не смогут предоставить ей свою силу, третьи и четвертые не смогут обеспечить ни скандалы, ни рекламу. А я не стану ее разорять.
Такое наследство оставил уходящий директор. Артур этого не заслуживал и, глядя директору вслед, поднес палец к виску: не самый удачный ответ, как тотчас почувствовал Нолус. Но если человек, выслушав пророчество наиболее сведущего из всех светских друзей, ничего лучше не придумал, как подъедать остатки!
Нолус, оставивший позади своего былого соратника Артура, отвергнувший его как неровню, сам пребывал тем не менее в плену собственных заблуждений. Разделить экзотическую новую жизнь с прирожденной спутницей! А спутницей этой непременно должна стать некая Нина, которую он до сего вечера не знал или не замечал. И вдруг она воплощает более чем человеческое предназначение; взаимосвязь событий требует ее присутствия. Сомнительно, сумеет ли кругосветный путешественник беспрепятственно миновать ближайший проселок, разве что рядом с ним будет она (бедного Артура он считал повредившимся в уме, то есть в восприятии действительности).
Исполненный решимости мужчина обошел подобающим ему шагом весь дом, все покои, которые теперь никак не претендовали на праздничный вид. Опустелые, они уже успели покрыться пылью. Прием вполне мог иметь место год назад, только уборщицы до сих пор еще сюда не заглянули. Правда, если бы времени прошло много, электростанция успела бы вырубить ток, а тут все освещение работало – вхолостую.
Даже неизвестно, чья рука включила снова рассеянное, струящееся, вращающееся. Нолуса это откровенно тяготило: почему именно у него, у единственно разумного здесь человека, по фраку должны непрерывно скакать звездочки? Артур в счет не шел, на оклик он лишь еще тяжелее уткнул свою слабую голову в сгиб руки. Если он даже соберет когда-нибудь воедино свои составные части, то лишь затем, чтобы есть дальше. «Печально, очень даже печально, но не для нас», – подумал Нолус. Он символизирует преодоленную опасность.
– На полу, за первым диваном! – указал кто-то нетерпеливцу. Нолус все еще не мог найти.
Появился Андре и сказал:
– Вы явно из интеллигентов? И потому без технических навыков?
Неприятный свет отключился, Нолус заговорил патетическим тоном:
– Мой мальчик, вы часами сидите со своей подружкой и тоже не проявляете технических навыков. Я это делаю по-другому.
Он хотел продолжить свой путь, но Андре удержал его за плечо, и сильней, чем можно было предположить.
– Господин хороший, – заговорил он тоном дружеского участия. – Я вижу, вы все время ищете, и случайно знаю кого. Ваша возлюбленная слишком разговорчива. Вдобавок наша добрая Нина вас заранее обманывает. В данный момент она лежит у себя в комнате со знаменитым Пулайе. Мне хотелось бы по возможности предупредить всякие неожиданные встречи, – сказал он, очевидно недовольный своей ролью.
– Напротив, я вам очень благодарен, – сказал похититель преступной девки, как отныне именовалась Нина в его переполненном сердце. И Пулайе, и прочие отклонения он подозревал за ней с самого начала. Именно это закусивший удила банкир считал для себя подобающим, более того – прирожденным. Молодые чувства били ключом, глаза сверкали.
Горилла возвращается к первобытной дикости, увидел Андре, после чего поднес в знак приветствия к голове два пальца и поспешил отойти на приличное расстояние, подальше от такого переизбытка естественности.
– Он что, пьяный? – спросила Стефани, когда Андре вернулся.
– Ты про кого? – спросил и Андре. – Бедный Артур, во всяком случае, пьян, и даже хуже того. А Нолус, тот просто делает выводы.
– Из чего?
Он пожал плечами. Тема была слишком обширна, огромный простор для глубоких размышлений.
– Ты чувствуешь как я, – заметила Стефани, и в ответ на его взгляд: – Какой-то он зловещий сейчас, этот дом.
Андре промолчал, он был исполнен восхищения, собой, и ею, и тем, что оба чувствовали одинаково. Стефани продолжала:
– Когда ты описывал мне дом твоего дедушки, его призрачность казалась мне почти забавной. А здесь впору получить депрессию.
– Мы не получим, – сказал он без особого нажима.
Она улыбнулась легко, как и он:
– Мы нет.
– Хочешь, я вышвырну поздних гостей? – осведомился он из чистой любезности. Уже один раз он не отключил свет: ее быстрый взгляд искоса напомнил ему об этом. Она благодарно улыбнулась шутке.
– Это было бы жестоко, – сказала она.
– Было бы жестоко, – повторил он. – Первый раз со вчерашнего вечера этим нескольким горлопанам вовсе не плохо, если отвлечься от того обстоятельства, что они предпочли бы заснуть на месте. Возможно даже, их ничто не заставляет просыпаться снова. Впрочем, здесь я ошибаюсь.
– Здесь ты ошибаешься. Жизнь прекрасна для каждого.
Простейшая истина, просто сказанная, и они поглядели друг другу в глаза. И снова почувствовали, как между ними все становится серьезно, очень серьезно, и затрепетали от этого чувства.
– Я так и не видела больше своего дедушку, – начала она. Он понял, кого она так назвала.
– Никто не видит Балтазара, когда он намерен исчезнуть. И все же я знаю: он тебя видел. А ты, ни о чем не догадываясь, прошла мимо.
Восклицание, граничащее с испугом; впрочем, она тотчас успокоилась:
– Наш дорогой старенький Балтазар всегда будет чудом. Он безобидный, как и мы, кто, следуя его примеру, отказывается от борьбы за деньги. Вот почему он считает себя мертвым. Но, – храбро продолжала Стефани, – это делает его еще симпатичнее. А зловещий дом скорее именно этот, – повторила она.
– Допустим, Балтазаром здесь чудовищно злоупотребляли. До такой степени, что теперь он снова ожил! – Андре был охвачен гневным возбуждением, и в знак благодарности Стефани взяла его руку. В состоянии аффекта он позволил себе спросить: – Разве и мы не вели себя так, как нам не хотелось бы? Ну почему мы избегали друг друга?
– Раз уж ты не знаешь…
– Я знаю – от Балтазара. Что ты плакала.