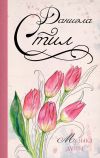Читать книгу "Великосветский прием. Учитель Гнус"

Автор книги: Фридрих Ницше
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Голова его прокручивала варианты, но проблема оттого не менялась: он что, сегодня утром действительно нашел деньги? Но где их находят, если ты не Пулайе, не защитник слабых, который экспроприирует неправедное богатство? Возьмем самый суровый вариант: он что-то нашел. Юная чета выглядит так, словно поработала на него, особенно девушка. Пока ничего понять нельзя, но любой кроссворд рано или поздно бывает решен. Возможно, Артур еще и сам ничего не знает. Я застал бы его врасплох, сумей я опередить этих двоих, как поначалу инстинктивно намеревался. Но поскольку я начинаю смутно прозревать причинные связи, это было бы нелояльно с моей стороны.
Он выжал сцепление и погнал через длинный, с редким движением пригород. И голова у него сразу заработала быстрей. Напротив, лучше я пропущу их вперед. Пусть они развеют один предрассудок Артура. Может быть, они правы. И едва у Артура заведутся деньги, заведется и мораль. Тогда он не пожелает завладеть половиной состояния, отобранного мной у Нолуса. В результате чего он потребует, чтобы и я внес свою долю на счет новой Оперы, которая не более чем иллюзия, и однако же деятельная жизнь должна перед ней посторониться. Нелепица.
Пулайе-неудачнику нелепица не сразу бросилась бы в глаза. Он начинает замечать несправедливость, раз он изрядно заработал, и его борьба за существование допускает некоторую передышку; вот только с ним, к сожалению, поступят не по справедливости. Се serait а desesperer du genre humain, et de la justice[201]201
Поневоле разочаруешься и в роде человеческом, и в справедливости (фр.).
[Закрыть].
Путь спасения обоих – и человека, и справедливости – Пулайе нашел не более чем за минуту: время подпирало. «Молодость! Il n'y а qu'elle, роuг la consolation du juste[202]202
Для справедливого нет иного утешения (фр.).
[Закрыть]. Я долго ею обладал, я не ведал раскаяния, и я был великодушен. Внезапно я зарабатываю больше денег, чем могу истратить за всю свою жизнь, и тут как раз дает о себе знать старость. Она уже и без того мне грозила, но была бы куда ужаснее, не сумей я одолеть Нолуса. Passons[203]203
Оставим это (фр.).
[Закрыть]. Молодость сидит за моей спиной. Я вижу в зеркальце, что она искренне хочет ни о чем, кроме себя, не думать, но у нее не получается. И будучи, как ей и положено, великодушной, она бросает на меня боязливые взгляды.
Она видит во мне несправедливо притесненного, а я, собственно, таков и есть. Она шепчет, что Артур, как много денег они ему ни привезут, должен взять и мои, не то я буду принужден выплатить свою долю. Во имя справедливости он должен быть скомпрометирован вместе со мной, решает не ведающая раскаяния молодость. Мой капитал добыт не совсем безупречными путями. Но и происхождение сверкающего золота, которое добыла сама молодость, тоже вызывает некоторое подозрение, у золота так вообще не бывает. Впрочем, я не стану вмешиваться. Вопросы запрещены, не то все сразу же окажется под вопросом. Молодость будет действовать по своему разумению, которое не ведает раскаяния и которое исполнено великодушия».
Здесь машина останавливается.
XXVII. Конца не будет
Машина остановилась вдруг в таком месте, куда она могла попасть, только если бы кто-нибудь заново продумал и маршрут, и конечную цель. Стефани и Андре с удивлением заметили, что их со всех сторон обступил цветущий кустарник. Вместо широкой аллеи с нависающими где-то высоко наверху кронами деревьев они увидели себя на самой узкой из всех возможных дорог, по которой едва ли могла проехать машина, разве что элегантное спортивное авто. Вообще же по этой дороге ходили только: а) чтобы срезать поворот, б) чтобы побыть наедине с какой-нибудь особой. Здесь было вполне безлюдно, и с шоссе едва доносились сигналы.
Но в планы Андре и Стефани не входили ни «а», ни «б». Нежности были малопригодны для часа, который им представлялся скорее тягостным. А что до спешки, они не испытывали потребности как можно скорей добраться до Артура. Добраться все равно было надо, обстоятельства требовали. Но они предпочли бы явиться без сопровождения и вдобавок не слишком быстро.
Но что такое с Пулайе, почему он обхватил руками руль и не двигается с места? Прошлое Пулайе, казалось бы оставшееся позади, на какое-то время изрядно встревожило обоих детей. Неужто от дурной славы так никогда и нельзя избавиться? В случаях неопределенных эту славу обычно преувеличивают и практически ждут от припечатанного недоброй молвой любой пакости. Правда, при более близком знакомстве он, как человек, только выиграл. Хотя, с другой стороны, он мог внезапно повредиться в рассудке.
Стефани даже пошутила:
– Пулайе, а вы, собственно говоря, знаете, где вы находитесь? Это называется Тропой влюбленных. Le sentúr des amoureux[204]204
Тропа влюбленных (фр.).
[Закрыть], она не предназначена для вас, да и для нас, когда мы спешим по делам, тоже нет.
– Но дела есть и у вас тоже, – сказал Андре, – или вы на все махнули рукой?
– Да никоим образом, – ответил Пулайе и наконец-то обратил к ним свое лицо. Одной своей половиной и потому не вполне совершенно это лицо демонстрировало некое состояние души, которое не хотелось бы назвать смирением. Но как тогда сказать? Они не стали подыскивать обозначение, они просто были тронуты его беззащитностью. Он сидел такой невинный, что ему пришлось заклеить пластырем и завязать пол-лица после очередного этапа борьбы за существование, теперь же, и они это почувствовали, еще прежде чем заговорить, он отдал себя в их власть.
Итак, Пулайе заговорил. Голос его, певческий голос, как нам уже известно, оставался приятным, даже когда он изображал раздражительного кавалера. Но кем он был здесь и сейчас?
– Прошу извинения, – заговорил он спокойно, слишком даже спокойно, – что я не покидаю свое место, дабы помочь выйти молодой даме. На этой цветущей тропе тесновато даже двоим.
– Нам выйти? – спросили они.
– Прошу вас, – сказал он.
– Нам отсюда больше получаса пути, – констатировал Андре, а Стефани довершила:
– Вы поедете без нас. Хотите нас опередить?
– Никоим образом, мадемуазель, – возражал сей загадочный человек. – Наша очаровательная совместная прогулка здесь оканчивается. Если взять вправо, вы достигнете цели, и даже кратчайшим путем. Я же поеду налево, вернусь на дорогу и – в город. Мне кое-что припомнилось.
– А я-то думала, вы желали поговорить с Артуром?
– До вас, прелестная барышня?! До того, как он узнает, что вы ему, как видно, собираетесь сказать? Не то я застал бы его врасплох, он бы почувствовал себя обманутым и пожалел о своем согласии. Я не только оказал бы дурную услугу своему делу. Я бы вдобавок поступил не как человек чести.
– А вам это так важно? Больше, чем остальные формы выражения? Пулайе, вас еще никто не мог оценить по справедливости.
– Да и я других – не больше. Узнайте же, пожалуйста: кто достиг середины жизни, тот разучился быть справедливым и забыл об этом. Справедливость была и оставалась бы меланхолическим предостережением, если бы кое-кто не был молодым и не сохранил еще способность поступать по справедливости.
Сказавши это, Пулайе тотчас собрался отъехать, они едва успели выйти и поглядеть вслед стройной машине, пока за ней не сомкнулись цветущие кусты.
– Он больше не вернется, – сказал Андре, продолжая путь, – мне кажется, будто мы видели его в последний раз.
Стефани:
– От него этого вполне можно ожидать. Чувство такта не позволит ему подвести друзей, покуда характер его как человека чести остается бесспорным.
Андре:
– Если у него есть деньги, ждать ему придется недолго. Вопрос стоит так: а есть у него деньги?
Стефани:
– Нет. Вернее сказать – да. От нас зависит побудить Артура поделиться с ним. Андре, неужели он догадался раньше?
– Вот для того-то он и дает нам время. До города и обратно плюс его выдуманные дела, получится примерно два часа. Более чем достаточно, чтобы подбить Артура на совместную утайку капитала.
Стефани:
– Увы, кажется, это и есть самое подходящее слово.
Андре:
– Я придаю большое значение подходящим словам. Артур же в смятении чувств из-за смерти Балтазара и нежданного золота даже не заметит, какое преступление он совершил.
Стефани нежно трогает его за руку.
– Ты разрешишь мне сделать некоторое уточнение? Артур во все времена рассчитывал на это золото. Пусть оно сказочное, но отнюдь не нежданное. То, как он, подобно Нолусу и l'autre larron[205]205
Другой жулик (фр.).
[Закрыть], намеревался поступить с доброхотными деяниями лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, сам Артур никогда не воспринимал это иным образом, нежели это называет закон.
Андре:
– Ты жестока.
Стефани:
– Вот почему, даже и совершенно разорившись, он бы всегда гнал от себя искусителя.
Андре:
– Ты ангел доброты.
Стефани:
– Я и не ангел, и не жестока. Раз мы еще молоды, мы можем поступить по справедливости, ты ведь слышал.
Андре:
– Не странно ли, что в мыслях некоего Пулайе присутствует справедливость?
Стефани:
– Где ж ей еще присутствовать? Он был с ней близок, бурно близок еще раньше, чем стал человеком чести.
Андре:
– И это нетрудно понять, если допустить, что он воспринимает свой род занятий как инструмент социального управления. Но сегодня он зайдет дальше. И мы сами обязаны взять на себя моральную ответственность за вопиющее преступление против собственности.
Стефани:
– Не выйдет. Мы чтим собственность.
Андре:
– Отнюдь не испытывая ненависти к ее противникам. Только не надо им нокаутировать Нолуса и задавать деру с чеками, после чего снова уважать собственность.
Стефани:
– Нет, это мы действительно не можем на себя взять.
Андре:
– Тем более что общественные последствия нашего решения ударят другого. Нести последствия придется Артуру.
Стефани, нежно:
– Ты опять забываешь, что у него есть совесть и что он может отказаться от сделки.
Андре, с благодарностью:
– Хотя сам же и предложил ее другому. Отсюда возникает вопрос: есть ли для него путь назад? Теперь, после выполненного задания, отречься от Пулайе, которого он сам инспирировал и послал на дело, бросить одного, столкнуть в позорную бедность? Ты только представь себе: бедность плюс сознание позора!
Стефани:
– Успокойся. Позор знают и невиннейшие бедняки.
Андре:
– Но он куда больше гнетет, когда человек воровал напрасно. Вот этого быть не должно. Артур возьмет это на себя?
Стефани:
– Тогда он сдержит перед другим слово и получится, что украли оба.
Андре, стиснув виски:
– Ужас, ужас, ужас! Неизбежное раздвоение совести. Как ни сделай, все равно будет плохо. Вот тебе борьба за существование в полный рост.
Стефани, тихо:
– Борьбы не будет.
Андре, остановившись:
– Почему?
Ему захотелось заглянуть ей в глаза, но она опустила их, разглядывая цветочный ковер вокруг своих ног. Растительность в блаженстве красок, катившая свои залитые солнцем волны над головами обоих, и кто к ней приглядывался, тому она отвечала сиянием – истинное земное счастье. Кто приглядывался, тот был счастлив. Вот каково существование и вот чего стоят все наши напускные заботы. Он сказал:
– Как прекрасно, а мы – как печальны.
– Теперь ты и в самом деле забыл, – сказала Стефани. Голос, исполненный решимости, снова звучит как чистое меццо-сопрано. – Ты забыл, кому оставил Балтазар свое неизвестно какими путями добытое золото. Вместо сына наследую я одна.
– Ты что задумала? Ставить ему условия? – Он задержал дыхание.
Она спокойно ответила:
– Зачем условия? Нет, я избавлю его от всех конфликтов, и от этого тоже. Чтобы ему не пришлось решать, внесет ли он в фонд культурной институции полную сумму, свою долю и долю второго. Решать буду я.
Тут Андре сперва воздел руки вверх, потом уронил их ей на плечи, дабы освятить сказанное поцелуем благодарности – в этот раз он был запечатлен у Стефани на лбу.
– C'est pourtant si simple mais on ný peuse pas?[206]206
Ведь это все так просто, но знает кто о том? (фр.)
[Закрыть] – отвечала она со сдержанной насмешкой надо всем, и над собой тоже. Он отвечал вторым поцелуем.
– Не так уж и просто. Никогда не бывает просто отказаться от большого состояния, даже если ты его и не собираешься сохранить. Что может остаться от золота, когда ты внесешь в фонд положенную сумму?
Она предположила:
– Я думаю, довольно, чтобы нам в нашем зловещем старом доме пожить без забот до тех пор, пока финансовое ведомство не выставит нас за неуплату отчислений.
– А как насчет наших дорогих предков? – поинтересовался он.
Она вынесла свой вердикт:
– Хоть с золотом, хоть без, Мелузина снова и снова будет находить повод упасть со стула, и Артур на свой лад тоже.
– Состояние не продлит их жизнь. – Он вздохнул.
– Но и не сократит. – Она улыбнулась.
– А ты уверена? – спросил он. – Ну, тогда открою тебе свое подозрение: в бочках куда больше золота, чем стоит одна Опера. Больше чем две, да что там две – чем десять. Там хватит золота, чтобы оплатить иным воюющим державам целый день в их тридцатилетних войнах.
– Вот теперь преувеличиваешь ты, – трезво сказала она. – Но я и сама думаю, что Артур с Мелузиной все еще останутся богаты, само собой, не вечно.
– А сколько, как ты полагаешь? – И сам поторопился ответить: – Довольно, чтобы загубить из-за неупотребления много любви.
– Не пугай меня. Ты считаешь, что несовершённую любовь уже нельзя вернуть, что она загублена?
– Сама видишь, – сказал он со всей решительностью и не мешкая уложил ее на спину между кустов. Один куст сверкал голубыми колокольчиками: таким является взору любовное томление. По меньшей мере тремя оттенками красного лучился другой, символизируя настойчивую, продолженную и утоленную страсть. Стефани согласилась без раздумий.
Когда они снова продолжили свой путь, Стефани без сожаления предположила:
– А другой-то из-за нашей задержки придет слишком рано.
– Не тревожься о нем, – попросил Андре невыразимо нежным голосом. – Он придет не только слишком рано, он в любом случае придет зря. Едва мы произнесем первые слова: «Балтазар умер», Артур вместе с нами полезет в свою машину.
– Или, может быть, без нас? – предложила она. – Стоит ли с первых слов поминать про золото? Он и сам отыщет зарытый клад. Да и с завещанием ознакомится в самом непродолжительном времени.
– Верно. И нас это не касается.
– Нас это не касается, – повторила она. – Разве что некто другой, о котором покамест ничего не знаем, захотел бы по справедливости употребить это золото. Разве не было сказано несколько ранее, что справедливость вполне допустима, по крайней мере до тех пор, пока мы молоды. Жертвовать – чтобы улучшить положение всех, только жертвуя, поступаешь справедливо.
Он, глядя на нее с обожанием:
– Это сказала ты. Я держал свои сомнения про себя, покуда наследница сама не произнесла их вслух. Лишенным наследства, как их принято именовать, несть числа, это квазиобщность. Их правое дело получило бы импульс и поддержку благодаря субсидиям с этой суммы.
– Какой такой суммы? – спросила она. – Боюсь, справедливость на земле за наличные не купишь. Достаточно ли мы молоды, чтобы в это верить?
– Forse chesi, forse сheno[207]207
То ли да, то ли нет (ит.).
[Закрыть]. Истинно лишь одно: правое дело поглотило бы все, что течет из бочек, еще быстрей, чем сумели бы промотать это оба избранных.
– Несмотря ни на что! – возразила она. – Справедливость, которую мы не видим, должна быть где-то поблизости. Ибо мы видим любовь.
За это слово они заключили друг друга в объятия, с поцелуями, и благодарностью, и всем прочим.
С этой минуты они шли рука об руку, счастливые и добрые.
– Наш удел – работа и любовь, много того и другого. Прежде чем полюбить, мы собирались всю свою жизнь работать мало.
Вот что они сказали друг другу, а тем временем воздух для них начал звенеть. Был тот редкий час, когда от благостной умиротворенности и осознавшей себя доброты начинают звучать небеса.
Им от души жаль всех, говорят они, ибо все пребывают в неведении. Оба дерзнули бы возомнить, будто владеют смыслом и сутью, но смутно догадываются: это и впрямь будет дерзостью. Мы ничего не ведаем, признаются они. Потому мы и счастливы. Будь мы даже убеждены, что все бочки полны золотом, это бы все равно ничего не изменило. На каком свете происходят подобные истории? Да на том самом, который устраивает великосветский прием. А мы истолкуем сей прием на свой лад. Пусть назовет его сомнительным тот, кто не любит. А мы любим и потому не задаем вопросов. Бодрость духа подобна душевной скорби. Счастье причиняет боль.
Звенит воздух, и земля возносит плывущих по ней. Все это время мы не располагаем точными сведениями, в какой стране разворачивается действие, на каком количестве языков – и каков замысел? Замысел, применительно к нам, простым детям?
«Быть молодыми», – отвечают они. «Значит, это не конец?» – «Нет, это не конец, – отвечают они. – Мы всегда будем молоды».
Они идут дальше.
Учитель Гнус
I
Фамилия его была Нусс, но вся школа называла его Гнусом. Ничего удивительного в этом не было. Прозвища учителей время от времени менялись. Обновленный состав класса кровожадно открывал в учителях комические черты, недостаточно оцененные прошлогодними учениками, и спешил заклеймить их метким словечком. Но Гнус назывался Гнусом во многих поколениях; к этому прозвищу привык весь город, коллеги иначе не именовали его вне стен гимназии, и даже в ее стенах, едва только он поворачивался к ним спиной. Учителя, державшие у себя нахлебников-гимназистов и следившие за их домашними занятиями, не стеснялись говорить об учителе Гнусе. Если бы какой-нибудь бойкий малый, внимательно присмотревшись к наставнику шестого класса, вдруг вздумал окрестить его новым именем, из этого бы ровно ничего не вышло хотя бы уж потому, что привычное прозвище и сейчас бесило старого учителя не меньше, чем двадцать шесть лет назад. Достаточно было при его появлении на школьном дворе кому-нибудь крикнуть: «Да ведь здесь пахнет какой-то гнусью!» или: «Ой-ой-ой! Что за гнусная вонь!» – старик тут же вздергивал плечо, всегда правое, которое и без того было выше левого, и бросал из-под очков косой взгляд на крикуна. Гимназисты считали этот взгляд коварным, на деле же он был только трусливым и мстительным – взгляд тирана с нечистой совестью, ищущий кинжал в складках любого плаща. Одеревенелый подбородок Гнуса с жидкой бурой бороденкой начинал ходуном ходить. Не имея возможности «уличить» крикуна, он поневоле пробирался дальше на своих тощих, искривленных ногах, глубже нахлобучив на лоб засаленную фетровую шляпу.
В прошлом году в день Гнусова юбилея гимназисты устроили факельное шествие к его дому. Он вышел на балкон и стал держать речь. И в то время, как все, задрав головы, смотрели на него, вдруг раздался чей-то противный скрипучий голос:
– Какой гнусный воздух!
Другие тотчас же откликнулись:
– Да, пахнет гнусью! Пахнет гнусью!
Учитель там, наверху, хотя предвидевший возможность такого происшествия, стал запинаться и смотреть крикунам прямо в открытые рты. Коллеги его стояли неподалеку; он чувствовал, что опять ему никого «уличить» не удастся, но запомнил все имена. Уже на следующий день учитель заверил юнца со скрипучим голосом, не знавшего, как называется деревня, где родилась Орлеанская дева, что он еще не раз сумеет «подпортить» жизнь такому нерадивому ученику. И правда, этот Кизелак остался на второй год, а заодно с ним и почти все, кто кричал тогда, на юбилее, к примеру, фон Эрцум. Ломан, правда, не кричал, но все-таки остался. Ломан облегчил задачу Гнуса своей леностью, Эрцум – отсутствием способностей. И вот поздней осенью, в одиннадцать часов утра, на перемене, предшествовавшей классному сочинению об Орлеанской деве, фон Эрцум, который и поныне был с нею не в ладах и потому предвидел катастрофу, в приступе мрачного отчаяния распахнул окно и дурным голосом крикнул в туман:
– Гнус!
Он не знал, во дворе ли учитель, да, собственно, этим и не интересовался. Бедняга, недоросль из помещичьих сынков, просто поддался желанию еще хоть на миг дать волю своим легким, прежде чем на два часа усесться перед белым листом бумаги, пустым листом, который ему предстояло заполнить словами, выжатыми из пустой головы. На беду, Гнус в это время шел по двору. Услышав крик из окна, он подскочил как ужаленный. Сквозь туман ему удалось различить контур коренастой фигуры фон Эрцума. Внизу не было никого из гимназистов, следовательно, и возглас ни от кого другого исходить не мог. «На сей раз, – торжествуя, подумал Гнус, – он имел в виду меня, и я поймал его с поличным». В несколько прыжков он взбежал по лестнице, рванул классную дверь, торопливо прошел между скамеек и, вцепившись ногтями в кафедру, взобрался на ее ступеньки. Там он остановился и перевел дыхание. Гимназисты встали, чтобы приветствовать его, и многоголосый шум вдруг переплеснулся в почти оглушающее молчание. Мальчики смотрели на своего наставника как на опасное, разъяренное животное, которое они, к несчастью, не вправе прикончить и на чьей стороне в данный момент имеется перевес. Грудь учителя бурно вздымалась; наконец он проговорил сдавленным голосом:
– Мне вслед опять выкрикнули некое слово, прозвище, суммируя – кличку, которую я впредь сносить не намерен. Я не потерплю такого издевательства со стороны людей, подобных вам, а вас я уже узнал, извольте это запомнить! Я буду ловить вас с поличным, где только смогу. Не говоря уже о том, что ваша испорченность, фон Эрцум, внушает мне брезгливое чувство, она теперь разобьется вдребезги о непреклонность принятого мною решения, извольте запомнить! Я сегодня же доложу господину директору о вашем поступке и сделаю все от меня зависящее, чтобы – ясно как божий день – в стенах нашей гимназии больше не находились столь презренные подонки человеческого общества.
С этими словами он сбросил с себя шинель и прошипел:
– Сесть!
Весь класс сел, только фон Эрцум продолжал стоять. Его толстое веснушчатое лицо было таким же огненно-красным, как и щетина на его голове. Он хотел что-то сказать, открывал рот, но язык ему не повиновался. Наконец он выпалил:
– Это не я, господин учитель!
Несколько голосов дружно и самоотверженно поддержали его:
– Это не он!
Гнус затопал ногами:
– Молчать!.. А вы, молодой человек, – извольте принять к сведению – не первый носитель имени фон Эрцум, которому я испортил карьеру; будьте уверены, что в дальнейшем я сумею если не окончательно сорвать ваши планы, то, во всяком случае, изрядно затруднить вам осуществление таковых. Вы, кажется, хотите стать офицером, фон Эрцум? Ваш дядюшка тоже этого хотел. Но поскольку он никак не мог дойти до конца соответствующего класса и ему всякий раз отказывали – прошу заметить – в аттестате зрелости, необходимом для поступления в вольноопределяющиеся, то он поступил в подготовительную школу, где тоже не справился с учением, и лишь благодаря особой милости государя ему открылась наконец военная карьера, которую он, впрочем, вскоре вынужден был прервать. Пойдем дальше! Судьба вашего дяди, фон Эрцум, станет и вашей судьбой, во всяком случае, будет сходствовать с нею. Желаю вам успеха на этом поприще, фон Эрцум. Мое суждение о вашей семье остается неизменным уже в продолжение пятнадцати лет… А теперь… – Голос Гнуса сделался замогильным. – Вы недостойны своим бездушным пером марать возвышенный облик девы, к воссозданию которого мы сейчас приступим. Марш отсюда – в каталажку!
Тугодум фон Эрцум продолжал слушать. От чрезмерного внимания он бессознательно повторял движение челюстей учителя. Когда Гнус говорил, его нижняя челюсть, в которой торчало несколько желтых зубов, точно на шарнирах, двигалась между одеревенелыми складками, залегшими около рта, так что слюна брызгала на передние парты. Он заорал:
– Да как вы смеете, мальчишка!.. Вон, говорят вам, в каталажку!
Фон Эрцум встрепенулся и стал выбираться из-за парты. Кизелак прошептал ему вслед:
– Да защищайся же, дружище!
Ломан, сидевший сзади, приглушенным голосом пообещал:
– Погоди, мы его еще укротим.
Осужденный прошмыгнул мимо кафедры в тесную и темную – хоть глаз выколи – комнатушку, служившую классной раздевальной. У Гнуса вырвался стон облегчения, когда широкая фигура фон Эрцума исчезла за дверью.
– Теперь нам нужно наверстать время, похищенное у нас этим мальчишкой. Вот вам тема, Ангст, напишите ее на доске.
Первый ученик близорукими глазами вгляделся в записку и принялся неторопливо писать. Все напряженно следили за буквами, которые выводил мелок и от которых столь многое зависело. Если это окажется сцена, которую тот или иной ученик случайно не «вызубрил», тогда он «пропал», «завалился». И еще до того, как слоги на доске приобрели смысл, все из суеверия бормотали:
– Господи, я завалился!
Наконец на доске уже можно было прочесть:
«Иоанна. Ты произнес пред Богом три молитвы…
(Орлеанская дева, действие первое, явление десятое.)
Тема: Третья молитва короля».
Прочитав эти слова, все переглянулись. «Завалились» все. Гнус всех «сцапал». Криво усмехнувшись, он уселся в кресло на кафедре и начал листать свою записную книжку.
– Итак? – не подымая глаз, вопросительно произнес он, словно всем все было ясно. – Что вам еще угодно узнать?.. Начали!
Многие мальчики ссутулились над тетрадями, притворяясь, что уже пишут. Другие невидящим взглядом смотрели в пространство.
– В вашем распоряжении имеется еще час с четвертью, – безразличным тоном, но внутренне ликуя, объявил Гнус. Такой темы для сочинений не изобретал еще никто из возмутительно бессовестных учителей, знавших о печатных шпаргалках, которые давали мальчишкам возможность без труда проанализировать любую сцену из классического произведения.
Кое-кто помнил десятое явление первого действия и с грехом пополам знал первые две молитвы Карла. О третьей ни один человек в классе понятия не имел. А первый ученик и еще двое или трое, в том числе Ломан, готовы были поклясться, что отродясь ее не читали. Ведь король просил пророчицу повторить только две из его молитв; для него этого было достаточно, чтобы поверить в ее божественное предназначение. Третьей там, хоть убей, не было. Наверно, ее надо искать в другом месте, а может быть, она сама собой явствует из хода событий или же сбывается так, что никому и невдомек, что это сбылась молитва. Верно, они проглядели в драме какое-то место, это допускал даже первый ученик Ангст. Но так или иначе, а чего-нибудь наговорить об этой третьей молитве надо: даже о четвертой и пятой, если бы Гнус этого потребовал. Писать о вещах, в реальность которых никто ни на грош не верил – о верности долгу, о благотворном влиянии школы, о любви к военной службе, – то есть покрывать буквами положенное число страниц, их, слава тебе господи, приучали годами на уроках немецкого языка. Тема ни в малейшей степени их не интересовала, но они писали. Произведение, из которого она была почерпнута, уже месяцами служившее одной только цели – «завалить» их, давно им осточертело, но они писали.
«Орлеанской девой» класс занимался с Пасхи, то есть уже три четверти года. А второгодники и подавно знали ее вдоль и поперек. Ее читали с начала и с конца, заучивали наизусть целые сцены, давали к ней исторические пояснения, на примерах из нее изучали поэтику и грамматику, перекладывали стихи в прозу и, обратно, прозу в стихи. Для всех, при первом чтении ощутивших сверкающую прелесть ее стихов, они давно поблекли. Мелодия стала неразличима в звуках разбитой шарманки, изо дня в день скрипевшей одно и то же. Ни до кого уже не доносился чистый девичий голос, в котором вдруг начинает звучать суровый звон мечей, слышится биение сердца, больше не прикрытого панцирем, и шелест ангельских крыльев, распростертых светло и грозно. Юношам, которых со временем повергла бы в трепет почти сверхчеловеческая непорочность этой пастушки, тем, что полюбили бы в ней торжество слабости, плакали бы над душевным величием бедняжки, оставленной небесами и превратившейся в робкую, беспомощно влюбленную девочку, уже не доведется так скоро это пережить. Пройдет лет двадцать, прежде чем Иоанна перестанет быть для них докучливой педанткой.
Перья скрипели. Учитель Гнус, теперь уже ничем не занятый, смотрел куда-то вдаль поверх склоненных голов. День выдался удачный, ибо одного ему все-таки посчастливилось «сцапать», и вдобавок одного из тех, что называли его «этим именем». Теперь можно надеяться, что и весь год будет хорошим. В продолжение двух последних лет ему ни разу не удалось «сцапать» ни одного из этих коварных крикунов. Плохие это были годы. Хорошими или плохими годы считались в зависимости от того, удавалось ему кого-нибудь «поймать с поличным» или не удавалось «за отсутствием доказательств».
Гнус, знавший, что ученики его обманывают и ненавидят, и сам считал их заклятыми врагами, с которыми надо построже «расправляться» и не давать им дойти до конца класса. Проведя всю жизнь в школах, он не умел смотреть на мальчиков и их дела взглядом взрослого, житейски опытного человека. У него отсутствовала перспектива, и сам он был точно школьник, внезапно облеченный властью и возведенный на кафедру. Он говорил и думал на их языке, употреблял выражения, заимствованные из жаргона школяров, и раздевальню называл «каталажкой». Начинал он урок в том стиле, к которому прибег бы любой школьник, окажись он на его месте, а именно латинизированными периодами вперемежку с бесконечными «право же, конечно», «итак, следовательно» и прочими ничего не значащими словечками. Эта привычка выработалась у него благодаря изучению Гомера с восьмиклассниками, когда каждое словцо обязательно подлежало переводу, как бы тяжеловесно и нелепо оно ни звучало на другом языке. С годами тело Гнуса окостенело, утратило подвижность, и такой же неподвижности он стал требовать от школьников. Он забыл, а может быть, никогда и не знал о потребности молодого организма – все равно, будь то мальчик или щенок, – бегать, шуметь, награждать кого попало тумаками, причинять боль, изобретать шалости, словом – самыми нелепыми способами освобождаться от излишка сил и задора. Он наказывал их, не думая, как думает взрослый человек: «Вы конечно, озорники, так вам и положено, но я-то обязан поддерживать дисциплину», – а злобно, со стиснутыми зубами. Гимназию и все в ней происходящее он принимал всерьез, как самое жизнь. Лень приравнивалась к испорченности и тунеядству, невнимательность и смешливость – к крамоле, стрельба горохом из пугача была призывом к революции, «попытка ввести в заблуждение» считалась бесчестным поступком и несмываемым пятном позора. В таких случаях Гнус становился бледен как полотно. Когда ему случалось отправить одного из мальчиков в «каталажку», он чувствовал себя самодержцем, сославшим в каторжные работы кучку мятежников, – то есть ощущал всю полноту власти и одновременно содрогался при мысли о том, что подкапываются под его престол. Побывавшим в каталажке, да и всем, кто когда-либо задел его, Гнус этого не прощал. А так как он уже четверть века подвизался в местной гимназии, то город и вся округа были полным-полны учеников, либо «пойманных с поличным», либо «не пойманных», и все они называли его «этим именем». Для него школа не заканчивалась дворовой оградой; она распространялась на все дома в городе и в пригороде, на жителей всех возрастов. Повсюду засели строптивые, отпетые мальцы, не выполняющие домашних заданий и ненавидящие учителя. Новичок, не раз слышавший, как его старшие родичи с добродушной усмешкой вспоминают о досаждавшем им в далекой юности учителе Гнусе, попав после пасхальных каникул в его класс, при первом же неправильном ответе слышал злобное шипение: