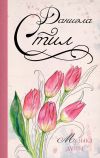Читать книгу "Великосветский прием. Учитель Гнус"

Автор книги: Фридрих Ницше
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– У меня уже было трое ваших. Я ненавижу вашу семейку.
Гнус на своем возвышении наслаждался мнимой безопасностью, а тем временем назревала новая беда. Она исходила от Ломана.
Ломан быстро справился с сочинением и перешел к занятиям сугубо личного характера. Но дело у него не двигалось, так как он страдал за своего друга фон Эрцума. Взяв на себя роль морального опекуна этого юного здоровяка-дворянчика, он считал делом чести по мере сил прикрывать своим умом умственное слабосилие друга. В момент, когда Эрцум готовился выпалить какую-нибудь неслыханную глупость, Ломан начинал громко кашлять и подсказывал ему правильный ответ. Дурацкие ответы Эрцума он оправдывал перед товарищами, уверяя, что тот просто-напросто хотел довести Гнуса до белого каления.
У Ломана была пышная черная шевелюра, одна прядь постоянно выбивалась и меланхолически ниспадала на лоб. Лицо его отличалось люциферовой бледностью и на редкость выразительной мимикой. Он писал стихи в духе Гейне и был влюблен в тридцатилетнюю даму. Увлеченный изучением литературы, он уделял очень мало внимания гимназическим занятиям. Учительский совет, заметив, что Ломан начинает налегать на учение только в последнем квартале, дважды оставлял его на второй год, несмотря на то что ему и вправду удавалось подтянуться в последние дни. Поэтому Ломан, так же как его друг, в семнадцать лет сидел среди четырнадцати– и пятнадцатилетних мальчишек. И если Эрцум выглядел на все двадцать благодаря своему физическому развитию, то Ломан казался старше своих лет, потому что на нем лежала «печать духа».
Какое же впечатление мог производить на такого Ломана деревянный паяц там, на кафедре, чурбан, страдающий навязчивыми идеями? Когда Гнус его вызывал, Ломан неторопливо откладывал книжку, не имеющую ни малейшего отношения к уроку, хмурил широкий, бледный до желтизны лоб, смотрел из-под презрительно опущенных век на своего жалкого и злобного наставника, на пыль, въевшуюся в его кожу, на перхоть, осыпавшую воротник мундира, и, наконец, переводил глаза на свои тщательно отполированные ногти. Гнус ненавидел Ломана чуть ли не больше, чем всех остальных, за его несгибаемое упорство и, пожалуй, еще за то, что Ломан не называл его «этим именем», а значит, злоумышлял что-нибудь еще более каверзное. Ломан при всем желании не мог отвечать на ненависть этого жалкого старика иначе как холодным пренебрежением, хотя и с некоторой примесью брезгливого сострадания. Но оскорбление, нанесенное другу, он воспринял как вызов, брошенный ему, Ломану. Из всех тридцати учеников он один счел низостью публичное поношение дяди фон Эрцума. Нельзя позволять этому шуту гороховому слишком уж зарываться. Итак, Ломан решился. Он встал, оперся руками о парту, с любопытством посмотрел учителю прямо в глаза и проговорил спокойно и сдержанно:
– Я не могу больше работать, господин учитель. Здесь нестерпимо гнусный воздух.
Гнус подскочил как ужаленный на своем кресле, простер руку, призывая к молчанию, челюсти его беззвучно задвигались. К этому он не был подготовлен – особенно сейчас, ведь он только что угрожал одному из «отчаянных» исключением из гимназии. Поймать сейчас этого Ломана с поличным? Лучшего и желать нельзя. Но… будет ли это считаться «с поличным»?.. В это самое роковое мгновение маленький Кизелак поднял вверх синюю руку с обкусанными ногтями, щелкнул пальцами и сердито пробурчал:
– Ломан не дает мне сосредоточиться, он все время говорит, что здесь гнусно воняет.
В классе захихикали, зашаркали ногами. Гнус, чувствуя, что повеяло ветром мятежа, впал в панику. Он вскочил, наклонился над пюпитром, стал размахивать руками направо и налево, словно отражая удары бесчисленных врагов, и заорал:
– В каталажку! Всех в каталажку!
Шум продолжался; Гнус решил, что спасти его могут только крайние меры. Никто и опомниться не успел, как он ринулся на Ломана, схватил его за руку, дернул и сдавленным голосом крикнул:
– Вон отсюда, вы недостойны пребывать в человеческом обществе!
Ломан встал и последовал за ним со скучливым и сердитым видом. У двери Гнус рванул его за плечо и попытался пропихнуть в раздевальню; из этого ничего не вышло. Ломан почистил рукой место, до которого дотронулся Гнус, и размеренным шагом направился в каталажку. Гнус обернулся, ища глазами Кизелака. Но тот за его спиной уже протиснулся к двери и, скорчив рожу, скрылся в «арестном доме». Первый ученик вынужден был объяснить учителю, куда исчез Кизелак. Гнус незамедлительно потребовал, чтобы класс никакими происшествиями не отвлекался больше от Орлеанской девы.
– Почему вы не пишете? Вам осталось пятнадцать минут. Незаконченные работы я – опять-таки – проверять не буду.
После этой угрозы у мальчиков окончательно вылетело из головы все касающееся Орлеанской девы, лица у них стали испуганными. Но Гнус был слишком взволнован, чтобы этому радоваться. Он жаждал сломить всякое еще возможное сопротивление, предупредить любое непокорство, усмирить все вокруг, водворить в классе кладбищенскую тишину. Все три повстанца были схвачены, но их тетради лежали на партах, и каждая страница дышала крамолой. Гнус взял эти «вещественные доказательства» и пошел на кафедру.
Сочинение Кизелака было набором вымученных нескладных предложений, свидетельствовавших разве что о добрых намерениях. У Ломана удивительно было отсутствие плана, подразделения на А, В, С и 1, 2, 3. Вдобавок он успел написать одну только страницу, которую Гнус и пробежал глазами со все возрастающим гневом. На ней стояло:
«Третья молитва короля (Орлеанская дева. I. 10)
Юная Иоанна с ловкостью, поразительной в ее возрасте и при ее крестьянском происхождении, благодаря хитроумному фокусу проникает ко двору. Она рассказывает королю содержание тех трех молитв, которые он прошедшей ночью вознес к Богу; своим умением читать мысли она, натурально, производит сильнейшее впечатление на невежественных придворных. Я упомянул о трех молитвах, на деле же она излагает только две, о третьей и без того убежденный ею король уже не спрашивает. И, надо сказать, на ее счастье, ибо ей вряд ли удалось бы изложить эту молитву. В первых двух она уже сказала все, о чем он мог бы просить Господа Бога, а именно: если отомщены еще не все грехи его предков, то пусть жертвою падет он, а не его народ, и если уж ему суждено утратить царство и корону, то пусть Господь сохранит ему покой, друга и возлюбленную. На главном, то есть на власти, он уже поставил крест. О чем же ему еще просить? Не будем ломать себе голову: он этого сам не знает. Не знает и Иоанна. И Шиллер тоже не знает. Поэт ничего не утаил из того, что знал, но тем не менее добавил „и так далее“. Вот весь секрет, и тот, кому понятна беззаботная природа поэта, ничуть этому не удивится».
Точка. Это было все. Гнус, дрожа мелкой дрожью, немедленно сделал вывод: устранить этого ученика, избавить человечество от такой заразы куда важнее, чем выжить из гимназии простака фон Эрцума. Он бросил торопливый взгляд на следующую страницу; наполовину вырванная, она болталась в тетради, но и на ней было что-то нацарапано. И в момент, когда он понял, что именно, точно розовое облако прошло по его морщинистым щекам. Он быстро, вороватым движением захлопнул тетрадь, притворяясь, что ничего не заметил, затем снова раскрыл ее, тотчас же сунул под две другие и с трудом перевел дух, истомленный борьбой.
Он отчетливо понимал: теперь пора; этот должен быть «пойман с поличным». Человек, который дошел до того, что… эту – так сказать – артистку Розу… Розу… Он в третий раз схватился за Ломанову тетрадь. Но тут зазвенел звонок.
– Сдавать тетради! – крикнул Гнус, страшно волнуясь оттого, что какой-нибудь мальчишка, не успевший закончить сочинение, в последнюю минуту еще, чего доброго, заработает удовлетворительный балл. Первый ученик стал собирать тетради; несколько человек уже осаждали дверь в раздевальню.
– Прочь оттуда! Ждать! – заорал Гнус в новом приступе страха. Больше всего на свете ему хотелось запереть дверь и продержать этих трех мерзавцев под замком, покуда их гибель не станет самоочевидной. Но тут нельзя действовать второпях, надо все обдумать и взвесить. Случай с Ломаном совершенно ошеломил его. Какая испорченность!
Ученики, главным образом те, что поменьше, в справедливом негодовании толклись вокруг кафедры.
– Наши вещи, господин учитель!
Гнусу пришлось отпереть каталажку. Из толпы один за другим выбрались три изгнанника, уже в шинелях. Ломан немедленно догадался, что его тетрадь попала в руки Гнуса, и скучливо подосадовал на чрезмерное рвение старого дурака. Теперь уж его родителю, хочешь не хочешь, придется иметь разговор с директором!
У фон Эрцума только выше поднялись рыжие брови на лице, которое его друг Ломан называл «пьяной луной». Зато Кизелак успел в каталажке приготовиться к защите.
– Господин учитель, я ведь не говорил, что здесь гнусно воняет, я только сказал, что он то и дело говорит…
– Молчать! – закричал Гнус, дрожа всем телом. Он втянул, потом опять вытянул шею, овладел собою и глухим голосом добавил: – Судьба ваша вплотную – так сказать – нависла над вашими головами. Можете идти!
И все трое отправились обедать, каждый с нависшей над ним судьбой.
II
Гнус тоже поел и прилег на софу. Но только он уснул, как его домоправительница, по обыкновению, загремела посудой. Гнус поднялся и тотчас же схватил тетрадь Ломана; лицо его порозовело, словно он впервые читал эти постыдные и вгоняющие в краску строки. Ко всему еще тетрадь никак не желала закрываться, до того она была измята и изогнута в том месте, где находилось «Славословие фрейлейн Розе Фрелих». После заголовка шло несколько нарочито неразборчивых строчек, затем пустое пространство и наконец:
Рифму автор еще не успел подыскать. Но многоточие после третьего стиха было достаточно красноречиво. Оно наводило на мысль о личной причастности Ломана. Не исключено, что четвертый стих должен был черным по белому это подтвердить. Для того чтобы угадать этот недостающий четвертый стих, Гнус прилагал усилия не менее отчаянные, чем его класс для раскрытия третьей молитвы короля.
Этим четвертым стихом ученик Ломан как будто издевался над учителем Гнусом, и Гнус, все больше разъяряясь, боролся с учеником Ломаном; насущная потребность доказать ему, кто из них сильнейший, вовлекала учителя в эту борьбу. Уж он ему докажет!
Еще ясно не определившиеся наметки будущих действий роились в голове Гнуса. Он не мог усидеть на месте, а потому накинул свою поношенную шинель и вышел из дому. На улице моросил холодный дождь. Заложив руки за спину, со склоненной головой и ядовитой усмешкой, гнездящейся в углах рта, Гнус тащился по лужам окраинной улицы. Телега, груженная углем, да несколько ребятишек – вот и все, что попалось ему навстречу. К дверям мелочной лавки на углу была прибита афиша городского театра: «Вильгельм Телль». Осененный внезапной мыслью, Гнус устремился к ней, хотя колени его подгибались… Нет, Роза Фрелих не значилась среди исполнителей. Но ведь не исключено, что эта особа все же состоит в труппе. Лавочник, господин Дреге, вывесивший афишу в своем заведении, вероятно, в курсе этих дел. Гнус уже дотронулся до двери, но испуганно отдернул руку и пустился наутек. Наводить справки об актрисе на своей улице! Надо отерегаться сплетен, до которых так охочи его невежественные и ничего не смыслящие в гуманитарных науках сограждане. Чтобы разоблачить ученика Ломана, надо действовать умело и тайно… Гнус свернул в аллею, ведущую к городу.
В случае удачи Ломан в своем падении повлечет за собою Кизелака и фон Эрцума. А пока что Гнус не станет сообщать директору, что его опять так назвали. Позднее само собой выяснится, что те, кто способен на это, способны и на любой другой безнравственный поступок. Гнус это твердо знал на опыте со своим сыном. Он прижил его от одной вдовы, которая, в бытность его студентом, оказывала ему материальную поддержку, чтобы он продолжал учение. Вступив наконец в должность, Гнус, согласно уговору, женился на ней. Вдова, суровая костлявая женщина, давно уже скончалась.
Сын, по наружности не краше его самого, вдобавок еще был крив на один глаз. Тем не менее, приезжая на каникулы в родной город, он открыто показывался с женщинами легкого поведения. Мало того что он связался с дурной компанией, он еще четыре раза проваливался на экзамене и, следовательно, чиновником мог стать разве что на основании своего выпускного свидетельства. Целая пропасть отделяла его от людей высшего полета, сдавших государственный экзамен. Гнус, решительно порвавший с сыном, понимал закономерность случившегося; более того, он все это предвидел, после того как подслушал, что сын в разговоре с приятелями называет отца «этим именем».
Значит, можно надеяться на подобную участь для Кизелака, фон Эрцума и Ломана, главное – Ломана; рок уже настигал его благодаря артистке Розе Фрелих. Гнусу не терпелось расправиться с Ломаном. Двое других померкли рядом с этим человеком, рядом с его независимыми манерами и жалостливым любопытством, появлявшимся в его взгляде, когда учитель выходил из себя. «Да и вообще, что это за ученик?» Гнус с разъедающей ненавистью думал о Ломане. Под островерхими городскими воротами он внезапно остановился и громко проговорил:
– Эти – наихудшие!
Ученик – серое, забитое, коварное существо, которое не знает в жизни ничего, кроме своего класса, и ведет нескончаемую подпольную войну с тираном: таков Кизелак; либо это рыжий придурковатый детина, которого тиран, благодаря своему умственному превосходству, держит в состоянии вечной тревоги: например, фон Эрцум. Но Ломан… Ломан, кажется, усомнился в правах тирана. В душе Гнуса все накипало и накипало унизительное чувство, испытываемое небогатым начальником, видящим, как его подчиненный щеголяет в отличном костюме и сорит деньгами. А тут его вдруг осенило – все это нахальство, и больше ничего! Нахальство, что Ломан всегда выглядит опрятным, нахальство, что у него чистые манжеты, и такая физиономия – тоже нахальство. Сегодняшнее сочинение, знания, почерпнутые этим учеником вне школы, из которых самое возмутительное – артистка Роза Фрелих, – тоже нахальство. А сейчас Гнус еще уяснил себе – нахальство и то, что Ломан не называет его «этим именем».
Одолеваемый такими мыслями, Гнус поднялся до конца узкой улички, застроенной домами с готическими фронтонами, к церкви, вокруг которой бушевал форменный ураган, и, придерживая руками распахивавшуюся шинель, стал снова спускаться под гору. Затем он свернул в переулок и в нерешительности остановился у одного из первых домов. Здесь по обе стороны двери были прибиты деревянные ящики, в которых за проволочной сеткой висели афиши «Вильгельма Телля». Гнус прочитал афишу в одном ящике, затем в другом. Наконец он решился и, боязливо озираясь по сторонам, прошел через подворотню в прихожую. Ему показалось, что за маленьким окошком, освещенным лампой, кто-то сидит; от волнения он плохо видел. В этом злачном месте он не был уже лет двадцать, и его грудь теснила тревога властелина, покинувшего свою страну: а что, если его не узнают, по незнанию неуважительно обойдутся с ним, заставят почувствовать себя простым смертным?
Он стоял перед окошком, негромко покашливая. Но поскольку ответа не воспоследовало, постучал согнутым указательным пальцем. Из окошка высунулась голова кассира.
– Что прикажете? – хрипло осведомился кассир.
Сначала Гнус только шевелил губами. Они уставились друг на друга, он и отставной актер с бритой синей физиономией и приплюснутым носом, на котором красовалось пенсне. Гнус едва выдавил из себя:
– Вот оно что! Вы, значит, ставите «Вильгельма Телля». Отличный выбор.
– Уж не полагаете ли вы, что нам это доставляет большое удовольствие? – отвечал кассир.
– Нет, я ничего такого не полагаю, – поспешно заверил Гнус, испугавшись, что этот разговор заведет его слишком далеко.
– Билеты не расходятся. А по контракту с городом мы обязаны ставить классические вещи.
Гнус счел, что уже пора представиться:
– Учитель местной гимназии Гну… Нусс.
– Очень приятно. Блуменберг.
– Я охотно посетил бы вместе со своим классом представление классической пьесы.
– Превосходно, господин профессор. Не сомневаюсь, что это известие чрезвычайно обрадует нашего директора.
– Но… – Гнус поднял указательный палец, – …это должна быть одна из тех драм, которые мы изучаем в гимназии, а именно, я бы сказал, – «Орлеанская дева».
У актера отвисла нижняя губа, он поник головой и с грустной укоризной исподлобья посмотрел на Гнуса.
– Весьма и весьма сожалею, но эту пьесу нам пришлось бы репетировать заново. Неужели Телль так-таки не удовлетворяет вас? Право, весьма подходящая пьеса для юношества.
– Нет, – отрезал Гнус. – С Теллем ничего не выйдет. Нам нужна Дева. И к тому же – настоятельно прошу вас обратить внимание, – Гнус с трудом перевел дух, так у него билось сердце, – чрезвычайно существенно, кто будет исполнять роль Иоанны. Это должна быть большая артистка, которая сумеет, собственно говоря, именно показать ученикам все величие Девы.
– Ну разумеется, разумеется, – немедленно согласился актер.
– Перебирая в уме всех актрис вашей труппы, о которых мне пришлось слышать наилучшие и, надо думать, справедливые отзывы…
– Ах, что вы говорите!
– Я остановился на фрейлейн Розе Фрелих.
– Как вы изволили сказать?
– Роза Фрелих. – Гнус затаил дыхание.
– Фрелих? Да у нас нет такой актрисы.
– Вы в этом вполне уверены? – бессмысленно переспросил Гнус.
– Позвольте, я ведь не сумасшедший.
Гнус уже не смел поднять глаза.
– Тогда я, право, даже не знаю…
Актер поспешил к нему на помощь.
– Здесь, видимо, какое-то недоразумение.
– Ну да, да, – подтвердил Гнус с ребяческой благодарностью. – Прошу прощения.
И начал с подобострастными поклонами отступать к двери. Кассир оторопел. Потом спохватился и крикнул:
– Господин учитель! Мы ведь еще не обсудили всех подробностей. Сколько вам нужно билетов? Господин учи…
В дверях Гнус обернулся; его губы скривились в боязливую улыбку:
– Еще раз прошу прощения.
И сбежал.
Сам того не замечая, Гнус спустился под гору, к гавани. Здесь раздавались тяжелые шаги грузчиков, перетаскивавших мешки, и протяжные крики рабочих, лебедками поднимавших эти мешки в верхний этаж амбаров. Пахло рыбой, смолой, маслом, спиртом. Мачты и трубы вдали на реке уже подернулись сумеречной пеленой. Среди всей этой сутолоки и делового оживления, еще возросшего перед наступлением темноты, бродил Гнус со своими неотвязными мыслями: зацапать Ломана, найти актрису Фрелих.
Его то и дело толкали дюжие мужчины в английских костюмах с накладными в руках, грузчики кричали ему: «Берегись!» Всеобщая спешка захватила и его; сам не зная, как это случилось, он нажал ручку двери, на которой было написано: «Контора по вербовке матросов» и еще что-то по-шведски или по-датски. Все помещение было завалено связками канатов, ящиками с морскими галетами и маленькими, остро пахнущими бочонками. Попугай закричал: «Прощелыга!» Одни матросы пили, другие, засунув руки в карманы, гурьбой обступили какого-то рыжебородого верзилу. Наконец верзила выбрался из тучи табачного дыма в глубине помещения, стал за стойку, так что свет от жестяного фонаря на стене залил его лысую голову, оперся ручищами о край стойки и спросил:
– Что вам от меня угодно, сударь?..
– Дайте-ка мне, – не задумываясь, отвечал Гнус, – входной билет в Летний театр.
– Чего вам? Не разберу, – переспросил рыжий.
– Билет в Летний театр. На объявлении у вас в окне сказано, что здесь продаются билеты в Летний театр.
– Не пойму, что вы там толкуете, сударь. – Рыжий даже рот раскрыл от удивления. – Да ведь зимой-то Летний театр не играет.
Гнус стоял на своем.
– Но ведь у вас в окне висит объявление.
– Ну и пусть его висит.
Не успел он это выпалить, как уже раскаялся, что проявил недостаточное уважение к господину в очках, и стал думать, как бы поубедительнее обосновать, почему сейчас закрыты летние театры. Для облегчения этой кропотливой умственной работы вербовщик легонько поглаживал стол своей рыжеволосой ручищей. Наконец его осенило:
– Да ведь всякий дурак понимает, что зимой нет летних театров.
– Я бы попросил вас, любезный… – надменно оборвал его Гнус.
Рыжий позвал на помощь:
– Эй, Генрих, Лоренц!
Матросы подошли.
– Не пойму, что с ним делается, вынь да положь ему Летний театр.
Матросы жевали табак. Теперь они вместе с вербовщиком уставились на Гнуса так, словно он явился из невесть каких дальних стран, из Китая, например, а им надо понять, что он такое говорит. Гнус это почувствовал и решил, что лучше поскорее отсюда убраться.
– Тогда, по крайней мере, скажите мне, любезный, играла ли прошлым летом в вышеозначенном театре некая Роза Фрелих?
– Да я-то почем знаю? – Рыжий вконец обалдел. – Что я, с циркачками шляюсь, что ли?
– В таком случае не откажите в любезности сообщить мне, может быть, эта дама – так сказать – собирается в текущем году порадовать нас своим искусством?
Вербовщик испугался: он уже ни слова не понимал. Зато один из матросов догадался:
– Ишь какие пули отливает; да он тебя дурачит, Питер.
Матрос закинул голову и разразился оглушительным хохотом, широко разинув черную пасть. Остальные присоединились к нему. Вербовщику отнюдь не казалось, что господин в очках дурачит его, но теперь уже дело шло об его авторитете перед клиентами – людьми, которых он поставлял капитанам вместе с галетами и джином. Он разыграл приступ ярости, весь налился кровью, хлопнул кулаком по столу, потом повелительно вытянул вперед указательный палец:
– Сударь! У меня работы по горло, и валять дурака мне недосуг: вот Бог, а вот порог!
Поскольку ошеломленный Гнус не двигался с места, вербовщик собрался выйти из-за стойки. Гнус быстро открыл дверь. Попугай крикнул ему вслед: «Прощелыга!» Матросы громко ржали. Дверь захлопнулась.
Он завернул за ближайший угол, очутился на тихой уличке и стал разбираться в происшедшем.
– Я допустил ошибку, – суммирую – ошибку.
Не так надо искать актрису Фрелих. Гнус всматривался в прохожих: может, они осведомлены о ее местопребывании? Это были грузчики, кухарки, фонарщик, разносчица газет. Нет, с простонародьем не договоришься: он уже пробовал! А последнее приключение обязывало его к еще большей осторожности в общении с чужими людьми. Разумнее будет подождать, не попадется ли навстречу кто-нибудь из знакомых. И как раз из ближайшей улички вынырнул юнец, которого Гнус, не далее как в прошлом году, яростно обучал латинским стихам. Этот малый, никогда не зубривший уроков, видимо, стал учеником в торговом деле. Он шел с пачкой писем в руках; вид у него был весьма фатоватый. Гнус двинулся на него, уже открыв рот, но счел за благо подождать поклона. Такового не воспоследовало. Бывший ученик нахально поглядел прямо в глаза учителю и прошел, едва не задев его правое, более высокое плечо, при этом поросшая светлым пушком физиономия юнца расплылась в самодовольной ухмылке.
Гнус метнулся в «теснину», из которой только что вышел его бывший ученик. Это была одна из уличек, спускавшихся к гавани: а так как спускалась она круче, чем другие, то здесь собралась целая ватага ребятишек с грохочущими самокатами. Матери и няньки толпились на тротуаре и горестно воздевали руки, зовя своих питомцев ужинать; но ребята, в нахлобученных на уши шапках, с развевающимися шарфами, разинув рот от восторга, мчались вниз на самокатах, подскакивающих по камням мостовой. При переходе через улицу Гнусу пришлось прыгать из стороны в сторону, чтобы его не сбили с ног. Лужи вокруг него брызгали грязью. Со стремительно пролетающего самоката пронзительный голос крикнул:
– Гнус!
Гнус вздрогнул. Несколько других голосов тотчас же подхватили слово. Ребята из коммерческого и городского училищ, видимо, узнали его прозвище от гимназистов, другие, толком не разобравши, в чем дело, кричали просто так – за компанию. Среди этого вихря Гнус взобрался по крутой улице и, задыхаясь, дотащился наконец до Соборной площади.
Все было ему привычно: прежние ученики, которые не здоровались с ним, а только скалили зубы, уличные мальчишки, кричавшие ему вслед «это имя». Но сегодня, одержимый одной только мыслью, он ни на что не обращал внимания: сегодня он ждал от них ответа. Пусть они не знали назубок Вергилия, но ведь об артистке Фрелих могли они что-нибудь знать!
На рыночной площади Гнус прошел мимо табачной лавки; лавочник лет двадцать назад был его учеником, и теперь Гнус изредка – да, да, очень изредка – покупал у него ящичек сигар; он мало курил и редко пил, мещанские пороки были ему несвойственны…
На счетах, присылаемых табачным торговцем «господину учителю», имя адресата всегда начиналось с буквы Г, тщательно переделанной на Н. Было то преднамеренной издевкой или рассеянностью, Гнус так никогда и не узнал; но все же он не отважился зайти в лавку, хотя уже занес ногу на порог… Лавочник был строптивым учеником, которого никак не удавалось «сцапать».
Гнус поплелся дальше. Дождь перестал; ветер разогнал тучи. Газовые фонари мигали красноватым светом. Из-за островерхого фронтона нет-нет да и выглядывал желтый полумесяц, лукавый глаз, так поспешно зажмуривавшийся, что его нельзя было изобличить в насмешке.
Когда Гнус вышел на Кольбуден, перед ним ярко вспыхнули огни кафе «Централь». Гнуса потянуло зайти туда и против обыкновения выпить чего-нибудь горячительного. Сегодня он был совсем выбит из колеи. А кроме того, в кафе, наверно, удастся разведать что-нибудь об актрисе Фрелих; там ведь о чем только не болтают.
Гнус знал это с прежних времен; при жизни жены он изредка – очень изредка – позволял себе часок-другой посидеть в кафе «Централь». С тех пор как она умерла, он и дома имел довольно покоя, так что нужда в кафе отпала. Вдобавок удовольствие от этих посещений было для него испорчено новым владельцем, бывшим его учеником, после нескольких лет отсутствия вернувшимся в родной город. Самолично обслуживая старого учителя, он с такой изысканной вежливостью именовал его «Гнусом», что об изобличении нечего было и думать.
Прочих гостей это очень веселило, и Гнусу стало казаться, что его частые посещения превратились бы в рекламу для кафе «Централь».
Итак, он пошел дальше, размышляя, где еще может получить ответ на свой вопрос. Пока что ему ничего в голову не приходило. На всех лицах, встававших в его памяти, было то же самое выражение, что и на лице торгового ученика, только что встретившегося ему. В освещенных магазинах, совершенно так же, как в табачной лавке и в кафе, притаились мятежные школяры. Гнус злился, он уже устал и хотел пить. Взгляды, которые он бросал из-под очков на дощечки и вывески с именами его бывших учеников, в гимназии называли «ядовитыми». Все эти мальчишки сговорились злить его. И актриса Фрелих, прятавшаяся за одной из этих дверей, актриса Фрелих, которая отвлекала его ученика от школьных занятий да еще сама выскользнула из-под власти Гнуса, видно, задалась той же целью.
Время от времени ему попадалось на дощечке имя коллеги-учителя, и Гнус досадливо отводил глаза. Один назвал его перед всем классом «этим именем», другой видел его сына на рыночной площади с непотребной женщиной и разболтал об этом всему городу.
Со всех сторон теснимый неприятелем, Гнус шагал из улицы в улицу. Он крался вдоль домов, испытывая какое-то неприятное ощущение в темени; ведь каждую минуту, словно ушат помоев, вылитый на голову, могло послышаться из окна «это имя». А он никого не увидит, не сумеет «поймать крикуна с поличным».
Мятежный класс в пятьдесят тысяч учеников бушевал вокруг Гнуса.
Он стал безотчетно уходить все дальше и дальше на окраину, где в конце длинной тихой улицы высился приют для престарелых девиц. Здесь было уже совсем темно. Изредка мимо него шмыгали какие-то фигуры в мантильях с платочками на голове; запоздавшие обитательницы дома возвращались из гостей или с вечерни; они крадучись подбирались к звонку и, казалось, таяли в растворившейся двери. Летучая мышь вилась над самой шляпой Гнуса. Искоса глядя на город, Гнус думал: «Ни одного, ни одного человека!»
Вслух же сказал:
– Я еще доберусь до вас, бандиты!
Чувствуя свое бессилие, он весь дрожал мелкой дрожью от ненависти к тысячам ленивых злокозненных учеников, никогда не выполняющих школьных заданий, называющих его «этим именем», всегда готовых на любое бесчинство. Они дразнят его актрисой Фрелих, покрывают шашни ее и Ломана, и хуже того – они, точно единый, сплоченный класс, восстают против учителя. Сейчас все они сидят и ужинают, а он бегает здесь, на окраине, да и вообще, – он вдруг почувствовал, – в какое мерзкое существо сумели они превратить его за эти годы.
Двадцать шесть лет подряд видя перед собой неизменно коварные ребяческие лица, он не замечал, что с течением времени и вне стен гимназии эти лица уже не искажались злобой при упоминании об учителе Гнусе, а иногда даже принимали участливое выражение. Вечно ожесточенный борьбой, Гнус не мог понять, что старшее поколение горожан называет его в глаза «этим именем» не затем, чтобы уязвить, а просто по веселым юношеским воспоминаниям. И также не мог понять, что он – посмешище всего города и именно в силу этого обстоятельства во многих возбуждает своего рода нежность. Он не слышал, как двое почтенных людей, первые его выпускники, остановившись на углу и с насмешкой, как он полагал, глядя ему вслед, говорили:
– Что это с Гнусом? Как он состарился!
– И стал еще грязнее!
– Чистым я его сроду не видывал!
– О, да вы просто забыли. Начинал он свою карьеру еще вполне опрятным человеком.
– Разве? Вот что значит имя! Я не могу его представить себе даже мало-мальски чистоплотным.
– Знаете, что я думаю? Он, верно, и сам не может. Такое прозвище хоть кого одолеет.