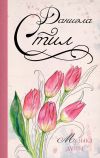Читать книгу "Великосветский прием. Учитель Гнус"

Автор книги: Фридрих Ницше
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Благодарствую, – сказала она, но он еще не считал свою лекцию завершенной.
– Когда мыслители теряют рассудок, в первую очередь бывает задет не их мыслительный аппарат, а эмоциональный. Один философ…
– Твой отец никогда не смог бы потерять рассудок, – ввернула она.
– Почему же, смог бы, но способом, который для него полезен, – объявил Артур. – Он наслаждается безобидным поведением такого солнечного сплетения, которое никогда не бывало раздражаемо перипетиями борьбы за существование.
– Это ты так думаешь.
– Борьба за существование почти всевластна. Натуры абстрактные, которые вовсе о ней не думают, оказываются самой беспомощной ее добычей. Что же тогда говорить о нас, которые только ее и знают! Вот над этим единственным пунктом я готов задуматься. Моя лекция была нескромной и неполной. Ты уж извини!
– Мое солнечное сплетение намекает мне, что ему был бы очень на пользу бокал шампанского.
– Бордо, – поправил он, – ничто не придает большей храбрости и спокойствия.
– Согласна, но бордо надо принести, а бутылка «Клико» стоит наготове.
– Какая удача! – бодро воскликнул он, чтобы не огорчать ее нежностью. Оба заметили, что все еще стоят между зеркалами друг перед другом, слишком близко, чтоб это было простым стоянием. От процесса одевания каждый сохранил последний жест: рука женщины обвила шею мужчины, его рука лежала у нее на бедре.
А взгляды вообще не разъединялись. Теперь оба улыбнулись. «Мы делали вид, будто размышляем? Нет, мы полны желания, а это уже за пределами языка. И оно само влечет нас в соседнюю комнату, в мою спальню, он ее обнаружил… Ее спальня, не отводя от меня взгляда», – она указала туда движением плеча.
– Будем благоразумны, – сказала она и первая проследовала туда, откуда они пришли.
В маленьком будуаре ее шаги замедлились, он увидел, как она поднесла одну руку к виску, а другой потянулась к дивану. Она искала опору либо хотела присесть, передохнуть хотя бы минуту. И тогда он в одиночестве прошел в комнату, где был накрыт стол. Здесь на диване валялась ее муаровая сумочка с примечательными очертаниями. Артур счел себя вправе открыть ее. Он помешкал, передумал, бесшумно задвигался взад и вперед, избегая направления, с которого он не мог бы видеть Мелузину.
Она остановилась. Согнуть колени, склонить тело, уложить его во весь рост – не имеет смысла, она забыла о своем намерении. Ее брови скорбно сдвинуты, она спрашивает себя: «Я что, в самом деле больна?» Она слышит ответ: «Да. Отсюда и бессвязность моих поступков. Еще четверть часа назад я не знала, что буду делать». Она слышит ответ: «Нет. Ибо я, и отнюдь не случайно, делаю самое разумное. Впрочем, мне и Тамбурини это советовал, а в опыте ему не откажешь. До сих пор я совсем не думала про его совет, не он решил дело.
Решило что-то другое. Но и это я как-то упустила из виду – на лестнице, к примеру. В глубине души я вполне уверена, хотя история эта куда как стара – Господи Боже мой, только не считать годы. Я и он – мы уже познали друг друга. Смешно это или грустно, всего лишь воспоминание, давно ставшее нереальным, и глядишь, его призрак является тебе и желает, чтоб в него верили.
Ну и пожалуйста. Почему бы и нет? L'amour, alors, ne tirait pas à conséquence. La fange même était innocent[140]140
Любовь не считалась тогда таким важным делом. Даже канава и та была вполне безобидна (фр.).
[Закрыть]. Снисходительность, с которой я к себе отношусь! Если тогда у кого-нибудь хватило бы наглости снисходительно отнестись к нам! Мы жаждали самоутверждения! Мы, полные решимости дарования, преклоняли слух совершенно к иным, чем какой-то агент. Нам было достаточно самого отдаленного касательства к желанной роли. Артур не был всевластен, но у него была власть, которую закладывали в калькуляцию, как и мое будущее. Мы оба сражались – как люди. Поначалу участники борьбы за существование грубы – из неведения, и поражения воспринимаются ими легко.
Легко, как самоотдача или то, что с тех пор называют этим словом, всем желающим, которые приходили, уходили, забывали, как и мы. Артур уже и не помнит, доводилось ли ему когда-то любить меня. После всего, что мне с тех пор довелось узнать, слишком тяжелое слово для подобного стечения обстоятельств. Во всяком случае, я не могла ему нравиться, ни физически, ни как человек. Я была тощая, холодная, равнодушная, как деловая женщина. А за это время и стала деловой.
Личность серьезная, еще на лестнице было видно. В девятнадцать я бы такого не сделала. С ним – нет, незабываемые порывы страсти так и не произошли. А что было еще, мне незачем знать. Можно бы, но незачем. Вот сегодняшний вечер я смогу повторить в мыслях шаг за шагом, даже и когда мне стукнет девяносто, это точно. Стало быть, я действую разумно.
Он? Не знаю пока, как он будет себя вести, когда все пройдет. Я как будто ему нужна, он уже достаточно научен. Кто разделит с ним поражения, готов пренебречь успехом и в конечном итоге высоко ценит одну лишь любовь? Я, но даже и относительно себя самой я не совсем уверена. Enfin[141]141
Ну да (фр.).
[Закрыть]».
С этим вздохом она присоединилась к своему спутнику.
– Ну как, уложилась я в одну минуту? – спросила она.
Он ответил:
– Да. Но я не стал бы ждать, пока истечет вторая, чтобы вновь завоевать тебя.
Она поняла: он не уверен в ней и держится подчиненно, то ли по искусности, то ли по потребности. Ее бы это вполне удовлетворило, если бы ее прибор не лежал перед диваном и если бы ей не предстояло удалить блестящую сумочку, чтобы сесть. Она предпочла указать это место Артуру, он тотчас повиновался, и вот уже сумочка оказалась у него в руках. На движение его головы она ответила отказом:
– Оставь! Дай мне лучше вина.
Можно ли вечно есть холодную курицу, подумала она, устремив глаза на тарелку, где порция никак не уменьшалась. Она взяла рюмку, он хотел с ней чокнуться.
– Пока не надо, – сказала она и выпила. – А теперь открывай.
И дары явились на свет божий. Бумага, даже и не очень чистая. Устаревшие деловые письма, небрежно нарезанные в форме чеков. Можно было прочесть: Ван Гог теперь сто тысяч. Или: без ванны сто, с ванной двести, подпись Фифи. Довольно. Нолус перешагнул через все, об этом свидетельствовали также собственноручные строки, которые лежали в самом низу. Они не выдавали, они подчеркивали.
Пишущий извещал, что банку «Барбер и Нолус», который явно ненадежен, он никак не может доверить судьбу новой Оперы, его культурная совесть того не позволяет. Тем более что и чеки-то выписаны исключительно на его имя, и, покуда ситуация не проясняется, он возьмет их с собой в дорогу. «Молчание – золото» – вот что еще там стояло. Издевательски или просто нагло, более откровенно он выразиться не мог.
Артур разглядывал это послание, словно до сих пор его не видел. Или не разобрал написанного, хотя буквы были выведены крупно и отчетливо. Но тем не менее искривлены. Пишущий порой разрывал букву, которая по случайности соскочила у него с пера. По завершении своих графологических изысканий Артур протянул ей лист.
– Не посмотришь? – попросил он, голос понижен, глаза опущены.
Мелузина не спешила.
– Я содержание знаю, – ответила она, и Артур послушно забрал письмо.
– Конверт был запечатан, – сказал он.
Она объяснилась:
– Я уже какое-то время догадывалась, что должно случиться.
Это было неправдой, поскольку она не располагала фактами, чтобы доказать свое прозрение. Верно было лишь, что минуты на лестнице прокручивались и плодоносили в ее памяти. «Вот как я могла! Женщина моего положения, возраста, совладелица банка, дела в критическом положении, the turning point[142]142
Поворотный момент (англ.).
[Закрыть]. То, что могу я, Нолус тем более может, на свой лад, правда, но любой лад – в зависимости от нашего желания – симпатичен или нет».
Вслух она сказала так:
– Я слишком поздно поняла, что представляет собой Нолус… представляет собой сейчас, – поправилась она. – Но когда он передавал мне пакет с чеками, я ни о чем таком не думала.
Как она это произнесла? Нейтрально, решил Артур. D'une vous blanche[143]143
Голосом без окраски (фр.).
[Закрыть], отметил он с испугом, с режущей болью, потому что она страдала. Нет, не финансовая катастрофа, а страдания Мелузины вывели его из себя; он вскочил, негодуя.
– Знавал я подлецов, je ne dis pas. Plenty of scoundrels, mucchio d'mascalzoni, on le ramasse à la реllе[144]144
Не спорю (фр.). Кучу подлецов, навалом (англ., ит., фр.).
[Закрыть], но чтоб такого! Подлеца из подлецов!
От этого вопля она согнула плечи. Ссутулила свои роскошные плечи от страха, что сейчас речь зайдет и о ней, о ее вине, ее оплошности.
Она внутренне застонала. «Обманщик использовал меня, я его сообщница – невольная, но могу ли я это так назвать? Обман вызревал давно, он все хвастался предстоящим отъездом, пока люди не перестали верить. Manigances effrontées, puis се truc qui n'en était pas un[145]145
Бесстыдные уловки, а потом это вранье, которое не было враньем (фр.).
[Закрыть], что он будет хранить чеки у меня. Скорее не вранье, а неприкрытая наглость, требование помалкивать, поделиться с ним, если я ему верю, и уж во всяком случае, отвечать за то, что2 я взяла и спрятала. Я презираю свой жест, я презирала бы всякий, долой его, я была полна лишь своими личными делами. Какую трусость развивает в человеке мечта. А вот его-то, того, кто неистовствует рядом со мной, кого я разорила, даже и не было в моих мечтах».
Она не улучила момента, чтобы застонать вторично. Мысли летели стрелой, но Артур оказался еще быстрее, чем мысль. Он на добрую половину убавил свое фортиссимо, и в жестах тоже. Руки его, секундой ранее в хаотическом движении, могли с минуты на минуту оказаться сложены. Он стоял, благочестиво глядя на ее склоненную голову, он рёк:
– Пойми, кто сумеет. Так позорно вести себя по отношению к прекраснейшей из женщин.
Вот в чем он сознательно упрекнул подлеца из подлецов после первого взрыва. Негодяй обманул слишком красивую женщину. И это говорит человек, чье существование… в конце каждого месяца зависит от чего-нибудь другого, на сей раз – от президентских чеков, и его доля похищена. Он же скорбит о попранной красоте. Никогда в жизни Мелузине еще не воздавали почестей столь высоких и столь правдоподобных, потому что не задуманных как почести. То изживается непостижимость, то осужденный лепечет последнюю мольбу к возлюбленной.
Смоги Мелузина всхлипнуть на этом месте, она была бы застрахована от приступа, который посещает ее с некоторого времени, для этого ей достаточно упасть. По счастью, дома нет дочери, та знает и может засвидетельствовать, как ее роскошная мать при серьезных неудачах действительно падает и катается по полу. Эта неудача без сомнения превосходит многие другие. Что предстоит, последует ли вообще за этим что-нибудь, надо решать на месте. У Мелузины по-прежнему сухие глаза.
Артур, беда обостряет его зрение, грозящая судьба внушает нужные слова.
– Лучше бы мы перешли в спальню. А письмо могло бы и подождать. Оно успело бы устареть, пока мы выйдем оттуда, закаленные против беды.
Тут она может наконец громко всхлипнуть, она обращает к нему свое белое лицо, не прячет две бегущие по нему слезы, которые наносят ущерб наведенной красоте. Она и еще больше может ему предложить. Она испытывает гнетущее чувство, что следующим ее поступком будет коленопреклонение. Разумом она этого еще не понимает, а колени уже сами начинают скользить вниз. Раньше она никогда не воспринимала этого человека более серьезно, чем других, к тому же в пору безмятежной юности он предпочитал Алису, певицу с лучшими голосовыми связками, не зная и не ведая, что та в свое время обзаведется бычьим затылком.
И этот самый мужчина наделен – откуда? по милости Божьей? – даром оценить ее тело, редкостная добродетель, самая непосредственная, какой только может обладать мужчина, единственно устойчивая, если она подлинна. Но подлинность Мелузина чувствует, она и сама превыше всего ценит свое тело. N'aimant que sa propre chaire[146]146
Я влюблена только в свое тело (фр.).
[Закрыть]. Эти слова – ее тайный ключик для интима с зеркалом. И вдруг появился второй, способный ее понять вплоть до последней складочки. Это соединяет его с нею в одно целое.
Она твердо знает: уж этот-то не допустит сомнений. В час деловой катастрофы, когда все пошло прахом, все – прахом, он открыл ее для себя. Он настаивает на ней – как на самой жизни. Это больше не цифры, не туманные подсчеты в голубую даль, которые из голубой дали звучно шлепаются обратно, прямо тебе на голову. Борьба за существование! Но теперь, когда дошло до последней черты, он борется за нее. И поэтому – она за него, и колени ее подгибаются.
Он видит это. Он видит все: ее заблуждения вплоть до последних – они ведь и его заблуждения. Но в этой точке жизни завершающая любовь еще может что-то спасти. Вот почему он приближается к ней как полубог, готовый помочь, – полубог в красном фраке, теперь этот фрак бросается ей в глаза – красный фрак на полубоге. Слегка забавно, но забавно – это нечто большее, мы же вечно топчемся на границе, и где, кстати сказать, он мог бы переодеться? Поскольку, склонясь над ней, он вовремя перехватывает ее до падения на колени, она цепляется за его красный фрак.
– Я бы этого не сделала, – говорит она, уткнувшись в его грудь. Он понял: не опустилась бы на колени.
Он говорит:
– Я знаю, – хотя знает он обратное. – Нет нужды столь драматично демонстрировать мне, какое чудо в облике женщины я люблю.
Это заставляет Мелузину покраснеть, настолько разоблаченной почувствовала она себя. Но истинная красота переносит и моральные разоблачения. Попытка опуститься на колени была не нова, этот дуэт поглядывал одним глазком на предшествующий, второй грозил стать сколком первого. Хоть и начатый вполне искренне, он рисковал из-за воспоминания о первом стать фальшивым, он не выглядел бы непосредственным, оказался бы слабым спектаклем. Не эгоизм, а хороший вкус предостерег Мелузину.
И так она лежала на груди, укрытой красным фраком, наслаждаясь завораживающей печалью оттого, что на всем свете ей не принадлежит больше ничего, кроме этой груди. «Я счастлива», – думала она, понимая, что при аналогичных обстоятельствах, но без этого человека, она бы выпила две бутылки вина и сверх всякой меры наглоталась снотворного. Избежать искушения – это уже само по себе счастье, хотя и не чистое – если Артур об этом проведает. Но об этом она промолчала, не то он вполне мог бы не дать ей договорить до конца.
Она слышала, как бьется его сердце, – значит, и он тоже был счастлив. И однако же он ждал, чтобы она окончательно утешилась, лишь потом он заговорил, все еще утешительным тоном, но с нажимом:
– Ну, здесь все хорошо. Поговорим теперь о существовании. Его надо завоевать – как тебя.
– Глупо с моей стороны, – сказала она, позволив ему подхватить себя, – а я уж чуть не подумала, что мы сдаемся.
– Чуть, – повторил он, – а в глубине души ты рада, что пара влюбленных в нашем возрасте не обходится без проблем. Мы глубже увязли в жизни, чем девятнадцатилетние.
– О! – воскликнула она, словно он поведал ей бог весть какие откровения. Несмотря на существование некоего Тамбурини, она признала Артура мудрым. И вдруг все начало проплывать мимо, быстрей, чем мог уловить взгляд: фигуры, сцены из этой ночи, из других дней и ночей, час, когда она падала и умирала, другой – когда ее покинули заботы, когда она была любима и богата, все, чего желает сердце; потом снова бутылки и таблетки и – только сейчас представленное ей солнечное сплетение. Все это успело завершиться, а она далеко еще не довела до конца движение, потребное для того, чтобы оторвать лицо от его груди.
Она выпрямилась и отступила на два шага, чтобы в дальнейшем беседа носила деловой характер.
– Ну конечно же, ты прав и уже обдумал, как нам посчитаться с Нолусом.
– Более или менее, – сказал он. Звучало так: скорее менее. Но объясняться он не стал.
– Позвонить в Управление полиции? – спросила она. – Чеки-то, во всяком случае, выписаны на его имя. До сих пор он не совершил ничего противозаконного. Разве что его можно будет арестовать, если он до конца дня не объявится в банке.
– Но ведь он совладелец. Банк может рухнуть. Новая Опера будет погребена под сокрушительным скандалом. – Артур говорил без запинки, эти мысли пришли ему в голову не сейчас.
Она вместе с ним прикинула шансы:
– Заимодавцы? Чего от них ждать? Им не захочется ценой скандала вернуть свои капиталы, которые они спасали от налогообложения.
– Пока все верно. – Он наклонил голову, чтобы поразмыслить, как она, вероятно, подумала. Но вдруг он снова поднял голову с выражением мрачным и решительным. – Я и сам бы мог отобрать деньги у Нолуса, но тогда мне пришлось бы его убить. После чего сразу и себя. Тут я останавливаюсь. Я не хочу пустить себе в голову пулю, которой заслуживаю. Да, заслуживаю, я вырубился, я передоверил президентов ему. Но мое самоубийство было бы тягчайшей ошибкой теперь, когда я счастлив и знаю, что ты тоже счастлива.
– Видит Бог, – сказала она громким и ясным голосом, и ни следа хрипоты. – Дорогой мой человек, своей жизнью ты обязан мне, – продолжала она, чтобы последовавшее затем требование прозвучало ласково, а не трагически. – Теперь ты видишь, что нам следует пожениться независимо от того, есть у нас в этом личный интерес или нет, потому что наверняка есть деловой. Нашу кредитоспособность мы можем сохранить лишь в случае…
Он договорил:
– …если у двух более не кредитоспособных предпринимателей хватит духу соединиться.
– Тут я бросилась бы тебе на шею, – сказала она, – но время подпирает. Нам в любую минуту могут помешать…
– Пулайе, – докончил он.
– Я-то имела в виду Стефани или, возможно, твоего сына. А Пулайе? При чем тут Пулайе?
– Очень даже при чем, – решил Артур. – Вспомни, что я тебе пообещал: не позднее сегодняшнего утра он попытается завладеть твоей сумочкой.
Следовало задать вопрос, но время и в самом деле подпирало, и она подхватила его мысль:
– Давай спрячем ее.
– И спрячем туда, где ему положено ее найти. Где должен взломщик искать деньги в доме у женщины?
– В спальне, – сказала Мелузина, еще не до конца уверенная, правильно ли она понимает.
ХХIII. Прекрасная ночь
– «О ночь прекрасная, о ночь любви», – распевал Пулайе, выводя свою мощную машину из городского центра.
– «Звездное небо вечно над нами, а нравственный закон – в душе у нас», – продекламировал Андре то, что слышал некогда от своего деда Балтазара.
Стефани, прижатая к нему в тесноте, сказала ему под самый нос:
– Вечно ты со своим нравственным законом! – Эти слова имели следствием беглый поцелуй на выходе; оба щадили чувства Пулайе. Благодаря своей стройности они вполне умещались подле шофера, а обняв друг друга, сэкономили еще больше места.
Верх лимузина был поднят, в свете созвездий они бледно видели друг друга – сверкающая бледность счастливцев, которым ничего не нужно от окружающего мира, и то, что они сами собой представляют, то они и есть. Он объяснил им это на словах.
– Я хорошо выгляжу, – сказал он, – ибо чувствую, что у меня хорошие шансы.
– Мы молоды, – в один голос ответили оба.
– Это во-первых, – сказал авантюрист на подходе к сорока, – а потом представьте себе некий шкаф. – Он не упомянул Нину, не стал описывать всю ее комнату, только шкаф и что он с этим шкафом проделывал: – Представьте себе этот увесистый предмет меблировки.
Андре, которому упомянутый шкаф не был незнаком, тихо промолвил:
– Половину.
– Он наклоняется, грозит упасть и погрести кой-кого под собой! – Пулайе явно драматизировал, вдобавок без помощи рук, руками он вел машину. – Наверху я, каким меня создал Бог. Человеческая жизнь зависит единственно от силы моей ножной мускулатуры, которая не только удерживает шкаф, но самым невероятным образом отводит его назад. И все это держится на моих духовных данных, на том высшем чувстве имманентного равновесия мира, каким человек либо наделен, либо нет.
– Может быть, это все-таки держалось на гвозде? – предположил Андре. Но Пулайе в мыслях своих отринул бывший там крюк и не желал снова его признавать.
– На чем, на чем? – спросил он, не задерживаясь. – Могу признаться, что я счастлив, – заговорил он чистым и красивым голосом.
Андре даже заметил:
– Но, Пулайе, при таком теноре, как ваш, вам вовсе незачем вести жизнь грабителя. Поговорите с Артуром.
Стефани:
– Я убеждена, что на всем великосветском приеме он был единственный талант. И, несмотря на это, занимается взломами, хотя чаще безуспешно.
Пулайе:
– Решает не успех, а энергия искателя приключений. Мне недостает первоначального капитала, не то я, подобно трестовскому магнату, доводил бы дело до развязывания войн и всеобщего обнищания, исключая, разумеется, мое собственное. Но это еще придет. Я не отчаиваюсь, отнюдь. Бывал ли на свете влюбленный, который на пути к предмету своей любви испытывал упадок духа?
Андре:
– Я еще ни разу не видел вас в таком возбуждении, – и на ушко Стефани: – И таким нескромным.
Она, совсем тихо, звук едущей машины почти исключал возможность расслышать ее:
– Не мешай ему болтать! Нам он все равно ничего нового не откроет.
Андре тоже хотел что-то сказать, но она прижала палец к губам, и он воздержался. Вместо него зашептала она:
– Он везет нас на ограбление Мелузины. Он думает, что у нее чеки от Нолуса.
Андре, несмотря на запрет:
– Ты ведь сама видела, как он их ей передавал.
Стефани, уже совсем неслышно:
– Он передал ей пакетик. Весьма интересна история со шкафом. С точки зрения акробатики он совершил максимум возможного. В одежде, которую носил – или снял другой, – лежал настоящий пакетик. Впрочем, все вздор, – заключила она.
Против всяческого вероятия Андре ее расслышал.
– Несчастный! – воскликнул он приглушенным голосом. И Пулайе совершенно с ним согласился.
– Когда все опять рухнет, у несчастного возникнет желание покончить с собой. Но, издавна привыкнув с достоинством терять то, что удержать невозможно, он вскоре почувствует непредвиденное облегчение.
– Вы это о ком?
– О вашем легкомысленном старичке. Неужели вы не понимаете, мой мальчик, что такая уйма денег в его руках способна привести к смертельным осложнениям? Как он мог бы снова от них избавиться?
– Не тревожьтесь, уж он-то найдет способ, – предположил сын.
Стефани уточнила:
– Окольными путями – да. Его попытки справиться с денежной проблемой, вполне возможно, поведут через катастрофы, сотни лет тюремного заключения, массовые увольнения и еще много всякого. Я могу только предчувствовать социальные дебри.
– Отлично предчувствуете, мадам, – заметил человек за рулем. – Хотя наши взгляды и не совпадают, их вполне можно перепутать.
– Правда, Стефани, – вмешался Андре. – По схожим причинам мы тоже жалеем наших родителей из-за их слишком бурной жизнедеятельности. Но Пулайе со своей стороны страдает тем же самым.
– Я – и страдать! – Пулайе даже не стал возражать, он запел: – «Pourquór me réveiller… Аu souffle du printemps»[147]147
«О, не буди меня, дыхание весны» (фр.).
[Закрыть].
Но тут дыхание утра донесло до них мимолетный аромат сирени. Они въехали на роскошную Парк-штрассе, не ведающую ни забот, ни угрызений совести; каждая из ее вилл захватила собственное возвышение, а потому и сознает себя на высоте. Звезды поблекли, небо, словно бы измятое после бесконечных объятий, обнимает отдающиеся ему сады: облака их крон дремлют в еще не различимых красках. Единственное резкое пятно: меловая поверхность дома поодаль, насколько деревья позволяют ее разглядеть.
– Нам сюда. – Андре хотел указать на открытые ворота, но Пулайе уже свернул. Как можно было видеть, он плотно стиснул зубы. Требование Стефани «я хочу выйти здесь!» он пропустил мимо ушей.
Эти перемены испугали Стефани, и она посоветовала молодому человеку:
– Может, сразу апперкот?
– Если вы долго будете спрашивать, я вас опережу, – пробурчал кавалер сквозь стиснутые зубы.
– Вы же только что пели, – сказала девушка, как бы извиняясь.
Андре, когда машина уже одолевала подъем:
– Вы нам доверились. Вы считаете нас вполне современными молодыми людьми.
– C'est à dire, des imbéciles[148]148
То есть дураками (фр.).
[Закрыть], – проговорил он все так же сквозь зубы. Впрочем, это могло означать и что-то другое.
– Ваши тайны перестали быть тайнами. Может, лучше отказаться от идеи взлома? Мне было бы очень жалко. – И поскольку Стефани толкнула его в бок: – Нам обоим было бы очень жалко.
– Не о чем жалеть. Я не полезу в дом. Вы это сделаете сами.
Его никто не понял, но Пулайе не спешил, он ехал по мягкой дороге медленно и бесшумно. А они тем временем успели понять.
– В этом деле я предпочел бы остаться невидимкой, – пояснил наставник. – Вы, как сын непосредственного участника, незаметно изымете чеки. И не только это. Я рад возможности показать вам жизнь во всей ее полноте. Отриньте ваш скепсис. Les plus dégoûtés sont les plus dégoûtants[149]149
Самые брезгливые и вызывают наибольшую брезгливость (фр.).
[Закрыть], – сказал он не слишком ласково, но ведь и ситуация была не из ласковых.
Тем временем они почти подъехали, зазора между домом и принятием решения уже не осталось. Андре наткнулся на руку Стефани, повернутую кверху ладонью. Это вполне однозначно говорило: ничего не поделаешь, да и незачем.
Пулайе задал вопрос без слов, лишь молча обратив к ним лицо: Андре кротко показал ему въезд. Протяженный задний фасад дома среди всех своих окон имел лишь одно освещенное, да и то еле-еле. Куда Пулайе и причалил.
– Ошибка! Почему вы не спрашиваете? Вы уже проехали мимо лестницы, что ведет в комнаты дочери.
– Вы ведь не захотите напугать мать, – уверенно сказала дочь.
Пулайе, отбросив церемонии:
– Вот ее спальня. – Молчание. Догадка подтверждена. – А теперь за дело, – промолвил известный специалист. Хотите верьте, хотите нет, он жаждал восхищения. Поворот, верх машины поднят, молчаливый жест предложил молодому человеку лезть вверх.
Андре поглядел снаружи.
– Не очень-то прочный, – заявил он. Свое истинное опасение, не слишком ли высоко для его возможностей расположен подоконник, он оставил при себе. Но наставник сразу его раскусил:
– Молодой человек! Первый раз в жизни вам предстоит социально определиться и взять на себя риск.
Стефани:
– Стыдись, Андре!
Внешне она никак не дала понять, чего ему следует стыдиться. Она повела глазами в сторону поднятой крыши и даже склонила голову на тот бок, куда она намерена повернуться, пока он будет лезть наверх. Машина отделяла ее от Пулайе, он не увидел ее маневров и, однако же, с ответом не замедлил:
– Фройляйн, делайте, что находите нужным, но постарайтесь не терять времени! Ваши комнаты связаны с этой спальней. Вы можете разбудить свою матушку. Но вы не станете этого делать.
– Разумеется, – сказала Стефани, переходя к нему, – тем более что она не спит.
– По мне, пусть не спит, пусть у нее даже гости и пусть она караулит свое сокровище.
– Все-то он предвидит, – восхитилась Стефани.
Андре вошел в первый контакт с фасадом.
Пулайе:
– Я знаю даже больше. Вы, благовоспитаннейшая особа, поможете нашему любителю залезть в окно. И посвятите его в тайны письменного стола. Потом вы же сбросите мне бумажничек.
Стефани с несколько учащенным дыханием:
– Это, собственно, значило бы, что я обману его с его бессмертным прообразом. И это будете не вы ли, маэстро?
Пулайе:
– Можете иронизировать сколько угодно, все останется как есть. В борьбе за существование я еще не предпринял ни одного шага, который был бы лишен эротической окраски, и, одерживая победу, я получал также и женщину.
Стефани:
– Но, маэстро! Вы размечтались и выдаете себя. Между тем нас слышат. Кто знает, как все кончится.
Пулайе:
– Скандал – из-за этих денег? Радуйтесь, если я их унесу. Нет, вы должны испытывать облегчение, быть счастливы.
Она дружески хлопнула его по плечу.
– Дай бог, чтоб это не стало вашим Сталинградом, – пожелала она ему, после чего исчезла. Немного спустя она изнутри открыла окно. И действительно, высунула из окна обе руки, как поддержку, в которой ее нареченный нуждался более, чем когда-либо. Вцепившись в скользкий подоконник, он не мог двинуться дальше, потому что немедля свалился бы.
Пулайе сохранял полную неподвижность, лицо, вместо того чтобы смотреть кверху, было обращено куда-то в сторону, он вовсе не ждал. Он закурил, прежде чем до него дошло, что он вроде бы ждет. Сверху донесся негромкий шум, совершенно лишний, кроме как в случае возникновения мешающих делу перемен.
– К чему эти remue-ménage[150]150
Пустые разговоры (фр.).
[Закрыть]?
Он наконец убедился, что лампа переместилась, что тени за гардиной приобрели резкие очертания. Затем какое-то время, показавшееся ему нескончаемо долгим, наверху ничего не происходило.
И вдруг тени выросли, загадочно выросли, что там с ними происходит? Все начали двигаться рывками, претенциозно, пожалуй, как подумал недовольный наблюдатель. Может, они пародируют свою неслыханную находку? Эти юные ниспровергатели на все способны, кроме лежащего ближе всего, кроме своих прямых обязанностей. Пулайе почувствовал, что о нем забыли.
– Я жду, – спокойно изрек он, по голосу можно было расслышать, что через мгновение он очутится наверху. И желание его тотчас исполнилось. Из приоткрытого окна высунулась голая рука, и рука эта размахивала чем-то беловатым, словно шутила, словно подманивала. Прикованный этим зрелищем, Пулайе лишь на десятой секунде заметил, что Стефани выставила в занимающееся утро не только руку, но и лицо и что она даже высунула язык. «Язык? Мне? Впрочем, я узнаю2 эту привычную небрежность, когда им надо действовать. Дети явно сошли с ума».
Он не обратил внимания на выходки девушки, он лишь подставил ладонь.
– Раскройте вашу маленькую ладошку, – попросила девушка, и он подхватил то, что она обронила, вырвал содержимое из конверта, слегка наклонился, начал листать, наклонился еще ниже, судорожно листая. Виной всему была серая муть рассвета. Виновато было его смехотворное волнение. Ах, не ходить бы ему к Нине. Он вообще мог бы пренебречь многим – день оказался и без того заполнен сверх меры, его вполне хватило бы для такого завершения – не только одного дня, но и карьеры, но и отважной борьбы, если уместно говорить об отваге в борьбе за счастье и даже более того – за существование.
Он почувствовал: на сей раз чаша переполнилась. Разумеется, при таком необычном роде деятельности трудностей не избежать. Никто и не спорит, мы достаточно закалены. Но это превосходило всю закалку против неудач. Он ощутил холод и лишь потому вновь обосновался на мягком сиденье машины, но не затем, чтобы читать. Фонарик он тотчас же загасил, фонарик был много слабей, чем то освещение, которое могли предложить небеса.
У Пулайе побелели губы, но никто этого не видел, и глаза как буравчики никто у него до сих пор не наблюдал, он и сам себя не узнавал. Мысль, из-за которой он сидел здесь, бледная как смерть и пронзительная: «Я пойду на убийство. Это как раз тот случай, который всегда казался мне невероятным. Господи, да будет воля твоя!» Он не богохульствовал, ибо из глаз у него хлынули слезы. Дыхание стало шумным – даже наверху можно услышать. Его окликнули. Он очнулся от страшного сна.