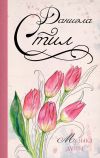Читать книгу "Великосветский прием. Учитель Гнус"

Автор книги: Фридрих Ницше
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Но старик не разговаривал со мной.
– Когда Артур публично его представил, твое время встретиться с ним еще не настало. Но дай срок, это произойдет.
– Я чувствую, он мой друг.
– Наш друг, Стефани. Но твой больше, чем мой. Ты должна унаследовать его винный погреб.
– Который ты видел во сне? Со мной на гладких ступенях? Ты влюблен в его дом как поэт. И уж подобных приемов его дом за сто лет не видывал ни разу.
Он дополнил ее слова:
– На это мифическое общество обрушивался один взрыв за другим, сперва они, по обыкновению, дрались за привилегии и преимущества, за места в первых рядах, за большую дерзость в разговорах. Их самоутверждение было беспредметным и безудержным. Покуда некий прекрасный голос не заставил их замолчать и благородный человек не исторг у них слезы просветления. Вот тогда они обрели то, к чему вечно взывали без всякого убеждения, обрели покой великодушия.
– Ах! – только и сказала Стефани, и Андре был с ней согласен.
– Они скорей заслуживают сострадания за свои добрые, но – увы! – мимолетные порывы. Потом дело с ними будет обстоять еще хуже. Нам можно только посочувствовать.
– А может, встречаются исключения? – С этими словами она обхватила рукой его плечи и легко прижалась щекой к его щеке.
В этой позиции, первой для них позиции такого рода, умным молодым людям было легче отбросить молчаливость. Вопрос Стефани:
– Где вы были с Балтазаром, когда увидели, как я иду?
– В темноте, – ответил он. – А куда ты шла?
Стефани:
– Не знаю. Не знаю куда.
Андре:
– Mais encore?[122]122
А потом? (фр.)
[Закрыть]
Она:
– Искать тебя.
Он:
– А если бы ты не нашла меня, когда я сидел, и ждал, и раскаивался, ты бы все равно осталась?
– Всегда, – отвечала она, даже не дав ему договорить. «Это я сказала с большой страстью, – радостно отметила она про себя. – Теперь можно вернуться и к сдержанности». – Кстати, разве я могла взять машину и бросить Мелузину здесь?
– Она давно удалилась, и провожал ее Тамбурини.
– Эта парочка, дорогой Андре, до сих пор пребывает – сказать где?
– Есть только одно-единственное место. Там уже многие побывали. Но не мы, о Стефани!
Она не поцеловала его. Она подышала ему в щеку. А он прошептал слова, которые вполне выдержали бы и обычную силу голоса:
– Робкие мы с тобой. Традиционная благовоспитанная пара в садовой беседке.
– Может, так только кажется, – сказала она.
– Я никогда тебе не признаюсь, что мне посоветовал сделать Балтазар.
– Но ты сделаешь это?
– Данный дом для такой цели не предназначен, – пояснил Андре, и они разняли щеки, чтобы поглядеть друг на друга, им хотелось сделать вид, будто это смешно. Нелепое честолюбие побуждало их казаться выше этого. «Ну и дураки же мы», – думали оба. Но направление, принятое разговором, было sans issue[123]123
Бесперспективно (фр.).
[Закрыть], как каждый из них себе признавался, почему они и переменили язык, назвав свое положение недопустимым. Андре спросил без видимой связи: – А о чем могли разговаривать певец и твоя мать?
Она знала, что вопрос этот был так же мало ему нужен, как и ей. Она ответила не сразу и не на весь вопрос. О, юная Стефани, конечно же, не сразу выложила печали зрелой Мелузины. Это скорей годилось для того времени, когда они с Андре не держали пальцы плотно сплетенными, когда каждый из них не ощущал ускоренный пульс другого; когда они не любили безмолвно, невыразимо.
Какая несправедливость: в эту минуту Стефани утратила способность привычно сочувствовать своей бедной, достойной всяческого восхищения Мелузине, пусть даже с ласковой иронией, но в глубине души серьезно и неподдельно. Теперь ей надо по-настоящему задуматься, как обстоят дела с ее матерью, память пробуждает в ней тревогу.
– Je suis toute chagrinée[124]124
У меня очень тяжело на душе (фр.).
[Закрыть], – говорит она носом в столешницу.
Он догадывается почему. Ее тревожит собственная совесть. А его? Что бы ни происходило в эту минуту в пресловутом кабинете, он все равно замешан, и они могут возложить на него ответственность. «Ну и пусть! Я возьму на себя больше вины, чем мне причитается. Я буду ее преувеличивать – из тщеславия. Большая, красивая женщина, ее наполненная жизнь – и я, у которого только и есть что мои двадцать лет, способен ввергнуть ее в отчаяние! Быть того не может! Слава богу, я выхожу из этого приключения».
Тут Стефани говорит:
– Я уже один раз вырывала у нее из рук стакан, где она растворила уйму снотворного.
– Ужас! – стонет Андре и пытается вскочить со стула. Она прижимает его к сиденью.
– Брось! Тогда на то были деловые причины – решающие для нее, как мне кажется.
– Вот мы сидим здесь и мы счастливы, Стефани, а сколько вины в каждом счастье?
– Тише, родной. Давай начнем сначала. Вот дверь, у которой мне не надо было подслушивать. Это более или менее историческая и, во всяком случае, хлипкая дверь. Не задавая никаких вопросов, я поняла, что Мелузиной в эту минуту пренебрегли. Я не употребила бы это слово, но употребляю в духе ее поколения, когда любовь непременно обставлялась торжественными деталями, лишь бы дела от того не страдали.
– Ну а если отвлечься от дел, разве это не изменилось? – спросил он, решив вопрос для себя.
– Что «это»? – полюбопытствовала она. – И что осталось таким, как было? Скажи, о мой дорогой Андре?!
– Что мы можем быть очень несчастны. Потерять тебя – а сегодня вечером эта перспектива какое-то время стояла у меня перед глазами – означало бы для меня с непреложной уверенностью, что жизнь не удалась.
Вот это она и хотела услышать. Стефани не отрицала, не лицемерила, она прямо сказала:
– Наконец-то.
Наконец-то все стало на свои места. Необходимо было его объяснение, чтобы оба отбросили свои тревоги, самодельные тревоги, возникшие в связи с делом Мелузины, делом Балтазара. Дело Артура тоже надлежало выкинуть из головы, да, по сути говоря, и весь великосветский прием целиком и полностью. Все миновало, простейшее объяснение в любви есть выражение правды, оно наводит порядок. Теперь можно встать из-за стола.
– Но куда? – снова пожелала узнать Стефани. – В конце концов Мелузина действительно ушла. А меня бросила, ее оправдывает большое-пребольшое горе.
Андре вскочил, не успев еще ничего подумать.
– Если эти ужасные люди не уберутся по своей охоте, у меня, коль на то пошло, есть обязанности перед этим домом, – наизусть продекламировал он.
Она сказала:
– Перед этим домом? А где ж тогда его хозяин?
Факты выглядели следующим образом: Артур больше не ел, не выпивал и не спал на виду у всех.
Он, должно быть, использовал краткий миг просветления, чтобы отступить. Но как здесь отступают? Все перевернуто вверх дном, и свою комнату ему не найти.
– Значит, он в моей, – решил Андре.
При этом оба они двигались к аванзалу, куда занесло изрядно поредевшее общество. Общество это явно стремилось быть в форме, вот только сил к тому не осталось.
– А выпить нечего? Эй, хозяин! – Такими выкриками встретили новую пару, но до того неуверенно, что ответа даже и не требовалось.
– Еще последние сражаются за жизни слабый огонек, цепляться сильнее никто бы не смог, – заметила Стефани, а потом оба, чередуясь: – Без виски и без музыки им тяжко. У них вдобавок борода растет. Да и сорочка тоже подкачала. О дамах говорить пока не станем. Веди они военное хозяйство, и то б, наверно, выглядели лучше.
Оба наблюдали и по очереди произносили свой текст:
– Пугающую резвость проявляет жена дельца, которая намерена исполнить шансон. Опустив заднюю часть на услужливые руки, она возносится на сцену. При такой оказии ее было бы нетрудно раздеть или даже толкнуть, но артистический народец воздерживается от неприличий, о неприличиях позаботится сама певица. Хотя нет, слушатели намерены ее высмеять. Девушки, которые целый день торчали за сценой, но так и не сподобились выступить, а теперь получили разрешение взять свой дневной гонорар и уйти, торжествуя, глумятся над богатой дилетанткой. Теперь она полуголая и кричит петухом.
– Хватит! – потребовал Андре. Некий немолодой господин с негодованием покосился на него. Должна же его высокоодаренная супруга хоть раз в жизни показаться знатокам с настоящим маэстро за роялем. Он тряхнет мошной, и номер будет спасен.
– Сейчас тебе дадут денег, – сказала Стефани.
– Задаром? – удивился он.
Она попросила:
– Не будь слишком строг, долго ли нам еще смотреть на подобные непотребности?
– Всегда, – сказал он.
Певица была весьма увлечена собой, хотя и обуреваема сомнениями на каждом затруднительном месте своего выступления. Ее глаза обегали круг слушателей – спустят они ей эту ошибку или нет. Действительно, среди слушателей нашлись люди, которые гримасничали, чтобы выбить из нее последние остатки храбрости. Преодолев смущение, она произнесла запретное слово, словно плевалась алмазами и привыкла к этому.
Она закончила. Те же злопыхательствующие личности потребовали еще несколько аналогичных номеров. Легко сказать «еще», когда певица ничего больше не приготовила. Совершая карьеру светской дамы, она встретила на своем пути лишь один этот непристойный образчик, для предутренних часов этого обычно хватало с лихвой, а уж супругу номер и вовсе казался вечно новым: насколько по-другому воспринимал он свою жену!
Щедрые аплодисменты он встретил как вполне заслуженные: в конце концов, он тоже был проституирован. Если они открыто насмехаются над ним и над его подругой жизни, не надо рассчитывать, что он останется к этому глух. Однако он сознавал: это и есть свободная жизнь, вторая форма бытия. Вот как вспомню свое бюро и унылую комнату, где мы обедаем… Там бы мне разойтись во всю ширь, как я намерен поступить здесь, не сходя с места и без дополнительных издержек.
Выставив кверху закругленную часть тела и наклонив голову, он опустился прямо на ступеньки, ведущие к сцене, чтобы супруга его – никакие отклонения с пути истинного не замечены, отношения чисто деловые, кроме как по субботам, – села ему на загривок. Она заставила себя ждать, она трясла собственные руки, как подсмотрела у артистов, когда на них обрушивается шквал оваций. Итак, дама вступила на корму своего мужа. И для начала, конечно же, поскользнулась.
Широко раздвинув ноги – покрытие с них давно съехало, – она грузно шмякнулась на поясницу мужа, но он даже не дрогнул. Этот человек загодя напружился, теперь он оставит далеко позади свой обычный рекорд, он повергнет в изумление свет и себя. И вот он влечет свою ношу – тем временем она превратилась в порождение его взыскующей души, стала метафизической, – влечет свою ношу, передвигаясь на четвереньках, а она машет ручкой и кукарекает.
Но путь оказался долог – получилось слишком, очень даже слишком в любом смысле. Когда герой из буржуазных кругов дал слабину и почти рядом с так и не достигнутой лестницей без памяти распластался на полу, никто вдруг не засмеялся; все разом поняли, что и раньше-то смеялись через силу. Потом все, не считая, конечно, супружеской четы, убежали вниз, чем и сделали лучшее из всего, что могли сделать.
Праздник на исходе. Остались только компрессы для мужа: Стефани засунула их под пластрон его фрачной рубашки. Дама, такая же бестолочь, мягко выражаясь, предоставила Андре привести в порядок ее одежды и при этом подвергла его некоторой проверке. Выяснив, что о нем и речи быть не может, она и этим вполне удовольствовалась. Пару провожают к выходу. Мы облегченно вздыхаем.
ХХI. Без покровов
Стефани могла сказать: «Я, пожалуй, тоже пойду?» Но оставила реплику при себе. Андре мог ответить: вызвать тебе такси? И, подобно словам Стефани, в его словах тоже не содержалось бы ни решения, ни вопроса как такового. Обоим бросилось в глаза, насколько вокруг стало тихо, они поделились своими наблюдениями, поднимаясь при этом по лестнице.
– Не будь на полу ковров, наши шаги отдавались бы очень гулко. – Они пытались шутить, ибо не знали, куда податься среди этой пустоты.
– Конечно, надо бы малость вздремнуть, – сказал он.
Она возразила:
– Ваш дом совершенно для этого не приспособлен.
– Вдобавок я еще не до конца управился, – осенило его.
– Из-за приема?
– Припозднившиеся гуляки.
– Мы же их только что выставили.
– Ой, боюсь нет. – Он наморщил лоб, хотя и старался говорить беспечным тоном. – А вдруг они перебрались наверх?
– Господи, да что им наверху делать?! И вообще про кого ты? Ну и домик!
И как раз в эту минуту раздался страшный шум, вне всякого сомнения как раз над их головами. Шум состоял из топота, звона разбитой посуды, возможно даже, чье-то тело рухнуло на пол. Удачная позиция у подножия лестницы не давала им, невольным участникам, точнее различить звуки из-за архитектурной размашистости.
– Давай спрячемся! – потребовала Стефани. Она расслышала три голоса и сразу узнала один из них.
Нина устроила прием у себя: господин во фраке, а второй без рубашки, но отменного телосложения. И с этим вторым она сражалась за одеяло для сокрытия своей наготы, причем более ради формы, нежели из приличия. Если Пулайе намеревался воздать почести господину Нолусу, залезши под одеяло, – это всегда пожалуйста. Когда в дверь забарабанили, Нина сразу смекнула, кто это может быть. Пулайе, узнав возмутителя спокойствия, сразу приостановил попытки укрыть свою наготу и даме не позволил, которой это, впрочем, было безразлично, она выпустила одеяло из рук.
– Вас кто сюда звал? – спросил господин в постели.
– А вас кто? – спросил господин, закрывавший за собой дверь.
Раз уж Нине больше нечего было прятать, она, по крайней мере, постаралась принять наиболее выигрышную позу.
– Будете вы смотреть или нет, – такими словами встретила она Нолуса, – цена одна и та же.
Пулайе коротко фыркнул, совсем как кот, только на сей раз без сапог.
Нолус флегматично:
– Прошу вас, продолжайте.
Тут он начал раскуривать сигару, но прежде чем кто-либо даже успел это осознать. Пулайе подскочил с матраса, так сказать не прибегая к помощи суставов, вырвал сигару у него изо рта и зашвырнул в жестяное ведро под умывальником.
– Вы находитесь в спальне у дамы, – сообщил обнаженный и уперся босыми ногами в пол, готовясь к любой схватке.
Нолус не обратил на это ни малейшего внимания. Поначалу он и на вышеупомянутую даму не обращал внимания, а вместо того разглядывал ее так называемую спальню. Это была вполне нормальная комната, своеобразие ее, как установил Нолус, определялось исключительно редкостной распущенностью хозяйки. Из шкафа – ореховое дерево, между прочим, как и все остальное здесь, – она в прямом смысле наполовину высадила дверь, затем, наверно, подумалось Нолусу, что лишь такой разворот ставил зеркало под нужным углом для обитательницы постели вкупе с ее гостем.
Вполне удовлетворенный осмотром, он кивнул:
– Все, как я себе и представлял.
Второй сигарой, еще не раскуренной, он указал на туфли – целый парад туфель занимал в этой картине передний план. Стоптанные, новые, изящные и старомодные, они наискось выстроились на ковре, который в свое время был весьма неплох. Его пятнистый вид могла объяснить лишь одна причина – второй, не заявленный официально, образ жизни Нины, ее небезопасные склонности. Вся скрытая жизнь этой особы становилась явственной при виде изношенных, походивших по всяким дорогам туфель, которые она инстинктивно сохраняла. Хорошенькая, милая, привлекательная, какой Нина выставляла себя перед публикой, она в замалчиваемых деталях этих сокровеннейших покоев давала полную волю своим греховным безднам. Она являла образцы своих тайных, своих страшных чар, которые открыл в ней Нолус, если он их, конечно, не выдумал сам.
– Лучшие намокнут, – сказал он, не теряя уверенности, хотя это и стоило ему больших усилий. Сказать же он хотел, унимая внутреннюю дрожь, что все старые, изношенные туфли стояли – с умыслом или без умысла – на сухом. На новые же изливалось содержимое переполненного ведра. И не случайно, решил Нолус. Грязные детали разоблачают ее перед человеком, который способен их понять. И это отнюдь не мужчина без рубашки, утверждал далее банкир. Пулайе – несостоявшийся человек чести, утверждал он. Таких Пулайе тянет в хорошее общество!
Громко и с нескрываемым презрением он сказал:
– Ну и ладно, спасайте от ведра хорошие, новые!
Знаменитый авантюрист и впрямь начал выдергивать лучшие туфли из набежавшей лужи. Никто, кроме тонкого знатока, не угадал бы за этим тягу посредственности к наведению порядка. Но презрение выказывал не один Нолус, и даже Нина и та скривила лицо. Ошибки нет, в полном согласии с претендентом она насмехалась над своим дружком, который, во всяком случае, был более позднего происхождения. Вот и это означал ее наморщенный нос. А обнаженного героя, да еще вдобавок униженного тем, что он начал подбирать с полу ее туфли, – его Нина отвергла, от него она отреклась.
Кара не заставила себя долго ждать. Кавалер, которого отнюдь не следовало сбрасывать со счетов, едва выпрямившись со своими намокшими туфлями в руках, сразу оценил ситуацию. Одну туфлю он швырнул Нине в лицо и попал, другую – в сигару своего врага: Нолус успел тем временем закурить. Второй бросок оказался не столь удачным, и вовсе не потому, что рука кавалера дрогнула. Неизменное присутствие духа помогло банкиру перехватить снаряд и послать его обратно, исходя из намерения, пусть даже неразумного, немедля перейти в наступление.
– Эй! – выкрикнул Нолус трубным голосом, причем вскочил с места, как несколько ранее – другой. Не столь элегантно и не без помощи суставов – да и чего ждать от гигантской обезьяны. Четыре конечности угрожающе согнуты, кулаки выставлены вперед, символизируя своим видом неотвратимую атаку, он перемахнул через кровать, через двуспальную кровать, но его бы и две таких кровати не остановили. Речь идет о гло2тке обнаженного, а штурмовать надлежит его укрытие между умывальным столиком и шкафом. – Эге-ге-ге! – кричит Нолус с воздуха в момент атаки.
Все, что здесь можно видеть, что можно слышать, внушает ужас. И любой другой, надломившись, уже поднял бы руки над головой, хотя, когда имеешь дело с таким убийцей, нет ничего глупей, чем сдаваться на его милость. Человек, подобный Пулайе, думать не думает о surrender[125]125
Капитуляции (англ.).
[Закрыть]. Сам он на месте другого проявил бы великодушие из чистой элегантности, коль скоро преимущественное положение это позволяет. Лично ему ярость неведома и не вызывает у него почтения. Глядя на нее, он лишний раз убеждается в собственном нравственном превосходстве, которое, можно надеяться, приведет и к материальной победе.
При виде такого обилия варварской силы мастер цивилизованной атлетики перенес свою позицию еще дальше назад и вверх. Он вдруг очутился на умывальном столике, а как – никому не понятно. Прыгать он не прыгал, может, тот же воздух, откуда сверзился Нолус, вознес нашего Пулайе? Из отпущенного ему времени он не теряет ни мгновения, потому что уже в ближайшее время враг может его схватить. Но пусть не надеется! Скорей уж он лишится чувств, а если не лишится, значит, череп его отличается завидной прочностью: умывальные принадлежности, кувшин и таз поочередно вдребезги разбиты о его затылок. На здоровьице!
Когда по комнате разлетелись черепки, Нина на своей постели натурально отодвинулась в сторону. Не удовольствовавшись этим, она согнула тело и конечности, чтобы по возможности принять форму шара и превратить свои обнаженные телеса в некое подобие ежа. Только иголок не хватает: ни единый клочок батиста не покрывает беззащитное дитя.
– Все вы старперы и деревенские пентюхи! – выкрикнула она в сумятицу схватки из середины шара, где помещалась ее голова. Но если она полагала, что ее будут слушать…
Мужчины – ее мужчины, собственно говоря, но это она как-то упустила из виду – крушили ее обстановку: верхний – бутылку для воды, нижний схлопотал ею по затылку, когда сам нагнулся за ведром. И при этом нашел то, что, на его взгляд, предопределяло исход схватки: бритву. Мужчина наверху – а ему теперь и в самом деле угрожала опасность – покамест ничего не заметил, у него было занятие поважнее: он отвинчивал со стены зеркало. Из своего телесного центра выглядывала Нина, ее прищуренные глаза потемнели от возмущения.
– Ради бога! – взывала она, адресуясь теперь уже не к глухой для ее призывов мужской аудитории, а к своей собственной скругленной плоти. – Ох, Артур мне и задаст, если вы зазубрите его бритву! Он ужас как трясется над своими вещами, еле-еле согласился мне ее дать. – Чтобы избежать дальнейших неприятностей, Нина даже рискнула отказаться от спасительной формы шара, схватила подушку и сделала несколько шагов вперед, желая окутать подушкой нападающего, его лицо и вооруженную лапу. Его противник, сразу осознав и грозившую ему опасность, и возможное спасение, не поленился покинуть ненадежный умывальный столик, по воздуху, как здесь принято.
Теперь Нолусу предстояло укрощать Нину. Сражение на два фронта вообще не предполагалось, а к этому прибавьте гнусное предательство с Нининой стороны. Нолус задыхается от возмущения, вдобавок его в большей или меньшей степени придушила Нинина подушка.
– Вот что тебе было надо, преступная девка, – хрипит банкир и молотит по ней, покуда она со стоном «Я люблю тебя» не кусает его в щеку. Услышав это признание, он издает грубый крик. Его состояние позволяет из всех проявлений чувственной страсти предвидеть самое однозначное. И дело явно идет к тому. Судьба не вмешается, разве что та, которая сидит на шкафу.
Шкаф, как-никак удаленный от умывального столика футов на пять, достигнут Пулайе все так же по воздуху. И, скрючившись наверху, он вынужден с огорчением выслушать пыхтение Нины «Я люблю тебя!». «За это ты мне заплатишь», – думает он, не желая, однако, проявить недопустимую поспешность. Голый человек против открытой бритвы в руках помрачневшего рассудком неизбежно переходит к обороне. Насчет обороны беспокоиться нечего. Шкаф дает два неоценимых дополнительных преимущества: он высокий, и он качается. Пулайе улыбнулся бы, надумай кто-нибудь спросить его, с каких это пор неустойчивость шкафа считается преимуществом. Ну, во-первых, он попал на него, хотя и должен сидеть скорчившись – близость потолка не дает ему выпрямиться, да и незачем.
Безумству своего могучего поклонника Нина оказывает некоторое сопротивление, не более чем того требует от нее женская честь. Пулайе на своей верхотуре думает: да, не слишком. Он вспоминает однозначную заповедь: приди на помощь. Вот только эта бритва, к сожалению, до сих пор у противника в руке, правда, сейчас он ею не размахивает и она уже не имеет прежнего внушительного вида. Да, а что с ней вообще? Надо только наблюдать с пристальностью лично причастного, и тогда все или почти все прояснится. Нина опускает оружие в помойное ведро с грязной водой.
Напряженность в ней спала, движения сделались слабей, по виду она уже не так и удалена от той минуты, когда поддастся насилию, да еще скажет спасибо, но – любопытным образом – все это лишь после того, как бритва падает в ведро. И вот уже у нее делается безвольное, томное лицо, а щелочки глаз мечут молнии в сторону шкафа. Руки ее ничего больше не предпринимают, чтобы защитить тело, напротив, даже одна свешивается с постели, где должно завершиться ее поражение. Так думает некий сладострастник, который уже ничего не видит и не слышит, кроме бесконтрольного голоса собственной крови. Его главная мысль – но единственная ли? – состоит в том, чтобы враг беспомощно присутствовал в своем прибежище. Кстати, а другого прибежища у него на примете нет?
Над ним, у него за спиной, высится шкаф, и шкаф этот шатается. Спору нет, он и всегда-то шатался, но сегодня некий артист, добираясь сюда по воздуху, уже с самого начала поставил себе такую цель. Только он один и знает, что это игра, рискованная игра со страхом, но грубый серьез вообще не должен иметь места. Пулайе начал придавать шкафу наклон вперед, поначалу едва заметный. Положение Нины позволяло ей это увидеть. Нолус же спиной ничего увидеть не мог, если бы даже самочувствие ему это позволило.
Нина вдруг размякла до такой степени, что одной податливостью это уж никак нельзя было объяснить. Более того, возник очень заметный перерыв; Нолус, хоть и утративший форму, не остался, однако, нечувствителен к перерыву. Инстинкт самосохранения остерег его, он выпустил свою добычу и оглянулся. Шкаф нависал над ним, готовый его раздавить, но замедленно. Он двигался, повинуясь не собственной тяжести, а босым ступням акробата, который им управлял. И тут Пулайе возвысил голос торжества.
– Pozor![126]126
Внимание! (чешск.)
[Закрыть] – вскричал он.
Почему вдруг по-чешски? Ему ответствовала быстренько очнувшаяся Нина, ей тоже не пришло в голову ни «attention»[127]127
Внимание (англ.).
[Закрыть], ни «внимание», она тоже четко выкрикнула «роzоr», как и артист. Не иначе, они были знакомы по цирковым временам. Одновременно Нина выскользнула – и ни один электрический угорь не мог бы сравниться с ней – из последних примет тщетного объятия со стороны побежденного Нолуса и вскочила.
То же самое произошло ранее с двумя другими участниками сцены. Каждый вскакивает на свой лад, наша Нина – светлой чертой горизонтально сверкает в воздухе, с головы до ног одна светлая кожа, – она расплывается в загадочных тенях своей спальни, где пока так никому и не удалось с ней переспать. Вскакивает так, что никто не мог бы поклясться, будто видел, как она где-то приземлилась.
Совсем не так ее приторможенный любовник: то ли незавершенный порыв страсти, из которого он насильно был исторгнут, то ли столь же внезапно осознанная угроза для жизни – но ему не удалось сдвинуться, он барахтался на одном месте. Тут Пулайе, который прыгает через дома и заставляет президентов дружить с ним, показывает, кто он такой и на что способен. На грозном своем пути к убийству банкира шкаф внезапно остановлен: в насмешку над всеми законами физики. Распорядитель шкафа, можно сказать, почти покинул его верхнюю плоскость, он уже уперся ногой в спинку шкафа, раз она намерена подняться вверх.
Как он поворачивает ход событий? Быстрей, чем можно было ожидать, он распростерся на животе, его мускулистые ноги обхватили передний край, сам же он, вытянувшись сверх всякой меры, подтянулся за вбитый в стену крюк. Случиться может одно из двух, и особа, которая на всякий случай спряталась, глядит, затаив дыхание. Во-первых, крюк может выдернуться из стены, крюки всегда так себя ведут, когда на них возлагают надежды. Тогда Пулайе может спасти лишь себя одного и спрыгнуть, если, конечно, успеет. Нолусу, тому, разумеется, крышка. И наоборот, во-вторых, есть надежда, что, вопреки предыдущему опыту, крюк удержится, не даст себя выдернуть. Тогда шкаф вернется в исходное положение и встанет к стеночке, будто никогда ее не покидал. Но это маловероятно.
И однако же случается именно маловероятное, причем с той естественностью, которая проистекает не из чуда, а из рассчитанной силы возвышенного духа. Ради чистой элегантности, ни для кого и ни для чего, победитель, проиграв брюшным прессом, перелетает над головой и плавно опускается вниз. Оказавшись наконец-то на твердом основании, он почти безотлагательно облачается в штаны. И с точки зрения общественных приличий он теперь снова равен любому другому. Финал оставлен исключительно на его усмотрение: вырубившийся противник предпочел обморок. Можно допустить, что это защитная поза; но нет человека, которому более чужда мысль воспользоваться беспомощностью противника, нежели Пулайе.
– Ну, берите свои шмотки и топайте домой, – говорит он со снисходительной благожелательностью, сопровождая свои слова легким хлопком по плечу побежденного. И глянь-ка, кто это у нас быстренько приходит в себя, хватает свой фрак, сочтенный помехой в ходе предшествующих событий? Кто приводит себя в порядок, устремив взор на изъяны в туалете и все еще не произнося ни слова? Да все тот же Нолус, который в течение всей долгой ночи давал множество мыслимых и немыслимых доказательств своей храбрости и энергичности. Теперь же он никак не может отыскать дверь. И не потому лишь, что сам затрудняет себе эту задачу, но и потому, что комната – с каких, собственно, пор? – не имеет иного освещения, кроме звезд.
Не стоит беспокоиться, это не тот способ, каким исчезает Нолус. Уже держась за дверь, он вспоминает свою mot de la fin[128]128
Завершающую реплику (фр.).
[Закрыть]. Так он называет ее про себя и мнит безупречной, так он спасает свой уход. Не важно, за какой из своих карманов он при этом хватается, банкноты напиханы в любом, а пальцы различают их стоимость, и одну, более чем приличную, он для начала заставляет трепыхаться в воздухе на вытянутой руке. Пулайе должен по замыслу жадно в нее вцепиться. Вместо того он надевает рубашку.
На это денежный мешок не рассчитывал, загодя продуманная фраза утратила выразительность, пропала ирония, сменившись вместо того пафосом.
– Вы показали себя истинным кавалером. Вот ваш гонорар! – изрек Нолус, но как бы ему не пожалеть о своих словах. Кавалер перестает заправлять в штаны короткую сорочку, брови его полны угрозы. Он известен быстротой реакции и ловкостью рук. А с другой стороны, Нолус еще и от пережитого страха не до конца избавился и новых столкновений не предполагает. Несчастье снова кажется неотвратимым.
И тут между двумя рыцарями встает, как бы вырастая из пола, их дама. Нина, исчадие окружающей тьмы, не одетое ничем, кроме мерцания звезд. Оба находят, что оно неслыханно ей к лицу. Нет более соперничества, гордость должна умолкнуть, здесь забывают про ребяческое превосходство вкупе с гимнастическими номерами, из которых каждый последующий должен превзойти предыдущий. Напротив, совместное созерцание возвышает и примиряет.
– Она как мечта, – взволнованно шепчет один.
Другой, отлично его понявший, роняет руку с зажатой в ней банкнотой. Но Нина подхватывает падающую руку.
– А это для меня, – произносит ее голос, который по воле хозяйки может зазвучать надтреснуто, а потому способен подключиться к любой подходящей проводке. И впрямь восприимчивый Нолус испытывает искушение вновь разыграть свою сцену со всеми ее падениями и взлетами. Ее глаз, как ни загадочно он блестит в щелке между веками, без труда разгадывает Нолуса; чтобы успокоить его, она подставляет ему щеку.
– Завтра, – обещает она ему на ухо.
– Мы уедем, – беззвучно настаивает он и наконец выходит в дверь.
Оставшиеся двое успели лишь вздохнуть, и вот уже они сплетены в объятии. Словно догадавшись о том и желая помешать им, как ранее они помешали ему, Нолус там, за дверью, упал с лестницы. Ни о чем другом подобный грохот свидетельствовать не мог.
– Он сломал себе шею. – И пылкий любовник оторвался от предмета своих вожделений. – К сожалению, моя репутация не позволяет мне находиться вблизи при несчастных случаях со смертельным исходом.