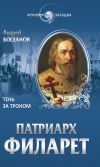Текст книги "Домашняя жизнь русских царей"

Автор книги: Иван Забелин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
Мы знаем, что в домашнем быту государева дворца с большим усердием читались все сказанные поучения; знаем, что иной раз и сам государь принимал благочестивое решение истребить в народе это дьявольское угодие и посылал по государству строгие указы, подвергал ослушников наказаниям и пеням. Однако ж мирская жизнь брала свое, и сам дворец – представитель лучших, правильных и чистых нравов по Бозе оставался в этом отношении таким же, как и весь народ, обыкновенным, мирянином, привязанным к своим стародавним забавам и утехам. Во дворце мирские утехи были так обычны и принадлежали к таким постоянным потребностям жизни, что были устроены даже в особое отделение с именем Потешной палаты и с целым обществом разного рода потешников. Во дворце устраивались обычные народные игры, например, качели на Святой и горы на Масленице; во дворце постоянно играли в шахматы и шашки, тавлеи, саки, бирки, а также и в карты. Это были собственно домашние утехи. Не говорим о потехах государевых, о выезжих полях, т. е. о соколиной и псовой охоте, о медвежьем поле и медвежьей травле. Государева охота была искони устроена в особое ведомство, главный чин которого – ловчий – бывал всегда в особом приближении у государя. Во дворце, по-видимому, вовсе и не думали, что все это было отречено и проклято отеческими поучениями, ибо для изготовления, например, шахматной игры при дворце жили на жалованье особые мастера– токари, которые так и назывались «шахматниками», и только то и делали, что работали шахматы и другие подобные игры.

А. Кившенко. Военная игра потешных войск Петра I
Самым видным, наиболее выдающимся предметом комнатной забавы был дурак, шут. Это был, если можно так выразиться, источник постоянного спектакля, постоянной, вседневной утехи для всех комнатных дворцовых людей. Писание обозначало эту сторону домашних увеселений именем глумления, кощунания, шпильманской мудрости, а самых дураков и шутов обозначало шпильманами, глумотворцами, смехотворцами, сквернословцами и т. п. именами. Таким образом, штатная обязанность дурака заключалась в том, чтобы возбуждать веселость, смех. Он достигал этой цели или пошлыми, или острыми, слишком умными или слишком глупыми, но всегда необычайными словами и такими же поступками. Конечно, самый грязный цинизм здесь не только был уместен, но и заслуживал общего одобрения. В этом как нельзя лучше обрисовывались вкусы общества, представлявшие с лицевой стороны благочестивую степенность и чинность, постническую выработку поведения, а внутри исполненного неудержимых побуждений животного чувства, затем, что велико было в этом общежитии понижение мысли, а с нею и всех изящных, поэтических и эстетических инстинктов. На то и существовал в доме дурак, чтобы олицетворять дурацкие, а в сущности вольные движения жизни, или вообще волю, свободу, независимость жизни; чтобы ровную, однообразную и при том постнически однообразную домашнюю жизнь выбивать из ее тесной колеи, из ее постнической неволи. Как скоро жизнь стала освобождаться, выходить на волю, то постепенно стали уходить со сцены и дураки; и теперь трудно даже и представить себе, что такое был дурак на самом деле?

Э. Соколовский. Иван Грозный в монашеском облачении. 1904 г.
Должно полагать, что одни из них бывали в действительности идиоты, умственные уроды, помешанные, безумные, содержимые в домах как редкость, как игра природы, забавная наравне с карликами, говорящими попугаями или арапами, обезьянами и разными другими чудами и дивами, каких не всякий видал. Понятия о чудовищном унижении в этом случае человеческого достоинства в старом обществе не существовало. На это не указывали и поучения домостроев, отвергавшие только формы безнравственной жизни, а не самые ее корни, т. е. извращенные, бесчеловечные идеи. Человек-урод, как невиданный зверок, становился посмешищем для обычного человека, становился его забавой, игрушкой.
С таким же значением, как умственный урод, особенно ценился и дурак-шут, умный остряк, замысловатый глумотворец и смехотворец. Он носил имя дурака потому, что всякое глумление, смехотворение вообще признавалось степенным и чинным обществом чем-то вроде ребячества и глупости, потому что своими словами и делами он слишком уродливо выдвигался из умного уровня, на каком стояла тогдашняя порядочность поведения. В этом отношении и очень умные, как и очень глупые, слова и дела имели равный смысл дурачества, почему всегда и прощались как дурачество, на которое не стоило обращать умного, рассудительного внимания. Дурак, как и юродивый, становились иной раз суровыми и неумолимыми обличителями лжи, коварства, лицемерия и всяких других личных и общественных пороков, над которыми они издевались с полным и самым свободным цинизмом, находя всегдашнее оправдание для своих безцензурных действий в том же уродливом смысле своей жизненной роли.
Шутов и шутовство особенно любил и царь Иван Васильевич «Грозный». Одной из главных утех его, говорит Карамзин, были многочисленные шуты, коим надлежало смешить царя прежде и после убийств и которые иногда платили жизнью за острое слово. Между ними славился князь Осип Гвоздев, имея знатный придворный сан. Однажды, недовольный какой-то шуткой, царь вылил на него мису горячих щей; бедный смехотворец вопил, хотел бежать, Иоанн ударил его ножом... Обливаясь кровью, Гвоздев упал без памяти. Немедленно призвали доктора Арнольфа. «Исцели слугу моего доброго,– сказал царь,– я поиграл с ним неосторожно».– «Так неосторожно,– отвечал Арнольф,– что разве Бог и твое царское величество может воскресить умершего: в нем уже нет дыхания». Царь махнул рукой, назвал мертвого шута псом и продолжал веселиться70. В сопровождении шутов царь делал даже церемониальные поезды. Однажды, издеваясь над поляками в лицо их посольству, он схватил соболью шапку с одного из их дворян, надел ее на своего шута и заставил его кланяться по-польски. Когда тот отвечал, что не умеет, то царь стал учить его, сам кланялся и смеялся.
На пирах Грозного являлись шутниками и его любимцы из опричников-дворян. Вообще, шутливый, сатирический тон и шутливые разговоры были, кажется, характерной чертой в письмах Грозного, а следовательно, и в его отношениях к окружающим. Припомним его переписку с шведским королем, его послание в Кириллов монастырь... Очень естественно, что шуты при нем были в большом ходу.
Сын его, царь Федор, также всегда забавлялся шутами и карликами, мужеского и женского пола, которые кувыркались перед ним и пели песни. Маскевич говорит, что вообще шуты представляли самую обычную утеху для наших предков, увеселяли их плясками, кривляясь, как скоморохи на канате, и песнями, большею частью весьма бесстыдными. Даже Тушинский царик имел при себе шута, Петра Киселева, с которым и побежал потом из Тушина. В Смутное же время упоминается шут Иван Яковлев Осминка, который бывал у царя (Шуйского или Тушинского, неизвестно) всякий большой праздник71.
Молодого царя Михаила Федоровича в первое время (с 1613 г.) потешал дурак Мосяга, также Мосей (Моисей), а в хоромах у матери царя, великой старицы иноки Марфы Ивановны, в Вознесенском монастыре, жила дура Манка (Марья). В 1620 г. в товарищи к дураку Мосяге прибыл новый дурак Симонка, которому 12 июля государь велел сшить кафтан-терлик. Затем, в 1624 г., прибыли еще два дурака, Исачка и Ивашка. В 1628 г. у государя является еще новый дурак Семейка. В 1634 г. упоминается дурак Шамыра, а в 1636 г. появляется еще дурак Сергей. Шамыра – быть может, только прозвище того же Сергея или одного из упомянутых прежде.
Обычный, можно сказать, мундирный, наряд всех этих царских дураков был следующий: однорядка татарского покроя, из червленого (красного) сукна с татарскими завязками, кафтан крашенинный лазоревый, опояска из покроми червленого или зеленого сукна; шапка черкасская (малороссийская) суконная зеленая с лисьим околом или колпак валяный с нашивкой; сапоги красные, телячьей кожи, белые – рубашка и порты холщовые. Такой наряд по большей части они получали к Святой. Спали они на войлоках, одевались бараньими (овчинными) одевальными шубами.
Иногда кому-либо из дураков шилось и более богатое платье других цветов. Так, в 1629 г., 16 июня, государь приказал сшить дураку Ивашке однорядку – сукно английское вишневое, кафтан – дороги гилянские желтые, на хлопчатой бумаге с атласным лазоревым золотным ожерельем; ферези из лазоревого киндяку, шапку – сукно багрец с собольей опушкой. В 1636 г., 16 апр., государь приказал сшить трем дуракам, Симону, Исаку, Сергею, по однорядке: одна брусничная, другая красно-желтая, третья серебряного цвета, с кружевами и завязками татарскими, кафтаны крашенинные, сапоги телячьей кожи. По случаю какой-либо особой потехи, в которой должны были участвовать и дураки, им шилось и особое платье, изготовлением которого занимался главный потешник в Потешной палате Иван Семенов. Разные мелкие предметы их наряда и вообще их содержания большей частью покупались в городских рядах. В 1634 г., в ноябре, дурак Шамыра женился; свадьбу играли в селе Рубцове-Покровском, и, без сомнения, не без особых потешных затей. Мы знаем только, что 2 ноября в Рубцово на дуракову Шамырину свадьбу послано из царицыной казны 6 полотен тройных гладких да 3 полотна тверских, а 6 ноября ему с невестой куплены в Серебряном ряду крест серебряный золоченый да 2 перстня серебряных, за все рубль.
В хоромах царицы Евдокии Лукьяновны жили для потехи дурки: Орька (Орютка, Оринка), Дунька-татарка, Дунька-немка, Палагейка, которую в 1640 г. привез из Пскова окольничий Василий Иванович Стрешнев; Манка (Марья) – девка и еще Манка-шутиха, слепая баба. Эта последняя была взята в хоромы царицы в 1632 г. у боярина князя Ивана Борисовича Черкасского. В том году, 28 апреля, ей куплен в рядах следующий наряд: шапка женская камчатная лазоревая с пухом (околом); опашень вдовской черный суконный; телогрея киндячная лазоревая на зайцах; сапоги женские бараньей кожи красные, всего на 5 рублей. В 1634 г., 29 апреля, ей сделана потешная шапка из червчатой да из желтой камки с бобровым околом. 16 июля ей куплена валяная белая шляпа. В 1636 г., 31 марта, этой шутихе, женке Манке-слепой, сделан сарафан крашенинный лазоревый да платье из червленого сукна с шелковой нашивкой и с оловянными пуговицами. Наконец, в 1637 г., 10 марта, эта баба слепая была отправлена в подмосковное село Ильинское с царицыным боярским сыном, причем заплачено за провоз 10 алтын. Дурка Палагейка также оставалась недолго в хоромах царицы. Постоянно потешали царицу только четыре дурки: Манка, Орька и две Дуньки, татарка и немка. В разное время, смотря по надобности, им изготовлялись различные предметы их обычной одежды из царицыной казны: тафьи, треухи, телогреи, сарафаны, сапоги бараньей, телячьей кожи, козловые, большей частью красные, иногда зеленые, такие же башмаки и т. п.
У царевны Ирины была также дурка Катеринка (1643—1654).
К числу придворных дурок мы можем отнести и старицу Марфу-уродливую, которая жила в Вознесенском монастыре и также называлась иногда и дуркой. Вероятно, она бывала часто и во дворце. По крайней мере, из дворца, наравне со всеми другими подобными лицами, она получала свою одежду и все содержание. В 1640 г., 19 января, старица Марфа-уродливая скончалась; на поминовение по ней царица раздала в церкви, богадельни и нищим 100 рублей.
О шутах и дураках, состоявших при дворе царя Алексея Михайловича, наши сведения очень скудны. Можно полагать, что дурацкие потехи при благочестивой царице Марье Ильиничне если не были совсем оставлены, то стояли далеко на заднем плане. У государевой сестры, царевны Ирины Михайловны, жила еще в это время дурка Катеринка. У царицы Натальи Кирилловны встречаем в 1674 г. двух дур девок,
Аксинью и Авдотью. При царе Федоре Алексеевиче в 1679 г. дураки Петр и Семен живут у верховых богомольцев. В том же году, в декабре, взят был во дворец из Переяславля новый дурак, Федор, который, вероятно, тоже помещен был у верховых нищих. В 1682 г. упоминается дурак Тарас.
При Петре, в 1700 г., в дворцовом штате состояли два шута, Яков Тургенев и Филат Шанский, получавшие жалованья по 50 рублей. У императрицы Анны Иоанновны было шесть шутов: два иностранца – Коста и Педрилло, и четверо русских, князь Голицын, князь Волконский, Апраксин и Балакирев.
«Способ, как государыня забавлялась сими людьми.,– говорит Манштейн,– был чрезвычайно странен. Иногда она приказывала им всем становиться к стене, кроме одного, который бил их по поджилкам и чрез то принуждал их упасть на землю. (Это было представление старинного правежа.) Часто заставляли их производить между собой драку, и они таскали друг друга за волосы и царапались даже до крови.. Государыня и весь ее двор, утешаясь сим зрелищем, помирали со смеху»72.
Манштейн рассказывает, что Педрилло собрал 10 тыс. рублей посредством следующего дурацкого спектакля. Однажды Бирон шутя сказал ему, что он женат на козе. Шут воспользовался шуткой временщика, подтвердил ее и объявил, что так как скоро его жена разрешится от бремени, то он осмеливается просить императрицу со всем двором в гости к нему на родины, в надежде, что высокие гости, по старому русскому обычаю, не придут к родильнице с пустыми руками и будут класть что-либо на зубок для новорожденного, и он, таким образом, соберет денежную сумму, необходимую для воспитания ребенка. В назначенный день кладут его на театре в постель с козой. Занавес поднимается, и спектакль начался тем, что первая же императрица поднесла ему родинный подарок и сама назначила, сколько каждый из придворных должен был дать шутовской родильнице. Такие или подобные домашние спектакли разыгрывались, без сомненья, и в допетровском придворном быту.
Само собой разумеется, что народное слово, если б пользовалось в письменности теми же правами, как и книжное слово, должно было оставить нам довольно значительную литературу по этому отделу старинного шутовства и всякого глумления. Из числа сохранившихся памятников мы можем выделить лубочные картинки с шутовскими речами и шутовскими изображениями. В середине XVII ст. лубочные картины или листы деревянной печати печатались свободно и в большом количестве и в Москве, и в Киеве. Известно, что такими картинками украшались стены и в дворцовых покоях, и в хоромах у частных людей. Продавались они в Москве в первой половине XVII ст. в Овощном ряду, а в конце XVII и в начале XVIII ст.– на Спасском мосту, у Спасских кремлевских ворот, следовательно, на самом бойком месте по многолюдству, по цене всем доступной, по деньге, по копейке и по 2 копейки.
Необходимой формой для шутовской или сатирической литературы служила всегда вирша или рифма, так что шутить, острить значило между прочим и то, чтобы подбирать в своей речи красивый склад или красивую рифму. Древнейшим нашим стихотворцем и сатириком мы, по всей справедливости, должны признавать князя Ивана Хворостинина, который в начале XVII ст. прославился своим еретичеством, а быть может, главным образом своими «многими укоризнами и худыми словами в письмах про всяких людей Московского государства». Если б Хворостинин находился в звании дурака-шута, старина простила бы ему его литературные грехи. За дерзкое слово он вытерпел бы несколько батогов, его поучили бы тоже каким-либо потешным, хотя и жестоким способом, и тем бы все окончилось. Но князь не был шутом, поэтому его сатирические укоризны тогдашнему московскому обществу иначе и не могли быть поняты, как изменными ругательными поношениями честных людей. Нет никакого сомнения, что князь лично никого не упоминал, а писал вообще, как истинный сатирик; в противном случае он пострадал бы и по суду за чье-либо бесчестье. Сатирика, а к тому же еретика, который поколебался мыслию и сомневался в воскресении мертвых, сослали под начал в Кириллов Белозерский монастырь, с крепким наказом, чтоб, кроме церковных, без которых быть нельзя, иных бы книг никаких у него не было, для того что «высокоумием вознесся и высокословия возжелав, да не впадет в берег погибели, как и другие самомнители, о истине погрешившие и самомнением погибшие».
В обычном быту, т. е. в устах рядового человека, не штатного потешника, смехотворные шутовские речи иной раз приводили к суду и, разумеется, даром с рук не сходили, доставляя хорошие выгоды сутяжникам и всяким приказным. Так, в 1733 г. в Духовную Дикастерию была подана на Высочайшее имя следующая жалоба служителем лейб-гвардии Преображенского полку Алексеем Граниковским:
«Сего 17 июня дня настоящего 733 года случились быть у меня в доме гости, и без призыву моего пришел ко мне, в дом мой, викарий поп Василей... и принес с собой некую проказу, роспись смехотворную... тем при гостях учинил мне немалой афронт и бесчестье, понеже оные гости обвиняли меня в непостоянстве... Всемилостивейшая Государыня Императрица! прошу Вашего Императорского Величества... да повелит державство Ваше, сие мое прошение, с приобщением с смехотворного реестра копиею, приняв, записать... а оного попа, сыскав... допросить и... за бесчестье мое по сложению на нем взыскав, отдать мне, нижайшему, дабы впредь оной поп, ходя по домам, таких проказ и незаконных поступок чинить перестал».
«Роспись о приданом: вначале восемь дворов крестьянских, промеж Лебедяни, на Старой Резани, недоезжая Казани, где пьяных вязали, меж неба и земли, поверх лесу и воды; да 8 дворов бобыльских, в них полтора человека с четвертью, 3 человека деловых людей, 4 человека в бегах да 2 человека в бедах, один в тюрьме, а другой в воде; да в тех же дворах стоит горница о трех углах, над жилым подклетом... трети Московской двор загородной на Воронцовском поле, позади Тверской дороги. Во оном дворе хоромного строения: два столба вбиты в землю, третьим покрыто... – Да с тех же дворов сходится на всякой год насыпного хлеба восемь анбаров без задних стен; в одном анбаре 10 окороков капусты, 8 полтей тараканьих да 8 стегов комарьих, 4 пуда каменного масла. Да в тех же дворех сделано: конюшня, в ней 4 журавля стоялых, один конь гнед, а шерсти на нем нет, передом сечет, а задом волочет; да 2 кошки дойных, 8 ульев неделаных пчел, а кто меду изопьет... 2 ворона гончих, 8 сафьянов турецких; 2 пустоши поверх лесу и воды. Да с тех же дворов сходится на всякой год всякого запасу по 40 шестов – собачьих хвостов, да по 40 кадушек – соленых лягушек, киса штей, да заход сухарей, да дубовой чекмень рубцов, да маленькая поточка молочка, да овин киселя; а как хозяин станет есть, так не зачем сесть, жена в стол, а муж под стол; жена не ела, а муж не обедал».
«Да о приданом платье: шуба соболья, а другая сомовья, крыто сосновой корой, кора снимана в межень, в Филиппов пост, подымя хвост. Три опашня сукна мимо-зеленого, драно по три напасти локоть; да однорядка не тем цветом, калита вязовых лык, драно на Брынском лесу, в шестом часу; крашенинные сапоги, ежовая шапка... 400 зерен зеленого жемчугу да ожерелье пристяжное, в три молота стегано, серпуховского дела; 7 кокошников, шитые заяузким золотом... 8 перстней железных, золоченные укладом, каменья в них лалы, на Неглинной бралы; телогрея мимокамчатая; кружево берестяное, 300 искр из Москвы-реки браны... И всего приданого будет на 300 пусто, на 500 ни кола. А у записи сидели с. Еремей да жених Тимофей, кот да кошка, да п. Тимошка, да сторож Филимошка. А запись писали в серую субботу, в рябой четверток, в соловую пятницу; тому честь и слава, а попу – каравай сала да обратина пива, прочитальщику чарка вина, а слушальщикам – бадья меду да 100 рублев в мошну; а которые добрые люди, сидя при беседе и вышеписанной росписи, не слушали – тем всем по головне... »

Дурак и дура нянчат котенка. Лубок
Эта роспись носит на себе все признаки XVIII ст., когда, вероятно, она и была составлена, а в это время ходила уже в списках. Мы приводим ее как более или менее подходящую характеристику шутовских смехотворных речей, какими шуты-дураки потешали некогда своих слушателей. Мы видели, что шутовские статьи являлись на письме и в XVII ст.; но все подобные памятники, не имея делового канцелярского значения, быстро исчезали с самой жизнью старого общества, и только немногие из них попали в общий литературный оборот, переходя в какие-либо сборники или в разряд листов деревянной печати. Не говорим о литературе скоморохов, которая по особому свойству своих произведений должна была исчезать постоянно вместе с живым словом этих потешников. Эти произведения, случайно записанные, уже в романтическое время нашего века, даже в руках ученых издателей, тоже были отвергнуты за «пренебрежение умеренностью и правилами благопристойности, а также и за насмешливый тон»; как был отвергнут ими и знаменитый стих о Голубиной Книге, неприличный будто бы по смешению духовных вещей с простонародным рассказом.

Шутливые персоны Фома и Ерема.
Лубок
Одной из любимых русских комнатных утех в долгие осенние и зимние вечера, и особенно для грядущих ко сну, была сказка. Предки очень любили поминать прошлые события и берегли «память» о делах минувших. Лучшим доказательством и лучшим выражением их любви и уважения к памяти о прошлом служат летописи, разумеется, ранние, когда народные литературные начала не были еще стеснены односторонними книжными влияниями. Любовь и особое внимание к памяти о минувших делах и людях проходят через всю нашу историю и впоследствии получают только иное направление, когда память о делах людских сменяется памятью о делах Божьих, сказаниями о чудотворениях, о богоугодных людях, о подвижниках жизни иноческой. Письменная литература отдается по преимуществу этому направлению; но зато словесная устная остается верной своему первоначальному призванию и очень долго, даже до наших дней, сохраняет в памяти народа, конечно уже не историческую, летописную, а только поэтическую правду о людях и событиях. Она лучше помнит народных героев и вернее изображает истину их жизни, чем литература письменная, впоследствии совсем утратившая в своих изображениях жизненное чутье, если можно так выразиться.
Очень естественно поэтому, что сказочник, бахарь, как и домрачей и гусельник-гусляр, сменившие древних певцов и баянов, сделались, как теперь книга, домашней необходимостью, без которой не полна была бы жизнь всякого, кому не чужды были человеческие удовольствия. Их могло вытеснить, как и в действительности вытеснило, только писаное, т. е. печатное слово, и то тогда только, когда с половины XVIII ст. и оно поставило себе целью творчество художественное. У старозаветных людей и в начале нашего столетия бахарь-сказочник бывал еще необходимым членом домашнего препровождения времени. Это были поэты, если и не творцы, зато хранители народного поэтического творчества. Но не можем сказать, что они не были и творцами, ибо есть положительные свидетельства, что народная мысль не только свято хранила поэтическую память о минувшем, но с живостью воспринимала и поэтические образы современных событий.
Записать на бумагу песню еще возможно было в конце XII века, как это сделал творец «Слова о полку Игореве», но и он уже, или его позднейший переписчик, не посмел назвать этот рассказ прямым именем – песней; он озаглавил его «словом», т. е. придал ему значение обычной в то время книжно-литературной формы – т. е. слова книжно-учительного, или книжно-повествовательного. В XV, XVI и XVII столетиях писать на бумаге песни – значило кощунствовать, развратничать, прямо обрекать свою душу адской бездне, а свое земное существование вести по меньшей мере под батоги, а затем под начал, т. е. к монастырскому строгому и суровому исправлению: сидеть на цепи, работать всякую трудную монастырскую работу и непрестанно замаливать свой неразумный грех. Страшно было совершить такое преступление особенно потому, что одному греху обычно всегда приписывали и всякие другие грехи, ему родственные и свойственные. Поэтому записанные пустошные речи и песни равнялись еретичеству, неверию, и грамотные тетради не церковного, да и не делового содержания были непременно заподозреваемы, как тетради еретические, богопротивные, кощунные; а былины с их мифическими образами прямо бы осуждены были на сожжение. Книжное слово зорко и неустанно берегло свою чистоту и тотчас изгоняло из своей сферы не только памятники явно богомерзкие, но и простую живую народную речь, которая всегда способна была высокую книжную фразу низвести в грязь просторечия или отверженного шутовства.
Должно заметить, что, отвергая народное слово, книжность, где было ей нужно, все-таки пользовалась песнями, как необходимым материалом. Она нередко по ним составляла свои летописные статьи, свои исторические повести и сказанья вроде «Поведания о Мамаевом побоище»; она вносила песни в хронографы (например песню о Скопине); она, по всему вероятию, по таким же песням в XVI—XVII ст. составляла свои сказания о зачале Москвы-города и т. п. Но, пользуясь поэтическим материалом от наших древних баянов, от старинных бахарей, домрачеев и гусельников, она только искажала их песни, стирала живые их образы, всегда усердно переделывала их народную складную речь на свое книжное, сухое и чопорное, слово.
Как бы ни было, но многое нас убеждает, что в эпоху, о которой ведем речь, народная поэзия жила еще довольно полной жизнью и устное поэтическое слово постоянно оглашало и дворцовые палаты, и хоромы бояр, и народные празднества и игрища, что певцы и сказатели были людьми, необходимыми в тогдашней и общественной и домашней жизни. Известно, что царь Иван Васильевич не мог даже и засыпать без бахарей. Немцы, описывая его монашескую жизнь в Александровой слободе, говорят между прочим, что после вечернего богослужения царь уходил в свою спальню, где его дожидались трое слепых старцев; когда он ложился в постель, один из старцев начинал говорить сказки и небылицы, и когда уставал, то его сменял другой, и т. д. Царь от того скорее и крепче засыпал. Мы полагаем, что это была общая привычка старинных русских людей, и царь Иван Васильевич является в этом отношении только сыном своего века. Он точно так же любил и веселых, т. е. скоморохов, любил медвежью травлю и тому подобные удовольствия, которые хотя и были гонимы, но, тем не менее, представляли обычный репертуар царского и народного увеселения. Царь Иван Васильевич собирал веселых и медведей по всей земле. В 1571 г. с этой целью приезжал в Новгород некий Субота Осетр, верно, царский потешник, и в Новгороде и по всем городам и волостям Новгородской области брал на государя веселых людей, да и медведи описывал на государя, у кого скажут. Субота занимался этим делом все лето с весны и 21 сентября поехал на подводах к Москве с собранными скоморохами, и медведей повезли с собой на подводах к Москве. Можно полагать, что и в других областях бывали подобные же сборы скоморохов, в числе которых певцы-гусляры непременно занимали самое видное место. Остается не один раз сожалеть, что царские архивы погорели и мы вообще не имеем достаточных подробностей об этой, как и о многих других статьях тогдашнего быта. Встречается известие, что у царя Василия Шуйского был бахарь Иван.
У царя Михаила мы находим те же старые русские комнатные утехи. Его увеселяют бахари, домрачеи, гусельники. В первые года ему бают басни бахари Клим Орефин, Петр Тарасьев Сапогов, Богдан Путята, или Путятин. Царь каждый год жалует им платье. Все эти пожалования произведены по «именному приказу», следовательно, в награду за потешенье.
С бахарями рядом по своему занятию стояли в Потешной палате домрачеи. По всей вероятности, занятия бахаря и домрачея очень часто соединялись в одном лице, ибо бахарь был повествователь, сказочник, а домрачей – миннезингер, песельник, воспевавший деяния прежних людей, т. е. былины и старины про богатырей, и вместе с тем и духовные стихи. Домрачеем он назывался по имени музыкального инструмента, на котором подыгрывал свой песенный лад и который у славян Западной Европы употребляется и теперь с именем момры; это была домра, струнный инструмент, на котором играли пальцами, как на гитаре. Очень вероятно, что это – имя мандоры, образовавшееся от перестановки звуков, к которой так расположен русский язык, особенно в отношении слов иностранных; как, например, из другого слова – маскара – образовалось наше «скоморох» или «скомрах».
После домрачея Путяты, когда государь в 1626 г. женился, на свадьбе его тешили домрачеи Андрюшка Федоров да Васька Степанов. Затем в Потешной палате являются уже домрачеи слепые. Так было необходимо, если эти потешники должны были увеселять и молодую царицу не только в Потешной палате, но, как вероятно, и в ее хоромах. Что действительно они главным образом воспевали свои песни на царицыной половине, на это указывают награды им от лица государыни и довольно частая выдача им из царицыной казны денег на домерные струны. Государь неоднократно жаловал их платьем.
Такими же певцами народных песен были гусельники. Но неизвестно, находились ли они при дворце постоянно, подобно домрачеям, или только призывались временно
К числу веселых принадлежали также и скрыпотчики, из которых Богдашка Окатьев, Ивашка Иванов, Онашка да немчин новокрещеный Арманка тешили государя на свадьбе в 1626 г.; но в последующее время сведений о них не встречается, и нам неизвестно, состояли ли при Потешной палате музыканты этого рода.
Иногда в Потешной палате появлялись и другие потешники, о которых неизвестно, чем они забавляли государя. Так, в 1638 г. на Святках был взят с Тулы крестьянин Иевка Григорьев, которому 30 декабря сделан суконный лазоревый кафтан.

Музыка и пение сладкое из «Букваря» Кариона Истомина
Музыка, конечно, была одной из первых статей государевой домашней комнатной потехи, особенно на женской половине, увеселения которой ограничивались по преимуществу только домашними утехами. Заморские органы, как и всякие другие русские статьи старинных дворцовых увеселений, были, по всей вероятности, и в то время помещены в одной из дворцовых палат, которая по этой причине и должна была называться Потешной палатой. В год вступления на царство Михаила, в 1613 г., 10 ноября, устроены были также и потешные хоромы; тогда в них было отпущено к четырем дверям да к семи окнам на обивку красное сукно. В первой половине XVII ст. Потешная палата занимала несколько отдельных комнат в старом здании дворца, где находилась и Царицына Золотая палата и над которым потом выстроены были каменные покои Теремного дворца, после чего она именовалась иногда Потешным подклетом, ибо находилась уже в подклетном этаже терема. В этом помещении и сосредоточены были тогда почти все дворцовые комнатные забавы, начиная с органов и оканчивая бахарями, домрачеями, карлами и попугаями. Здесь хранилась и всякая потешная утварь и рухлядь, т. е. платье, разные вещи и разные музыкальные и другие потешные «стременты». При палате находились особые сторожа, носившие название потешных сторожей и получавшие соответственное своей службе жалованье. Она представляла в некотором отношении как бы особое ведомство, к которому принадлежали все потешники и все лица, имевшие во дворце потешное значение. Главное заведование Потешной палатой принадлежало царскому постельничему, а впоследствии перешло в Приказ Тайных дел, так что в палате и в этом Приказе находились одни и те же сторожа, 4 человека.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.