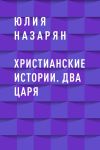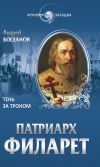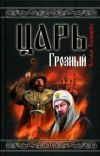Текст книги "Аз есмь царь. История самозванства в России"

Автор книги: Клаудио Ингерфлом
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
ПЕРЕЛОМ
После русско-турецких войн (1768–1774, 1787–1791) и реформ, проведенных вслед за подавлением Пугачевского бунта, положение казаков кардинально изменилось. Татар и прочие национальные меньшинства вынудили окончательно признать власть Санкт-Петербурга. Крым, Причерноморье и Приазовье влились в состав империи. После такого расширения границ военное значение казачьих поселений на окраинах Российской империи сильно уменьшилось. В свою очередь, Пугачевский бунт наглядно продемонстрировал, что царский режим больше не мог мириться со своеволием казачьих войск и самоуправляемостью их областей. В 1775 году была расформирована Запорожская Сечь. Днепровское казачье войско влилось в состав русской регулярной армии. Назначение атаманов войска Донского отныне подлежало утверждению столичными властями. Яицкие, нижневолжские, азовские и другие казаки поступили в ведение князя Потемкина и лишились права иметь артиллерию, а их атаманы должны были теперь назначаться центральной властью. В районе, который был эпицентром восстания, разместили правительственные войска. С ликвидацией местного самоуправления исчезли структуры, делавшие возможным участие казаков в восстании. Таким образом, будущие мятежи против императорского режима и крепостного права были изначально лишены той военной составляющей, которая могла придать им достаточный масштаб, чтобы представлять для власти серьезную угрозу. До революции 1905 года Россия ни разу не была охвачена массовым восстанием.
Глава XIV. ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДНИКА ПРЕСТОЛА
Известный историк Я. Л. Барсков после революции рассказывал, «как Александр III однажды, заперев дверь и оглядев комнату – не подслушивает ли кто, попросил сообщить всю правду: чей сын был Павел I?
– Не могу скрыть, Ваше величество, – ответил Барсков. – Не исключено, что от чухонских крестьян, но скорее всего прапрадедом Вашего величества был граф Салтыков.
– Слава тебе, господи, – воскликнул Александр III, перекрестившись, – значит, во мне есть хоть немного русской крови».
Н. Я. Эйдельман. Герцен против самодержавия
СТРАДАНИЯ НАСЛЕДНИКА
Предметом необычного разговора императора с историком, состоявшегося в последней трети XIX века, стало происхождение Павла I, чьими родителями по официальной версии были Екатерина II и Петр III. Чистота русской крови императорской семьи остается темой, которая периодически всплывает в российской истории, до сих пор продолжая будоражить умы. По самым оптимистичным оценкам, в жилах последнего русского императора текла всего лишь ¹⁄₃₂ русской крови. Барсков, таким образом, просто успокаивал царя, слишком увлекшегося модными тогда шовинистическими и антисемитскими настроениями и тревожившегося по поводу своей недостаточной русскости. Однако, внимательно изучив бумаги императрицы, Барсков пришел к выводу, что отцом Павла, по всей видимости, был Петр III (немец, как и его жена Екатерина II). Сцена, имевшая место спустя столетие после рождения Павла, свидетельствует о живучести слухов, сопровождавших его всю жизнь. Действительно ли он сын Екатерины – или царица, произведя на свет мертвого ребенка, подменила его чухонским младенцем, а родных мальчика и всех жителей его деревни приказала вывезти на новое место, а саму деревню сжечь? И кто его отец? Петр III? Граф Салтыков? Многочисленные романы императрицы только способствовали росту слухов. «Указ о престолонаследии» Петра I давал Екатерине карт-бланш в вопросе выбора наследника, а их с сыном взаимная нелюбовь ни для кого не оставалась секретом. Сомнения Павла относительно собственного происхождения не укрепляли его уверенности в будущем. Вдобавок ходили слухи о спасении Петра III, по официальной версии умершего естественной смертью, слухи столь упорные, что Павел, едва взойдя на престол, первым делом спросил у графа Гудовича: «Жив ли мой отец?»
НЕСКОНЧАЕМАЯ ВЕРЕНИЦА ЛЖЕЦАРЕЙ
Чуть ли не в каждом уголке империи периодически всплывали все новые самозванцы. Некий Петр Бутов, плотник из деревни под Смоленском, настолько походил на Павла, что его вызвали на допрос в полицию. Тот факт, что плотника всерьез расспрашивали о родственных связях с императором, свидетельствует о доверии, которым пользовались все эти байки и слухи относительно Екатерины II и ее семьи. Бутов сумел заработать на сходстве с императором. На вопросы полицейских он отвечал уклончиво: отец-де перед смертью признался, что усыновил его после того, как некий богатый дворянин из Санкт-Петербурга принес ему новорожденного ребенка и передал большую сумму денег на его воспитание. Бутов прибавил, что направляется в Петербург, чтобы узнать тайну своего происхождения. Тогда глава смоленской полиции налил ему водки, одарил десятью рублями и, пожелав удачи, попросил не забывать его доброту, если он чего-нибудь добьется в Петербурге. Но еще больше денег ему удалось выудить из местных офицеров, устроивших в 1798 году очередной заговор против Павла: по их указанию Бутов, появляясь в уездных городах, принародно паясничал и кривлялся, выставляя императора в карикатурном виде. Исследуя дело другого самозванца, крестьянина Осипа Шурыгина, выдававшего себя за сына Екатерины II, историк К. В. Сивков задается вопросом о причинах отсутствия в деле материалов следствия: были ли они банально утеряны или протоколы следствия не велись из страха возможного скандала? Как бы там ни было, Шурыгина заключили в монастырь. В 1768 году сын генерала адъютант Опочинин, восемнадцати лет от роду, объявил себя сыном Елизаветы Петровны от английского короля. Опочинина также обвиняли в организации заговора против Екатерины II в пользу ее сына Павла. Приняв во внимание возраст обвиняемого, чин его отца и то обстоятельство, что «тайну» его происхождения ему открыл знакомый дворянин, к нему проявили снисхождение, всего лишь сослав на каторгу. В 1782 году Николай Шляпников, в пятый раз дезертировав из армии, в сопровождении некоей Трофимовой и ее сына объявился на Дону, назвавшись «царевичем Павлом». Крестьянка, сообщившая местному атаману о появлении в их краях царевича Павла, связала его с рассказами о царе, который ходил по России и строил корабли, хотя эти слухи явным образом отсылали к Петру I. На поимку лже-Павла были посланы казаки, но они его отпустили, когда Трофимова поведала им, что он не «простой солдат». В конце концов он был схвачен, его приговорили к наказанию кнутом и пожизненным каторжным работам, однако уже в 1802 году он вышел на свободу. Григорий Зайцев, восемнадцатилетний юноша, сын пономаря, в 1783 году заявил на допросе, что за Павла I он выдавал себя в шутку и с пьяных глаз и по этой же причине обещал крестьянам снизить налоги. Он был осужден на два года тюрьмы, но в 1788 году у него нашли фальшивые документы и письмо царевичу Павлу, где утверждалось, что он князь Юраховский. Зайцев был заключен в Шлиссельбургскую крепость, в которой провел тринадцать лет, после чего был сослан на Соловки. Ему удалось бежать, но он был пойман. Тогда он решил постричься в монахи и окончил свои дни в монастырской тюрьме. В 1815 году солдат Н. Тарасов-Степанов, демобилизовавшись, начал выдавать себя за «сына Екатерины II, посланного царской вдовой Марией Федоровной» в Нижегородский уезд сообщить о переходе крепостных крестьян от частных владельцев в государственные (одно из вечных требований крестьянства). В 1816 году Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии было занято розыском автора письма, посланного из Новгорода на имя шефа жандармов. Автор представлялся Федором, сыном Екатерины II. В 1821 году, через двадцать лет после убийства Павла, один бродяга по имени Афанасий Петрович зарабатывал себе на хлеб тем, что назывался Павлом Петровичем. Через несколько лет был зафиксирован другой случай, когда солдаты, караулившие декабриста Г. С. Батенькова в Шлиссельбургской крепости, полюбопытствовали, уж не Павел ли он Первый, поскольку-де «в народе есть слух, что здесь Павел Петрович сидит». Шестидесятисемилетний Николай Прокопьев, один из лже-Константинов, в 1835 году в Красноярске рассказывал, что его сопровождает незримый «Павел». Прокопьев, бывший солдат, в 1813 году бежавший из своего полка, расквартированного в Дрездене, до 1825 года скрывался в Польше. Впоследствии он вернулся в Рязань, но был арестован за бродяжничество. Местный люд слушал его с благоговением. Так, когда он рассказал крестьянке Пелагее Журавлевой, что в их краях объявился Павел I и что ему не во что одеться, та не колеблясь отдала «императору» одежду мужа. Мужики снабдили его лошадьми, чтобы он мог уйти от полиции.
ПАВЕЛ I И ЕСТЬ ПУГАЧЕВ?
Десятки Петров III и Павлов I, наводнивших Россию, точно эхо ретранслировали на всю территорию империи слухи и обстановку дворца. Всюду, где бы ни стояли полки Пугачева, мятежники заставляли местное население приносить клятву Павлу I и его супруге. Павел знал об этом: его приближенный Петр Панин командовал подавлением восстания.
Вопреки традиционному противопоставлению архаически-народного самозванчества Екатерине II и ее элитам, почитавшим себя просвещенными европейцами, мы можем констатировать складывание некоего общего пространства, где наследник трона и бунтующие казаки с крестьянами равно сомневались в подлинности монарха. Это общее пространство – не мое измышление; его существование удостоверено самими участниками процесса. Изобличая в Павле I подлинную или мнимую тягу к самозванчеству, генерал Л. Беннигсен выражал настроения, царившие в придворных кругах. По его словам, Павел, опасаясь, что при живой матери он может повторить судьбу отца, строил планы бегства из столицы, для чего его доверенные лица на месте изучали пути отхода. Конечной точкой маршрута, который он себе наметил, был Урал, те казачьи области, откуда происходил Пугачев – Петр III. «Павел очень рассчитывал на добрый прием и преданность этих казаков». В разговоре с племянником Беннигсен возвращается к планам Павла: «Он намеревался выдать себя за Петра III, а себя объявить умершим». Детали этой авантюры неизвестны – быть может, у Павла ничего подобного и в мыслях не было; но если это с начала и до конца лишь выдумка генерала, сам факт ее появления весьма красноречив. По всей видимости, Беннигсен лишь вторил чужим словам, поскольку сам он поступил на русскую службу лишь в 1773 году. Среди бумаг Петра Панина сохранились несколько документов, посвященных еще одному лже-Павлу, якобы действовавшему в Праге и Греции.
Уже став императором, Павел внушал такой страх большинству дворян и вельмож, что многие из них любыми способами старались избежать встречи с ним на улицах Петербурга. Эта неприязнь дворян к императору, его разлад с матерью, равно как и попытка реабилитации Петра III после смерти Екатерины, вызывали странные ассоциации у народа, отождествлявшего императора с Пугачевым, который в свое время пекся о защите имени «своего сына» Павла. Дворянин П. И. Полетика писал: «Это было в 1799 или 1800 году. Я завидел вдали едущего мне навстречу верхом императора <…> Таковая встреча была тогда для всех предметом страха. <…> Я успел заблаговременно укрыться за деревянным обветшалым забором, который, как и теперь, окружал Исаакиевскую церковь. Когда, смотря в щель забора, я увидел проезжающего государя, то стоявший неподалеку от меня инвалид, один из сторожей за материалами, сказал: „Вот-ста наш Пугачев едет!“ Я, обратясь к нему, спросил: „Как ты смеешь так отзываться о своем государе?“ Он, поглядев на меня, без всякого смущения отвечал: „А что, барин, ты, видно, и сам так думаешь, ибо прячешься от него“. Отвечать было нечего…» Новый штрих, характерный для конца XVIII века: народ не только называл самозванца именем царя, но и самого императора нарекал именем самозванца. Со времен Ивана Грозного было известно, что царь и ряженый могут меняться местами, и Петр I властно об этом напомнил. Не стали ли на заре XIX века царь и самозванец взаимозаменяемыми?
Глава XV. САМОДЕРЖЕЦ = САМОЗВАНЕЦ
Когда мы заглядываем
Прямо в ясные бездонные глаза смерти,
Мы говорим правду:
Чудовищные, страшные, нежные слова.
Мы читаем стихи,
Наполняющие воздухом легкие тех,
Кто, задыхаясь,
Требует дать им жить, требует ритма,
Требует подчинить закону чувства,
Кажущиеся избыточными.
Габриэль Селая. Поэзия – оружие, заряженное будущим
А ИМПЕРАТОР-ТО ГОЛЫЙ!
26 июля 1831 года А. С. Пушкин записал у себя в дневнике: «Вчера государь император отправился в военные поселения (в Новгородской губернии) для усмирения возникших там беспокойств <…>. Кажется, все усмирено, а если нет еще, то все усмирится присутствием государя. Однако же сие решительное средство, как последнее, не должно быть всуе употребляемо. Народ не должен привыкать к царскому лицу, как обыкновенному явлению <…>. Чернь перестает скоро бояться таинственной власти и начинает тщеславиться своими сношениями с государем. Скоро в своих мятежах она будет требовать появления его как необходимого обряда. Доныне государь, обладающий даром слова, говорил один; но может найтиться в толпе голос для возражения».
Историк Н. Я. Эйдельман сопроводил пушкинский текст свидетельством полковника Николая Панаева, который, сумев остановить волнения, описанные выше, должен был принять лично прибывшего на место императора. «Я встретил его величество <…> и подал рапорт о состоянии округа. Государь принял от меня рапорт, потом вышел из коляски, поцеловал меня и изволил сказать: „Спасибо, старый сослуживец, что ты здесь не потерял разума, я этого никогда не забуду“. Потом, увидев стоящих на коленях поселян с хлебом и солью, сказал им: „Не беру вашего хлеба, идите и молитесь Богу“. Потом государь начал говорить поселянам, чтоб выдали виновных, но поселяне молчали. Я в то время, стоя в рядах поселян, услышал, что сзади меня какой-то поселянин говорил своим товарищам: „А что, братцы? Полно, это государь ли? Не из них ли переряженец?“ Услышав это, я обмер от страха, и, кажется, государь прочел на лице моем смущение, ибо после того не настаивал о выдаче виновных и спросил их: „Раскаиваетесь ли вы?“… И когда они начали кричать «раскаиваемся!», то государь отломил кусок кренделя и изволил скушать, сказав: „Ну вот я ем ваш хлеб и соль; конечно, я могу вас простить, но как Бог вас простит?“»
Бог, конечно, не простил, и в следующие несколько минут под ударами шпицрутенов сто двадцать девять крестьян, пропущенных сквозь строй, расстались с жизнью; несколько тысяч их товарищей были отправлены в далекую сибирскую ссылку. Мы должны быть благодарны полковнику Панаеву за то, что он запечатлел народные представления о монархе во всей их полноте, изобразив момент, когда Николай, выйдя из образа справедливого царя, тотчас же слышит у себя за спиной слова, что он-де ненастоящий государь; слышит от бунтовавших крестьян, которые стоят на коленях и которые знают, что их ждет лютая смерть: усмирение Александром I крестьянского мятежа 1819 года против военных поселений закончилось для двух сотен крестьян и солдат двенадцатью тысячами ударов шпицрутенами каждому (двенадцать раз сквозь строй из тысячи человек!); двадцать пять из них умерли сразу, остальные промучились еще несколько дней. Расправлявшийся с восставшими чугуевскими крестьянами Аракчеев предполагал такую публичную казнь для сорока зачинщиков, ожидая раскаяния остальных, но раскаяния не последовало, ненависть к поселениям и поселенцам была огромной. Были казнены все осужденные.
Обвиняя дворянина в том, что он перерядился в царя, крестьянин выражал не столько подозрение, сколько исконную народную правду. Человек, представший перед ними, не мог не быть самозванцем. Устами солдата-поселенца, распростершегося ниц перед государем, говорит коллективная память, формировавшаяся три столетия, в течение которых самодержцы силились сделать непостижимыми критерии своей легитимности, стереть границу между истинным и ложным. В рассказе Панаева объектом обвинений выступает конкретный царь, представший перед народом и низведенный им до материальной ипостаси, лишенной харизмы. Между словами мужиков о дворянине, перерядившемся в царя, и политическими установками, которые веками насаждал двор, есть явная связь. Вопреки историографической традиции, продолжающей твердить о наивности народа, отказывающегося признавать настоящими своих государей, новгородский мужик, о котором мы ведем речь, продемонстрировал отменное знание политической культуры родной страны.

НАРОД ОТКРЫВАЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ТЕЛО ЦАРЯ
Николай I в частных разговорах признавал: «Я, конечно, самодержавный и самовластный». Между тем слово «самовластие» и его производные («самовластец», «самовластвовать» и др.) с XVII–XVIII веков постепенно проникло в народный язык, обозначая царя, не способного обеспечить «справедливый» порядок на земле. Конечно, оно равным образом может значить «действовать по своему почину», но народ, присвоив это слово себе, придавал ему смысл действия, совершенного без согласия верховной власти. И хотя царь считал самовластие своей привилегией, логика социальной борьбы изменила знак плюс на минус, превратив его в повод для обвинений. Крен в эту сторону произошел в XVIII веке, когда слово утвердилось в повседневном языке. На фоне амбиций Николая I «самовластие» стало синонимом «деспотизма». Оно вошло в лексикон народа, служа символом всей существующей системы. «Варварское на все российское простонародие самовластное и тяжкое притеснение», записал у себя в дневнике 8 февраля 1826 года один московский дворовый человек, тщательно фиксировавший все «городские слухи и новости». С улиц и площадей разговоры о самовластии переместились на бумагу: это выражение стало одним из «слов-сигналов» интеллигенции, только что ворвавшейся на историческую сцену. Оно проникнет в тайные кружки, станет олицетворением надежд молодежи, найдет себе место в гениальных стихах Пушкина и отчетливо запечатлеется в памяти страны, ассоциируясь с гражданским пафосом Кондратия Рылеева, поэта и революционера, повешенного по приказу царя, и с идеями Чаадаева, который незадолго до того потряс сознание нации, объявив, что Россия существует вне истории.
Осваивая новое слово, народ чуть иначе расставлял акценты, но эта едва ощутимая смена смысла была чревата последствиями. Ярлык «самозванца», который власти навешивали на бунтовщиков, народ обратил против самого императора, одновременно с этим превратив слово «самовластный» в обвинение против самодержца. Сразу бросается в глаза, что у всех трех слов есть общий корень – «сам». Они выступают синонимами, когда народ обвиняет самодержца в присваивании власти по собственной прихоти, то есть в самозванстве. Впрочем, обвинять монарха в самовластии, то есть осуществлении власти, не делегированной и не санкционированной Богом, не всегда означает подозревать его в самозванчестве. Хотя концепция самовластия и остается связанной с самозванством, она все же свидетельствует о начале поворота народной мысли от оспаривания подлинности физического тела царя к сомнениям в справедливости его власти. Монарх определял свою власть через понятие, сохраняющее религиозное звучание, а крестьянин отвечал ему, что та власть, которую он осуществлял, была несообразна с властью, вверяемой правителю Богом, так как она обслуживала интересы господ. Одно историческое время сосуществовало и сталкивалось с другим. В представлении Райнхарта Козеллека история разворачивается не в одном, а в нескольких временных плоскостях – параллельно. Реплика крестьянина не исключала религиозного аспекта, но она относилась уже к современному политическому дискурсу, который начал утверждаться в России. Подобное сосуществование архаики и модерности наблюдалось в русской истории во второй раз. В XVII веке разинцы сделали физическое тело царя недоступным, чтобы взамен создать образ монарха, который действительно представлял бы народ. Но в XIX веке противоречие уже бросалось в глаза: царя обвиняют в мистификации, потому что его политика не совпадала с волей, приписываемой Богу, источнику всякой власти, – божественной волей, которая в глазах крестьянства и части просвещенной публики должна была совпадать с лозунгом «земля и воля». Отношение к самовластию становилось все хуже и хуже, пока не приобрело настолько отрицательные коннотации, что даже Лев Тихомиров, ревностный сторонник царизма, накануне революции 1905 года попытался разделить самовластие и самодержавие, объявив, что первое относит к деспотической форме монархии, тогда как самодержавная монархия в то же время является и демократической. В конце века социал-демократы писали, что «российское самодержавие есть не что иное, как самовластие ее бюрократии». О «царском самовластии» как о символе деспотизма говорили и революционеры в 1917 году.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.