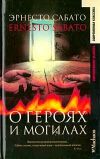Текст книги "Ваша жизнь больше не прекрасна"

Автор книги: Николай Крыщук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
Тут не просто правила игры, которые худо-бедно можно схватить на лету, думал я, а нечто, что, должно быть, преобразило среду и заменило древние инстинкты какими-то новыми биологическими импульсами.
Предположение было бредовое. Ничто не может отменить потребность человека, например, в воде и пище. Инстинкт продолжения рода сильнее и, если так можно сказать, основательнее, чем жажда индивидуального бессмертия. Мимика радости и гнева универсальна, поскольку досталась нам от животных, у которых нет национальности и социальных условностей.
Однако причины, вызывающие их, могут быть разные, иногда и противоположные. Может быть, здесь царствовала другая система знаков, неуловимая для меня? Тогда я видел не то, что мне показывали, и слышал не то, что говорили. В подтексте был не обман, а неназываемая правда. Та самая секретность без секретности. Что искренне? Кто умен? Даже в этом надо было делать скидку на какую-то непредставимую величину погрешности.
Не помню, где читал: у хорватов слово «ошибки» звучит как «грешки». «Ваши грешки», говорят они человеку, который ошибся номером. Ошибка – явление объективное, или, во всяком случае, она одной природы с поиском, а грешок – это уже твоя вина.
Я сплошь и рядом ошибался. Мой грешок, моя вина.
ТЕТРАДЬ ВОСЬМАЯ
Пиндоровский
В поисках штангенциркуля
Пиндоровского я сначала услышал, а потом увидел, так получилось. В его голосе слышалась сиплость граммофона, хотя задуман он был, я думаю, рокотом необузданной стихии. Должно быть, родители плохо договорились, и природа пыталась угодить сразу обоим заказчикам.
– Фто фнацит дафно? Фвать, фвать!
В кресле, напоминающем скорлупу, рвущийся вон из себя и из этого утлого суденышка, как шторм в камнях, с плещущими губами передо мной предстал Пиндоровский. «Перекормленный младенец», – первое, что пришло в голову при взгляде на него.
Фары его светлых, уводящих в безгрешную голубизну глаз, будили мысль о безумии. Затратность этого свечения, при соседстве сильных ламп, казалась досадным промахом природы. Он весело потел и, несмотря на то что пять китайских вентиляторов разгоняли вокруг него воздух, то и дело окунал лицо в махровое полотенце.
– Канштантин Иваныш. Шадитиш, шадитиш. Шдал, – заговорил он, даже не обозначив попытки привстать мне навстречу. При его умении штормить, не сходя с места, невозможность этого жеста была очевидна и вызвала во мне понятное сочувствие.
Едва протиснувшись между двумя шкафами и тумбочкой, я сел напротив хозяина, приняв поневоле стесненную и просительную позу.
– Тесновато у вас здесь. Как в скворечнике, – сказал я, вставив не без умысла последнее слово.
– Шварешня, шварешня, – отчего-то обрадовался Пиндоровский. – Кто упрекнет шиновника в рошкоши? Офтафьте наф, – бросил он толпившимся в этой клетушке сослуживцам, среди которых была Катя, вероятно, и сообщившая шефу о моем приближении.
Догадка моя оказалась верной. Пиндоровский фонетически доступными ему средствами окрашивал речь в зависимости от предмета, к которому ее обращал. Подчиненные, не особенно вдумываясь в смысл, получали достаточную информацию от негодующего «ф». Демонстративную приязнь ко мне подчеркивало мягкое «ш». Прав был Станиславский: дефекты речи не в языке, а в воображении, но и он не мечтал о столь прилежной иллюстрации.
Поделившись с вами этим открытием, я буду акцентировать на нем внимание только при крайней необходимости. Добавлю, что Пиндоровскому была, к тому же, свойственна тахилалия, то есть чрезвычайно ускоренный темп речи. Однако лишь злостный враг мог сказать, что он «страдал тахилалией», любой непредвзятый человек заметит, что у него была такая особенность.
Некоторые подробности биографии Пиндоровского мне уже удалось узнать от женщины с белыми эротическими ушками. Все они были приблизительны и гиперболичны, как будто речь шла о герое дописьменной эпохи, и мало что добавляли к облику этого крупного человека. Дама говорила, например, что он успел побывать переводчиком Брежнева и прокололся на доскональном знании обстоятельств его юности, которые некстати использовал в каком-то оживленном разговоре. Во всех рассказах упоминалась причастность Пиндоровского к октябрьским событиям 93-го года. Он поддерживал якобы связь с обоими враждующими лагерями, тайно руководил действиями Руцкого и одновременно подсказывал артиллеристам, в какие окна они должны целить.
Несомненно, к апокрифическим преувеличениям надо отнести сведения о том, что Иван Трофимович был шестым членом экипажа в путешествии Тура Хейердала на Кон-Тики, о котором тот по каким-то соображениям ни слова не сказал в своей знаменитой книге. Тут вступали в противоречие даже и даты: экспедиция состоялась в 1947 году, а Пиндоровскому к моменту нашего знакомства едва ли было больше пятидесяти. Сторонники этой версии, правда, утверждали, что не овечка Долли, а Иван Пиндоровский был первым клоном и что на секретную процедуру были выделены деньги из Стабфонда в связи с уникальными заслугами этого человека перед государством. Таким образом, все мы имеем счастье общаться с Пиндоровским-2, в то время как Пиндоровский-1 проживает в окрестностях Барвихи на закрытой даче и продолжает советами приносить пользу отдыхающим там президентам. Из всего этого мне кажется очевидным лишь то, что какой-то этап карьеры хозяина кабинета связан с морем, и мое первое морское впечатление от него не было случайным.
Я обратил внимание на то, что, на какие бы фронты ни забрасывала судьба Пиндоровского, в его спутниках и друзьях всегда оказывались примечательные и знаменитые личности. Среди его близких знакомых был кавалер ордена «За заслуги перед Алтайским краем» Михаил Тимофеевич Калашников, мастер разговорного жанра, занимавший при этом нефтяные, государственные и дипломатические посты, актер сентиментально-уголовного амплуа с домашней кличкой Гоша и Карина Васильева, знаменитая тем, что родилась в Чукотском море во время печально известной эпопеи челюскинцев на северной широте 75 градусов и долготе 91 градус. Как и Тур Хейердал, они обходили имя Пиндоровского в своих мемуарах, учитывая всегда особый род деятельности последнего. Соответственно оценить масштабы подвижничества Ивана Трофимовича и его клона суждено лишь далеким потомкам.
И вот этот человек сидел сейчас передо мной.
– Легко нашли? – спросил он.
– В общем, да. Хотя и повертело, как в японском колесе.
– Фукуока? – Понимающая усмешка. – Приходилось бывать?
– Читал. – Я подумал, что совершил в жизни тысячу путешествий, и все в воображении. Зато есть, о чем рассказать.
– А мне – так довелось. Система лифтов у нас, кстати, именно японская, – похвастался Пиндоровский. – Коммутацию мы потом, правда, переделали. Стало немного сложнее. Иногда на соседний этаж отправляешься, как в круиз. Но зато теперь ни один японский черт нас не достанет.
Из уважения ко мне Пиндоровский произнес «шёрт».
– У вас большое хозяйство, Иван Трофимович.
– У-у-у, не меньше Австралии. Включая острова Большого барьерного рифа, – он довольно рассмеялся.
Пиндоровский говорил экстазно, с придыханием, набирая воздух посредине фразы.
– Я только не совсем…
– Не совсем врубились? Во что? – Хозяин, видно, привык обгонять собеседника, лидерствовать, хороводить, и я подумал, что у него должно быть много детей. Или много любовниц.
– Футурология и плебисцит. А при этом, газеты… Я успел познакомиться с вашим журналистом, он над фельетоном про Антипова работает…
Пиндоровский взглянул на меня остро, чего я никак не ожидал этого от большого младенца. Вероятно, я, упомянув раньше времени Антипова, нарушил регламент.
– Гримдинова уволю, – весело сказал Пиндоровский. – Журналист не должен слишком много размышлять. Кто тогда будет поспевать за веяниями? Его мне вдумчивость… Все усугубляет. Константин Иванович, – Пиндоровский вдруг перешел на визгливый крик, – он до сих пор «дилер» пишет через два «л». Повеситься мне на крюке! Вы считаете, дело в новом слове? Ничуть. До этого он через два «л» писал «милиционер». Гримдинов пока думает, рука сама вторую букву выводит.
Пиндоровский увлекся, по лицу было видно, что он готов пуститься в длинное отступление и рассказать все, что сперлось в его душе, томило в неволе субординаций и от чего он мог облегчиться только в непринужденном разговоре с равным по званию.
– Футурология и плебисцит, – снова сказал я, – а при этом газеты, Модный дом и, наверное, много чего еще…
– Ну-у, это просто. Все объясню. Уложусь строк в двести, – он снова засмеялся. – Я ведь ваш давний поклонник. Давнишний, давнишний! Полное собрание «Ностальгий». Еще с этого… Дай бог памяти… Ну, «обиды нашего детства». Так, кажется? Замечательно! Без лести скажу, иногда впадал буквально в каталептический сон, возвращаться не хотелось. Вы гипнозом не занимались?
– Не пробовал.
– Я в этом немного разбираюсь. У вас большой дар.
Я никогда не спешил записывать своих поклонников в друзья, а от Пиндоровского ждал и вовсе другого – предложения жертвы, например. Но Иван Трофимович был, видимо, не так прост.
– Сейчас, сейчас… – Пиндоровский шарил по столу руками, производя лицом нервные гримасы. – Кто просил? – капризно вскрикнул он (разумеется, «фто»). – Все бумаги опять перепутаны. Я – бумажный человек, – он посмотрел на меня извиняющимся взглядом, в котором была, однако, гордость убежденного консерватора. – Вы видели когда-нибудь черновики Пушкина? У него «чудное мгновенье» написано с нажимом. С нажимом. Почерк выдал волненье. Компьютеру чудные мгновенья недоступны. Я бы и пишущие машинки отменил. Только перо. Но прогресс, прогресс… Сколько раз объяснял им, что это не хаос, а особый порядок. Вот, черт! («фёрт»). И штангенциркуль снова пропал. Я пользуюсь им, как пресс-папье. Пусть, пусть это моя слабость, но зачем перекладывать?
В его голосе появилась детская свирепая обида, что действовало сильнее начальственного гнева. Мне тут же захотелось присоединиться к поискам.
Перехватив мой беспокойный взгляд, Пиндоровский счел нужным объяснить свою странную, на первый взгляд, симпатию к штангенциркулю. Между друзьями не должно оставаться тайн, а натура у него была крайняя, и середины в отношениях он не понимал.
– У меня был старший брат. Человек сверхгениальных способностей. По профессии слесарь-инструментальщик. Но по духу – поэт и философ. Всю жизнь работал над трактатом о коэффициенте гениальности. «Под звездами» называется. Я вам его обязательно потом подарю. Весь, от первой до последней строки, написан амфибрахием. Гениально! Он думал амфибрахием, представляете? От этого немного заикался. Пока мысль станет в строку… Да что! Ему сны снились! Сегодня, например, двустопный амфибрахий: «Союз нерушимый Сплотился однажды…» Завтра трехстопный: «Союз нерушимый навеки Сплотила великая Русь». Четырехстопный: «Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки великая Русь».
Я поймал себя на том, что с интересом слежу за этими филологическими флик-фляками старшего брата Пиндоровского.
– Неужели и пятистопный? – вырвалось у меня.
– Союз нерушимый республик навеки свободных Сплотить попыталась однажды великая Русь», – победно процитировал Иван Трофимович.
Я был потрясен, что отразилось довольной улыбкой на лице младшего Пиндоровского. Особое волнение вызвало во мне то, что, по мере наращивания размера, попытки Руси становились все более гипотетичными. Однако, подумал я, и до предложения жертвы уже рукой подать.
– А что же штангенциркуль? – спросил я, разминая взятую со стола и уже вспотевшую в моих руках фарфоровую таксу.
– Он с ним не расставался, – слегка поврежденным от подступивших слез голосом сказал Пиндоровский. – Как другие помечают рост ребенка на косяке двери, так Влад измерял мне этим штангенциркулем, иногда и по нескольку раз в месяц, уши и нос. И записывал себе в записную книжку. Системный ум. Нос и уши растут в течение всей жизни, это вы знаете. Они многое определяют. Например, мочки. На Востоке считалось, что большие мочки принадлежат только мудрецам. Или вот, если уши выше уровня бровей – интеллект высокий, а если ниже глаз, то может быть и идиот.
Я невольно взглянул на уши Пиндоровского. Они парили высоко, как два относимых ветром буревестника. Глаза при этом показывали бриз.
– Очень меня любил. И я его очень. Вот, единственная память. Зачем же перекладывать?
Ярость и обида снова пустили губы Пиндоровского блуждающими волнами, так что спрашивать об обстоятельствах кончины старшего брата я счел неблагоразумным.
– Наконец! Хоть это. – Пиндоровский держал в руках скрепленные листочки. – Это наш сжатый очерк о своего рода конфирмации. Потом почитаете. – Листки были отброшены на край стола, обещая в другой раз затеряться еще прочнее, а руки Пиндоровского продолжали плясать по бумагам, будто гнались за разбегающимися насекомыми. – Штангенциркуль им понадобился.
– Скоро ли мы прочитаем биографию? – спросил я, пытаясь остановить поиск, который и меня уже вводил в состояния ностальгической нервности.
Вопрос оказался верным, тело хозяина сразу успокоилось и обмякло, будто попало в струю благоприятного воздуха.
– Ну-у, – хитро закачал головой Пиндоровский, что у заждавшихся новинки читателей вызывало, вероятно, приступ любовного пароксизма. Способность переключаться с предмета на предмет была в нем поразительная. Лицо его вдруг косо вытянулось и затрепетало гафельным, надо полагать, парусом. – Нашел отличный эпиграф. Из «Капитанской дочки». Вы понимаете?
Я, разумеется, ничего не понимал.
– Ну, фамилию капитана вам подсказывать не надо, – сказал он, продолжая заметно, но уже по-новому, с признаками творческой дрожи, колебаться. – Вот: «Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно». По-моему, великолепно. Александр Сергеевич всегда в горячем деле поможет (шутка!). И виждит, так сказать, и одновременно внемлет.
– Неужели дела так серьезны? – спросил я.
– И виждит, и слышит, и внемлет, – мечтательно повторил Пиндоровский. – А как? Дела всегда серьезны. Пока народ благоденствует, кто-то наверху должен не спать, Константин Иванович. Помните горящее в Кремле окно? «Окно, горящее не от одной зари». Но у нас это, заметьте, не президенты. Те, хоть и посменно, но спят. Спят, спят, – добавил он с некоторым, как мне показалось, злорадством, – бока обминают, сны десятые видят, старушечку какую-нибудь через молочные реки вброд переводят. А утром, на свежую голову, разыгрывают перед народом сиамских близнецов. Смотрят в разные стороны, но видят одно. «Вяк», говорит один, глядя влево. «Вяк-вяк», отвечает другой, посматривая направо. Вроде складно получилось, хлопают в ладоши, подбородочки задирают…
Иван Трофимович заметил вдруг, что увлекся, более того, бредит наяву при постороннем. По его лицу было понятно, что он нечетко помнит, что именно сейчас описывал, какую-то из сладостных своих грез, но вовремя очнулся. Улыбнулся мне осознанной улыбкой и так по-родственному, как будто нам вместе было только что одно виденье, свел брови, из которых получилась группа морских птиц в полете, и продолжил без сарказма:
– Но всегда есть дозорный, которому спать не положено. Он, может быть, и не в самом большом чине, капитан, например. Но без него эта тряхомудия по швам расползется. Тот носом недобрый ветер чует. Завидит точку на горизонте – отмашку дает. Услышит верное слово – подхватит, да так убедительно, что только в его устах оно и зацветет. Интуиции необыкновенной. Кормчие только рот откроют, а он уже озвучивает. И что им только ни приснится, тоже видит. Они еще сами, может быть, не разобрались, что к чему, а он уже обнародует. Те спят и видят, например, как бы изменить закон, но им перед международным зеркалом неудобно. Ан только включат радио, а наш капитан уже решительно заявляет: «Пора менять закон». Кое-кому это нелицеприятным кажется.
Пиндоровский передохнул, отер в очередной раз лицо махровой простыней.
– Ведь не только у пушкинского капитана фамилия Миронов, но и моего героя зовут Сергей Максимыч. Понимаете? Он в эпиграфе как бы сам себе команду дает. «А ты, Максимыч…» Такой человек! Когда он еще геологом был, всегда во время дождя ночью вызывался костер поддерживать. Факт. Сам мне рассказывал. С тех пор на посту.
О герое Пиндоровского мне было до этого известно не больше, чем остальным гражданам, являющимся одновременно телезрителями. Он каждый день выходил на публику с коконом седых волос, которым было памятно тепло фена. Конференции устраивались, вероятно, сразу после обеда, потому что у микрофона сенатор что-то дожевывал, помахивая зубочисткой, как аллегорической шпажкой, и сыр во фритюре вносил либеральную вязкость в его социал-демократические афоризмы. Я думаю, именно эта вязкость, одомашнивавшая речь, будто сенатор все еще стоял в шлепанцах и правил страной, не отходя от постели, а одновременно и кокон из-под фена прежде всего нравились Пиндоровскому, а потом уж он полюбил его за дежурства у костра. Именно во время таких послеобеденных речей он понял, что и ему не заказано совершенство.
Поэма об Антипове с тяжелыми осложнениями
– Иван Трофимович, а разъясните мне, будьте добры, – решил я в очередной раз переменить тему, – что этот ваш, как его… Гримдинов говорил, будто Антипов пытается отменить апокалипсис?
– Историю отменить нельзя, – снова посуровел Пиндоровский. – К тому же у Владимира Сергеевича и полномочий таких нет, чтобы отменять. А он человек умный. Умный. Симфония, а не мозг.
Я понял, что дал начало новой поэме.
– Мы ведь с ним друзья. Я, конечно, помладше, поэтому всегда по отчеству, всегда по отчеству. Хотя он не раз предлагал мне быть проще, говорил о дружбе Верлена и Рембо, те, мол, тоже вместе птиц слушали. Столько мы с ним по лесам-полям отшагали. Владимир Сергеевич заядлый филофонист, это вам, конечно, известно. И музыкант. Собственную науку создал – орнито-музыкология. В пении полевого жаворонка, иволги, не говорю уж о соловьях, знаете ли вы, есть очевидное сходство с народными песнями. Поразительно. Это он доказал. И все со своим магнитофончиком ходил. Щелкнет кнопочкой еще в доме, чтобы не спугнуть, сам ветерком пропрыгает по траве, заляжет и мне шепчет: «Тихо, Ваня. Импровизатор уже чувствует приближение Бога. Ты хорошо поел? Звуки не будешь подавать?» Ироник! Однажды записал около трехсот вариантов песни соловья. По мне-то они все поют одинаково, а он, нет никаких, говорит, почти повторов. Учись! Тут идет преображение полового инстинкта и воплощение идеи любви. Сперва пленканье, потом другое колено, дробь, вниз, ушел уже, ты за ним, сердце оборвалось, а он, глядишь, снова вверх потянул. Искусство. У талантливых певцов в песне бывает до сорока колен. У курских или киевских. Подмосковные уже не то, едва с десяток наберется. Соловей ведь не так просто импровизирует, он самке объявляет: я – есть! Сын благородных родителей, смел и надежен. А она сравнивает с известными ей музыкальными образцами. Если в песне нет ничего общего с той, что она слышала от родителей, то пусть он и виртуоз, а семью с ним не сладишь. Ну а коли, напротив, вовсе отсутствует изобретательность, один канон – скучно с ним будет. А вот если канон, да еще собственные коленца…
Поэма обещала быть долгой, Иван Трофимович умел влюбляться в людей и разговаривать на разные голоса. В его речи было хорошо еще то, что к ней легко было подключиться в любую минуту и всегда застать на самом интересном месте, но зато и отключиться можно без боязни пропустить главное.
– Я ему: мы, когда к даме подход ищем, тоже неплохо поем. А в жизни всегда одно получается. Трубадурам небось легче, чем мужьям. Ты не понимаешь, серьезно отвечает он, у них песня и дело – это одно. Разврат им неизвестен. У нас вместо личности имидж, будь он проклят (так и сказал, всегда был немного контрик), а им обманывать нет смысла. Песня все выдаст. Много, упорно поет, значит, и с мужской силой все в порядке. И соловьихе обманываться – себе во вред. Если заслушается вдруг песней варакушки или болотной камышовки, упустит время для высиживания птенцов.
Под орнитологические коленца Ивана Трофимовича я немного задремал. Во сне ко мне явилась Лера и, показывая на трясущееся лицо Пиндоровского, сказала: «До чего ты опустился». Я успел возмутиться, но одновременно чувствовал, что в чем-то она, как всегда, права и что при других обстоятельствах я этого восторженного докучника давно отправил бы к логопеду, единственной женщине, которая любит его искренне, то есть за недостатки.
А Иван Трофимович чувствовал себя сейчас соловьем и, вероятно, удивлялся, почему на его призывную песню в комнату до сих пор не вошел Антипов. Надежды на то, что трели Пиндоровского приведут к чему-нибудь дельному, оставалось все меньше.
– Владимир Сергеевич и всему народу привил любовь к животным. Животный и растительный мир стал нашим идеалом. Все принялись учиться непосредственности у обезьян, щегольству у жирафа, простодушию у птиц. Девушки отпускали волосы, как ивы, и отрабатывали весенний взгляд березы. Антипов над всем этим посмеивался и даже сердился, не то он имел в виду. Он предполагал усовершенствовать зрение, слух, ориентацию, пластику, а все опять свелось к имиджу. Выражения вроде «задумчивый пень», «небо жмурится» или «улыбка розы» выводили его из себя: «Пошлость, пошлость. И какая глупость, Господи! Пень не вспоминает о прожитых годах, ива не кокетничает, лошадь не радуется, а собака ничего не знает о смерти и поэтому не храбра». Но идея, пущенная в массы, всегда теряет часть своей оригинальности. Владимир Сергеевич не мог с этим смириться. Не был он политиком, нет, не был.
Я успел немного познакомиться с идеями Антипова, и тогда уже они показались мне излишне, что ли, поэтичными для ученого. Руссоизм в самой его наивной части, по которому природа представляет собой образец гармонии и порядка. Но из сказанного Пиндоровским я понял, во-первых, что идея Антипова заключалась в чем-то совсем другом, и, во-вторых, что массовый ум не только упростил ее и утилитарно использовал, но превратил в пародию.
– Странно предполагать, – сказал я, – что люди захотят вернуться в животное состояние. Что в этом хорошего? И неужели Антипов этого хотел?
– Несмотря на близость общения, я тоже, знаете, не за всякой мыслью поспевал. Академик считал, что в процессе эволюции человек больше потерял, чем приобрел, а при этом еще и неумеренно возгордился. Между тем, как он говорил, геном человека не отличается по размерам от генома мышки. А ходить на двух ногах, точить камни и передавать свое умение детям может и шимпанзе бонобо. Чего гордиться? Ну язык, конечно же язык, об этом все только и говорили. Только язык позволяет человеку соотнести понятие и знак. У животных есть сигналы, но нет синтаксиса. Предложения не построить. «Вы не правы, Ватсон, – отвечал Антипов в манере, которая многих обижала: складывал губы так, как будто ребенка из ложечки кормил. – Вы не правы, и синтаксис у них есть. У синиц, например, или у мартышек. Такие фигуры из “хак” и “пьяу” построят, не у всякого абитуриента мозгов хватит». Ну, те ему снова слово какое-нибудь иностранное подкидывают. А рекурсии, говорят, рекурсии-то уж точно нет. Тот в ответ посылал их к скворцам, которые в этой самой рекурсии якобы особенно хорошо разбираются. При этом любое животное и насекомое хоть в чем-то, но превосходит человека. И не то чтобы ему всего этого не дано было – свои способности он утратил или не развил, обменял, так сказать, на интеллект. Не слишком ли большая плата? Когда у оппонентов уже иссякали доводы, они ехидно спрашивали: «Ну, если все так, Владимир Сергеевич, как вы говорите, в чем, при вашем авторитете, сомневаться, конечно, неприлично, почему тогда, скажите на милость, шимпанзе до сих пор любовные романы не пишут?» Вот тут уж желающие могли увидеть его во всей силе его вельзевулского гнева. Он тогда казался воистину князем, а все перед ним мухами. Притом что сам собой Владимир Сергеевич был невелик и негнущейся спиной похож даже на оловянного солдатика. «Если бы мы, скоты, – кричал, – в свое время не набросились всем стадом на неандертальца и не уничтожили его, то и сейчас не поедали бы своих ближних и не поднимали бы на собраниях руку, как собаки поднимают заднюю лапу!» Я не разбираюсь. У неандертальца, оказывается, мозг был больше, чем у наших предков, которые, по версии Антипова, и уничтожили этого перспективного, но беззащитного гения. Но суда истории, я думаю, не будет. Где свидетели? Характер у Владимира Сергеевича в последние годы портился, он стал тяжел для непосредственного разговора. Вдруг резко изменил курс и решил, что мы в природе одиноки. Но не как цари (это было бы даже лестно), а вроде как выродки. Назвать целый народ выродком… Тут люди его уже не поняли.
– Вы лично, судя по всему, тоже?
– Мы повздорили, да. Я уже с Сергеем Максимычем сошелся и начинал понимать. – Пиндоровский приостановился, раздумывая, какое тут к глаголу «понимать» годится дополнение, но в конце концов решил, что без дополнения мысль получилась объемнее, и не стал заканчивать. – Государственная истина – совсем не то что истина частная или, там, научная. Антипов – умный человек, а не мог с этим справиться. При этом вспыльчивый, порох и бикфордов шнур короткий, взорваться мог в самый неудачный момент. Я ему пытался втолковать, что к людям, особенно, когда они в большой массе, другой подход нужен, не соловьи всё же. Нельзя слишком нагружать их личной ответственностью. Возвышенное отношение к природе – это одно, она от твоего отношения не возомнит и не впадет в депрессию. А человеку это вредно, был уже опыт… Федор Михайлович, между прочим, понимал человеческую природу, как никто. Только он от испуга полагал, что его секретом воспользуются всякие там вислоухие фанатики-революционеры, а вышло мирно, само собой, вследствие естественного, так сказать, усовершенствования цивилизации.
Пиндоровский стал разворачивать передо мной картинки с натуры: не один, мол, чай с сахарком на веранде интересует современного человека, но и право на бизнес, частное дело – верный залог мирного обретения чувства собственного достоинства, а и музыка в каждом доме, духовный комфорт. Но сама идеология выглядела поношенной и неприлично голой, и странно было видеть, что у него вышла слюна на плещущих губах, будто он хвастался передо мной сверхсекретным изобретением. Заметив, что выражение моего лица изменилось, он почти закричал:
– Что? Что?
– Да сомневаюсь. От таких мирных теорий всегда почему-то паленым пахнет, – сказал я.
– А вот без этого. – Пиндоровский, надо отдать должное, сразу понял, о чем речь. – Мы – без этого. Никто человека не переделывает, мы только идем ему навстречу. Мой сумасшедший тезка, у классика-то, боялся, что все, мол, будет позволено и тогда… Чепуха. Фантазия только на голодный желудок опасна. Никто лишнего и не хочет. «Ну разве еще кусочек?» Вот предел самовольства. Да что говорить, такая уж свобода, такая возможность служить только своим скромным мечтам, что глупо быть нелояльным. Ну а кто не желает… Таких, впрочем, почти нет.
Здесь он соврал. Слова о тех, «кто не желает» были выдавлены с яростью, вряд ли их было ничтожно мало. И не к ним ли принадлежал академик?
– Да, ну и что же Антипов? – спросил я.
– Мы с ним об этом через ручей беседовали. Он слушал как будто внимательно и вдруг говорит: «Кинь-ка мне этот чурбачок!» Я, в дружеском расположении, природа шепчет, соловьи надрываются, дома – водочка в холодильнике, в общем, от чистого сердца схватил огромный пень и послал ему. А пень тяжелее меня раза в два, и мы – вместе в воду. Я тут же понял, что он все это рассчитал и подстроил нарочно, вместо аргумента. Больше от обиды, чем от неожиданности зарываюсь в дно. А он мне: «Хочешь вылезти?» Протягивает руку. Тут уж я его руку не принял. Пропадешь ты, говорю, без меня, Владимир Сергеевич. А он: еще как пропаду! Тогда это все к слову было, я внимания не обратил, а обернулось вот чем…
Пиндоровский был весь нараспашку, и про дружбу, и про обиду рассказал, и идеологию свою передо мной разложил, будто хирург блестящие инструменты, но что-то он при этом определенно скрывал. Антипов досадил ему гораздо больше, не только профессиональным упрямством или тем, что попросил кинуть чурбачок (характер, однако!).
– А я ведь академика Антипова чуть было уже не похоронил.
– И хорошо, что «чуть было». Мы сами пустим в эфир… Когда надо…
От этих слов у меня внутри все оборвалось. В этом-то, может быть, и разгадка: они уже планировали его смерть, но им помешали.
– У вас, кстати, дискетка с собой?
Ага, горячо! Досвистелись все-таки до жизни и смерти. А он, не дожидаясь ответа:
– Славный был человек Владимир Сергеевич. И добрый, уверяю вас. История с чурбачком – так, минутное. Добрый, добрый. Природу чувствовал как никто, а человека понять так и не смог. Не было в нем специальной любви к народу, вот в чем дело.
– А это что за китайское фондю? Не пробовал, – сказал я. Я всегда испытывал что-то вроде желудочного недомогания, когда кто-нибудь употреблял слово «специальный» или «специфический» по отношению к чувствам.
Пиндоровский улыбнулся, как поп, заранее прощая заблудшему атеисту детскую ересь.
– Иронию слышу, – предупредил он меня, – но не сочувствую. И, признаюсь, от вас не ожидал. Не ожидал, не ожидал. В ваших передачах такая скрытая теплота… А в жизни вы не такой…
Я готов был взорваться, однако сдержался, боясь навредить окончательно не только себе, но и неизвестному мне Антипову. Страстное почитание Пиндоровским моего, условно говоря, творчества, тяготило и явно не соответствовало моим возможностям. Мы ответственны за тех, кого приручили, допустим, но у нас нет никаких обязательств перед теми, кто нас почему-то любит. С какого перепугу? Эти обычно так глубоко копают в поисках достоинств, что как будто яму роют. Может быть, и Антипов сбежал от его любви, ужасаясь собственному портрету. Хотя нет, даже в рассказах Пиндоровского Антипов был мне скорее симпатичен.
– Ладно, Иван Трофимович, комплименты и упреки в другой раз, – сказал я. – Возможно, я не так понял. Но почему вы все время говорите о своем друге в прошедшем времени?
– Да не придирайтесь вы! Невольно впал в мемуарную стилистику. Люблю его. Только ведь мемуары в настоящем времени не пишутся. Так что дискетка?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.