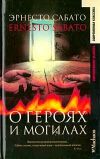Текст книги "Ваша жизнь больше не прекрасна"

Автор книги: Николай Крыщук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
– Да зачем она вам?
– Ваш поклонник, а его друг. Любопытно узнать, что у вас на этот случай получилось. Я, конечно, и так не сомневаюсь… Минор вам особенно удается. Он ведь и сам хотел у вас ее попросить, – оживился вдруг Пиндоровский. – Третьего еще дня. Это ж, говорит, такой жанр амбивалентный, вроде юбилейной речи или статьи в энциклопедии. Как мы в детстве энциклопедии читали? Если не понял, не проникся, недооценил, поддался чуждым влияниям или, того пуще, впал, то, значит, человек стоящий, надо где-то книжечку раздобыть. А если восславил, слился, опередил, то можно даже имя не записывать. Интересно, говорит, узнать, что там про меня Трушкин накукарекал? Совпадет или не совпадет?
– Так и сказал, «накукарекал»? – я попытался улыбнуться.
– Ну, не дословно, – смутился Пиндоровский. – А вообще, вы не знаете его манеру. Он сейчас – с вами, тянется через стол закуски подложить, волосы от смеха мокрые, с десятью собеседниками разом остротами обменивается, как в пинг-понг, и ни одному не уступает, а уже через минуту чопорный, только профиль его и видишь, с французского на латынь переходит и смотрит с таким искренним желанием припомнить имя, что человек начинает стыдиться давешней фамильярности и сам хочет свое имя напомнить, чтобы только прервать эту неловкость. Или вдруг мага и предсказателя начинает из себя представлять. «Сейчас эта рюмка тренькнет». И рюмка, действительно, на глазах рассыпается. Бывает еще появится деревенским старичком, напробовавшимся до того горилки, у которого самое цензурное слово «насрать». Но и тут, как бы из-под мышки старичка, покажется сам и подмигнет: «насрать» пишется вместе, господа. Вот и доигрался. Однажды тоже пророческое мне сказал, да я внимания не обратил: «Меня ведь уже нет, Иван Трофимович. Но ты об этом никому не говори, только неприятности себе наживешь. А когда явлюсь к вам толстозадым китайцем, чтобы всучить липовый контракт, ты и сам меня не узнаешь». Разве можно такому в политику? Я вам все как на духу рассказываю, Константин Иванович.
Я заметил, что Пиндоровский то и дело проговаривается, будто теряя над собой контроль, а в действительности, может быть, расставляет невидимые капканы. Почему он сказал, что Антипов интересовался некрологом третьего дня, когда, по моим представлениям, я записал его только сегодня?
Впрочем, время давно уже кувыркалось, следить за его кульбитами не имело смысла, и, вполне возможно, это не было оговоркой. Но я помнил наказ Тины да и сам не испытывал доверия к этому вибрирующему от пафоса и сантиментов толстяку, а поэтому не нашел ничего лучше, как произнести фразу, давно заготовленную для таких случаев героями сериалов:
– Дискета в надежном месте, Иван Трофимович.
Пиндоровский, казалось, не обратил внимания на мой напускной тон, похлопал оладьями своих ладоней и сказал:
– Ну вот и хорошо, что заранее позаботились. А нам сейчас принесут чай.
Меня позвали
Разговор наш катился неспешно, вроде чеховской брички по степи, оставляя позади себя пейзажи, которые через минуту встретятся вновь, не считая поворотов и, однако, рискуя невзначай увязнуть в топкой луже, о которой луна забыла предупредить.
Пиндоровский вкусно обжигался чаем, будто играл с милым, но чересчур резвым котенком. Полотенце уже было мокрым, он достал из кармана большой платок, по коричневому фону которого была рассыпана брусника, и прикладывал его к губам во время разговора, то ли приглушая ожог, то ли сдерживая потоки пота.
– Положительная часть теории Антипова всегда была набрана петитом или же диамантом, – говорил он. – Мало кто мог в этом разобраться. Нравственное усовершенствование должно было произойти не то чтобы от каких-то упражнений, хотя было что-то и о тренингах, но вследствие особой диеты для поведения, что ли. Черт его разберет! Однако, я думаю, если бы человек научился находить дорогу по магнитным полям, как голубь, например, разве отказался бы он от искусственных крыльев? А об этом, кажется, и шла речь. Усовершенствованный человек свободно мог обойтись, по его мнению, без многих услуг цивилизации и из этого следовали большие выводы.
Снова каким-то образом вышли на любовь к народу. Между прочим Пиндоровский сказал фразу, которая вступала в явное противоречие с Катиным напутствием:
– Когда человек ни за что не хочет отдать свою жизнь, он и превращается в самого полезного гражданина.
– А за родину? – подсказал я.
– Но не до конца, не до конца, – засмеялся Пиндоровский. – Так, чтобы и себе немного осталось.
– Сознайтесь, вам эти одомашненные лисы нравятся?
– Не то чтобы нравятся… При чем тут – нравится, не нравится. Тут другое дело. Не утка в яблоках, одним словом, чтобы нравиться. Народ такой, вот и всё. И мы должны это иметь в виду. Тогда они сами себя в твои руки отдадут, без жертв и отречения от личности, исключительно из любви и благодарности.
От всей его фигуры исходило благодушие и покой, как от главы накормленного впрок, на всю жизнь, семейства.
– У наших людей фольклорное сознание, – снова зачастил Пиндоровский, – вот чего Антипов не мог понять. Подай ковер-самолет – человеку и лететь не надо, счастья от самого явления чуда на полжизни хватит. Ему изобретательность приятна, чудо, а не трудодень. Печь, на которой едет Емеля, проламывает для начала что? Стену избы. Да и хрен с ней! А от подсчетов, каким рейсом выгодней лететь, он впадает в тоску. Мечты у него утилитарные, кремень да кресало: ударь раз – выскочат два молодца, из любой беды выручат, а там, глядишь, золотой дворец и царская дочка в жены. Но это ведь не то что идеал, понимаете вы, который ему столько лет под нос совали да еще и удивлялись бездуховности. Мечта – совсем не идеал. Она из веры произрастает. Когда иссякает вера, тогда и начинает человек тревожиться идеалами, пытается либо себя усовершенствовать, либо переустроить человечество. Вот этого нам и не надо. От идеала только аллергия и социальное беспокойство, а мечта – это присутствие отсутствия, что ли, вечная недостача. Идеал требует страдания, а мечта – мечта, для нее никто и пальцем не шевельнет, потому что глубоко в себе понимает, что тогда может лишиться главного. Мечта и практическая жизнь лежат на разных полочках, никакой дурак смешивать их не станет.
Тут Иван Трофимович на минуту задумался и добавил любовно:
– С другой стороны, за мечту и зарезать можно.
Он сплел на конце платка узелок, как делают старушки для памяти, и, полуобернувшись, надолго уставился в окно. Я невольно пошел вслед его взгляду.
Лифт столько раз перебрасывал меня в пространстве, что разговор наш вполне мог происходить в наземной части «логова» и тогда – почему бы не быть в кабинете Пиндоровского окну? Хотя было странно, что я не удивился ему в первый момент, когда был уверен, что нахожусь в подземелье. Вероятно, присутствие окна откликалось моей привычке, только и всего.
Обустроенная веками жизнь и собственная природа ставят предел человеческому воображению. Даже и во сне человек не может выйти за окоем собственного опыта. Вот если и сейчас мне только снится сон, то я и разбираюсь, выходит, лишь со своими фобиями и страхами, с затверженностью прижитых по дороге жизни иллюзий, то есть перемешиваю так и сяк раствор собственного изготовления, а не какую-нибудь объективность.
Недаром вся фантастика работает лишь на отклонениях, населяя другие цивилизации и даже потусторонний мир земными атрибутами. Смех туземца, из которого родилось звездное небо, деревья, растущие вверх корнями, зеленая кожа или третий глаз гуманоида – вот предел, который положил им elan, позволяющий в детском самомнении преодолеть земное притяжение. Даже если кто-то выведет породу человека-гриба, у того все равно будут глаза, уши, рот, ноги и руки.
Так или иначе, в кабинете Пиндоровского было окно.
Мне показалось, что оно выходит в тот скверик, в котором я пытался обеспечить себе положительный переход в иное бытие. Вдоль ограды шел трамвай, так и не домчавший меня до Дома радио. Над всем летел солнечный снежок и тут же таял, возвращая графику деревьям и позволяя рельсам сверкать с новой силой. Растрогавшись, я подумал о нашей скверной погоде, которая пренебрегает различиями времен года и создает круглогодичный ералаш из безнадежности и вдохновенья.
Тут сквер немного подвинулся и наклонился, как будто заглянул в реку. Пиндоровский пошевелил нетерпеливо толстыми пальцами, трамвай съехал вбок и скоро исчез из плана. На их месте незаметно проступило и зацвело озеро, и, о Боже, из-за верхнего угла оконной рамы выплыло животное, полное грез, и, плавно поводя шеей, заскользило к своему лебединому супругу.
Во мне смешались разочарование и восхищение. Это был компьютерный монитор. Я оказался телезрителем и ощутил привычную охоту к возбужденно-ленивому созерцанию. В мозгу крутилась строчка: «Что должно произойти – обязательно случится».
Случилось же что-то вроде переключения регистров. Еще это было похоже на хлопок, когда самолет снижает скорость, и звук, который он обогнал, снова настигает его. У людей это называется: «Где я нахожусь?».
Я смотрел на Пиндоровского, и он уже не казался мне таким смешным и одиозным. В пути встречаются разные люди, их необязательно любить или не любить, это значило только, что я далеко ушел, давно забыл о цели путешествия, каждая новая встреча откалывала от нее по кусочку, пока на ее место не пришла тоска по дому.
Жалость к отнятой жизни вернулась как раз в тот момент, когда я окончательно понял, что она по чьему-то разрешению или недосмотру продолжается. Пусть и с монитором вместо окна. Я был в автономном плаванье, и какое мне, в конце концов, дело до того, в какой точке оказался и как меня здесь назовут?
Все наши мировоззренческие споры… Шелуха! Один из способов провести время, интеллектуальная гимнастика, в которой против остроумия коня и тактического марша ладьи выставляется высокая королева принципов. В один из таких споров я едва не вступил с этим лысеющим младенцем, обтирающим потные ладони о вельветовую куртку.
Есть я или меня нет, пусть это только спектакль гастролирующего театра или затянувшийся сон, но и в нем мне дано чувство, что я живой. Никто не может требовать большего.
Антипов, должно быть, говорил про это, да Пиндоровский плохо артикулировал. Сейчас мне уже хотелось выискивать резоны в его разглагольствованиях, о которых он, может быть, и сам не подозревал и своим переимчивым умом приспосабливал к своей убогой философии.
Пиндоровский между тем продолжал, хмелея от чая:
– Культура не залеживается, Константин Иванович, упрощаются только шифры доступа, что для демократии естественно. В конце концов в них и вовсе не будет надобности, они исчезнут вместе с тоталитарной системой. Фольклорная передача информации станет главенствующей. Ведь и компьютер – тот же инструмент фольклора. Возьмите нашу милую Катю (она сегодня на вахте, вы знакомы). Вам же и в самом смелом сне не приснится, что она когда-нибудь читала Платона. Если произнести при ней слово андрогин, она подумает, скорее всего, что вы выругались. А представьте при этом, что она помешана на поиске своей половины. Своеобразно, не буду отрицать, но с намерениями вполне чистыми. А именно: спит со всеми мужчинами, которые ей приглянулись, чтобы опытным, так сказать, путем найти своего суженого (иначе как?). Никаких непомерных устремлений, только усердие, – Пиндоровский хихикнул, прикусив губу и почему-то изобразив руками акробатическую фигуру в полете. – В этом нет даже намека на разврат, уверяю вас. А вы… Почему не пьете? Каркаде, между прочим. Любимый напиток Клеопатры. Тонизирует, укрепляет и все на свете.
Чай, действительно, был гадкий, с привкусом просроченного вермута. Сплетню я проигнорировал, а сведение о живучести мифа, напротив, выловил и обрадовался, поскольку уже был настроен на череду удач и совпадений. Во мне жило предвкушение рыболова, что-то еще непременно сверкнет на крючке, что окончательно объяснит мое новое положение. Надо только запастись спокойствием и терпением и не вызывать нервных подозрений у плывущего параллельно со мной рыбака.
– Мне кажется, или я ошибаюсь, что царица пила его только холодным, – сказал я.
– До чего вы консервативный. Как все радикалы. Поверьте, ничего нет лучше обжигающего каркаде. И вот печенье. Вкусное и почти пресное. Остроумно названо «Марией». Я полюбил его, когда застрял на Шикотане. Край света, а в магазинах, кроме «Марии», ничего. Можно сказать, я обязан ему жизнью. Если бы не оно, пришлось бы умирать с голода и поверить в Бога.
– Насчет Бога… – начал я, желая спросить, в каких отношениях с Ним находился Антипов, но Пиндоровский прервал меня:
– Кстати, насчет Бога. Люди повалили в церковь. Интеллигенты, как обычно, усматривают в этом ханжество и моду. А я вам скажу: чушь! У людей есть потребность в защите. Вот они и ходят. Впрок. На всякий случай. Как в доме засыпают стеклом дыру. Крыс пока нет, но – кто знает? Вы можете их в этом упрекнуть? Человеку нужен покой. Покой и воля. Воля вольная. Собственность – честный аналог бессмертия. Он вкладывается в дело, а по сути – в вечность, платит налог на сохранность своего имени и своей души. А еще личная береза под окном и крытый ондулином шалаш, по которому гуляют вороны. Вороны – непременно. Они производят своими шагами что-то вроде глухого грома, и сердце жителя радуется. Природа посторонилась, бродит кругами, цунами можно наблюдать по телевизору, а богоборчество, вызов – это все штучки интеллектуалов. Кто же с неповрежденной психикой желает вернуть билет? Литературная фигура. Главное, чтобы не трогали, не ходили под окнами, не водили пальцем перед глазами. Человек хочет быть собой, а не высшим смыслом природы. На черта он ему сдался? Вот в этом он может быть даже и непреклонен. Предположим, так случилось, и он опечатка, которую Автор второпях не заметил. А ведь опечатка – слово только «опечатка», она наделена сознанием. Автор же, допустим, решил пустить Сюжет по-другому и хочет ее стереть. Как это стереть? Шутишь? Можно ли от меня просто так избавиться? Хочу быть самим собой, картавым, завистливым, влюбчивым и прекрасным. Тут уж да, почти бунт. Если же будешь упорствовать (это он Автору), я стану свидетелем против тебя. Ты только ничтожный Автор, а я – есть и есть! Предпочитаю без условий получить свою долю радости и бессмертия.
Пиндоровский не говорил, а скорее мурлыкал или напевал, дикция пришла в расслабленный беспорядок, так что уже и «р» отказывалось пружинить и катать слова, получалось «пдедпофитаю» и «дадофти». Впрочем, слова и без того не имели смысла, это был сновидческий бред, в котором звуки не успевали принять лексическую форму, растворялись в полете и, тем не менее, рождали в мозгу подробнейшие картины сказочного своеволия и благополучия. Я расслышал только об опечатке, не желающей отказаться от своего сознания, и мне показалось, что это сказано про меня.
Представилась избушка в лесу, в которой Антипов щелкал кнопкой магнитофона, и его легкий пропрыг по траве. Соловьи давали свой беззастенчивый концерт. Избушка была моя (Антипов гостем, что ли?), и все в ней было обставлено, как в моей детской комнате. Только за окном не двор наш, а среднерусские или, может быть, те всечеловеческие холмы в Тоскане, с солнцем на полянах и застывшими взрывами полных крон. Все это пребывало на расстоянии руки, как коробка недостроенного диодного приемника на окне, которая обещала меня когда-то связать с миром. Я ради забавы даже приподнял на ладони розовое облако – оно щекотнуло, я дунул и пустил его вслед уходящей стае. Все это было чудно и в то же время осязательно, как бывает во сне, когда проверяешь его на правдивость и обязательно находишь подтверждение в какой-нибудь мелочи. Щекотка облака была принята мной как неопровержимое доказательство реальности происходящего, так что я мог даже подшутить над собой, что вот сейчас щуки заговорят в реках, наперебой предлагая исполнить желание, и при этом подумал, что ничего в том нет невероятного. Говорят же рыбы в сказках, и это не вымысел, а, должно быть, воспоминания о случавшихся контактах. Надо бы спросить, если встретимся, Антипова.
Лера в золотистом вафельном сарафане появилась с сыновьями на другом берегу реки. Они отважно старились от солнца и призывно махали мне, чтобы я вошел в фотографию, которая вот-вот случится. И мама выходила из зарихтованной, темной части леса, и тоже спешила к ним, и тоже махала мне рукой.
Но не только они звали меня. Я снова расслышал ласковое бормотание толстяка:
– …и всегда предоставим легкие эмоциональные возбудители, приготовленные вовремя и с умом. Ваш голос принадлежит людям, позвольте ему служить. И потом, вам еще надо поддерживать матушку, она совсем плоха. А кувырнуться в бездну… Что мне вам объяснять? Вы и сами теперь знаете, что в этом последнем прыжке мало утешения.
При этих словах я вздрогнул, что, кажется, не укрылось от Пиндоровского. Откуда он знает про то злосчастное утро, про маму? Впрочем, какое это имело сейчас значение? Да, да, мама. Что она будет без меня? Хоспис. Не дай бог. Сейчас я нужен ей больше, чем когда был маленьким. На замечание о прыжке без утешения мысленно усмехнулся: да он еще и философ! Впрочем, его сочувствие и понимание было даже приятно, я так сказочно высвободился из пут поднадзорного бытия, что в моем наблюдении не было даже силы насмешки. Так, вроде домашнего словца, когда понятно, что уже обтерлись друг о друга до лоска и на людях лучше не показываться – не поймут: затрапезным и нелепым будет выглядеть милое. Великодушие давалось мне сейчас легко, ведь мое присутствие здесь было только формальной необходимостью, сам я был далеко, скорее всего дома, и все были в сборе, и счастье искало только случая, когда и оно уже может присесть. Ему были незнакомы слова «поражение» или «победа», они были уравнены в покое завершенности, который длился, длился, обещая безувечный переход в небытие.
Что-то мне это еще напоминало. Ах, да! Глаза бабочки. Фасеточное зрение ее пришло в упадок и разочарование, но остались глаза на крыльях, чтобы отпугивать ночных птиц. Довольно и этого. И откуда ей было известно, что птицы боятся чужих глаз? В своих запасных, защитных ходах природа подчас более изобретательна, чем в боевой наступательности, и привычка жить всегда остается в остатке, который слаще самого пирога.
В этом состоянии, я чувствовал, была не только свобода от искушения превратиться во что-то большее, чем ты есть, но и глубокая правда пожизненной, обреченной зависимости человека от того, что он не способен понять. Иисусу не нужно было больше умирать на кресте, Батюшкову – сходить с ума, а Сезанну правильнее пропустить свои работы «на мотиве» и вместо этого отправиться на похороны матери.
Вспомнилась картина Эндрю Уайта: покойник вытянулся на дне лодки, которую несет по реке быстрым теченьем. Меня отличало от покойника то, что я обладал сознаньем, по своей воле отпустил весла и мог наслаждаться этим свободным плаваньем. Кажется, это и называется нирваной, о которой у меня были самые простые представления. Пиндоровский прав: фольклорное бытие, свобода от библиотек, главное – известно уже младенцу.
Все знали о существовании этой калитки, за которой перестают действовать причины и следствия, но где она находится и как выглядит ключ, позволяющий ее открыть? Для разгадки тайны люди обзавелись библиотеками, в которых поколения и поколения проводили свою жизнь, с упорством кладоискателей отправляясь в новые походы. С годами историй разочарований стало значительно больше, чем историй поисков. Жалко было смотреть на румяные лица юных посетителей, со священным трепетом переступавших порог книгохранилища, не подозревая, что пришли на кладбище.
А калитка была рядом. Ну конечно, она была рядом, о чем мудрый догадался бы сразу. И, разумеется, она не заперта, никогда и не была заперта, это и составляло, быть может, ее главную тайну.
Господин напротив немного раздражал, но был по-прежнему неопасен. Он звал меня к своим смирным покойникам, вероятно, прознав, что мне известна тайна калитки. От него пахло слежавшейся детской присыпкой, которой он удобрял свои потеющие подмышки.
Монитор показывал очередную городскую грезу: белокурая девочка, с мечтательными ногами, в красной клетчатой юбке, наезжала велосипедом на лужи, заколоченная колокольня морщилась под ее колесом, наклоняла удочку шпиля, но через минуту, невредимой, собиралась вновь.
Состояние, которое я испытывал, не находилось ни под чьей юрисдикцией, и, уж тем более, не было на нее прав у этого тайного распорядителя чужими судьбами. Вот почему его раздражали антиповские соловьи – они не были похожи на коров, которых он мог, играючи, сгонять на райские луга. Я не из его стада.
Рандеву закончилось. Бог с ним, с неистовым Антиповым, с сентиментально-плотоядным Пиндоровским, с их дружбой и ссорами, со всем их «Чертовым логовом». Я чувствовал, что даже и прощаться и произносить слова ритуальной вежливости нет необходимости. Молча и не оборачиваясь, выйду из этого лабиринта. Наваждение, которое внушало улицам заворачиваться и петлять, больше не действует. Дома ждала меня больная матушка и несчастная Лера. Мне будет что сказать моим сыновьям, которые слишком рано почувствовали себя сиротами. Я не знал, какие это будут слова, но это меня ничуть не беспокоило. По опыту: заготовленные речи неизбежно проваливаются. Все решает уверенное знание, которое никогда не обманывает и меньше всего заботится о том, чтобы выглядеть убедительным. Смерть отменяется, вот что несомненно. Аргументы?.. Да какие аргументы?
Оставалось сделать легкое усилие: встать, повернуться спиной к чужому человеку, пройти сквозь канитель занятых собой незнакомых людей, ни на чей оклик не оборачиваться (в мире столько видений и оборотней, готовых соблазнить родственной повадкой), а там – я принадлежу только себе и знаю, что делать.
Однако вышло снова все не так.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.