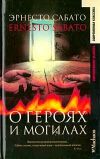Текст книги "Ваша жизнь больше не прекрасна"

Автор книги: Николай Крыщук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
Ну выдохни, попросил я про себя. Сам я чувствовал легкую одышку. Но для его восьмого уровня вся эта математика была плевое дело.
– Я все понимаю. Но все же с Лобачевским или с Гете… Ну, с менструациями по женской линии… Ведь могут возникнуть определенные проблемы.
– А звезды для чего? – невозмутимо сказал мальчик.
– Еще и звезды?
– Я же говорил: высшая математика. Глубочайшие врата рождения – корень неба и земли. Это сказал, кстати, древний китайский философ. Как показывает расчет метакода, он жил десять тысяч лет назад и по своему таланту не был китайцем, а принадлежал, скорее всего, к синей расе…
Китаец, который не был китайцем. Самое удивительное, мне показалось, что я уже откуда-то про этого китайца знаю. В мозгу даже, щекоча, стало пробиваться его имя, но одновременно было ясно, что философ обречен на анонимность. И глубина этого пребывающего во мне знания так напугала меня, что я решил разом покончить с разговором. Когда ты начинаешь чувствовать, что знаешь то, чего точно не знаешь, самое время заняться делами по дому. Вот только такой возможности у меня сейчас как раз и не было.
– Спрашивать тебя, как мне отсюда выбраться, конечно, глупо, – сказал я.
Мальчик молчал и, кажется, решительно забыл обо мне. Он так и сяк заглядывал в маленькой круглое зеркальце на столе. Клянусь богом, это была прикидка наиболее выгодного ракурса на случай встречи с папарацци. Мне ничего не оставалось, как размышлять вслух.
– Ты, видно, много читал. Флоренского цитировал. Читающего человека я привык воспринимать вроде как земляка. Все же это что-то большее, чем, если бы мы оба любили грызть фундук. Пусть мы многие вещи понимаем по-разному… Не станете же вы меня здесь держать насильно? – вдруг закричал я, чувствуя тошноту от мармеладного вкуса собственной толерантности.
– Боже упаси, – откликнулся мальчик, возвращая на лицо улыбку. – Только куда вы пойдете? Дома знают, что вас уже нет. Дело только за справочкой, ведь так?
Возвращение домой действительно обещало тягостную неловкость. Все равно как человек поворачивает с полдороги, чтобы взять забытую вещь. А домашние уже настроились жить без него, уже приятно лелеяли смелую разлуку, и понимают, что забытая мыльница только повод, слабость души, что он струсил.
Но это, в конце концов, мое дело. И вообще, разве мало на свете людей?
Сейчас я был уверен, что их много, хотя представил только Зину и ее бутылочку «ацетона» за портьерой. Но короткие отношения возможны, не все же говорить о главном. О главном и вообще-то обычно говоришь не с самыми близкими. А так, за рюмкой, или пирогом, или просто потому что обоим идти в одну сторону. Я чувствовал, что соскучился именно по такому, необязательному разговору. И на кой черт человеку знать, что там у тебя внутри?
Что-то из этого я, вероятно, проговорил вслух, потому что мальчик ответил:
– Но вы-то про себя знаете.
Мне вспомнился почему-то Баратынский: «Опять, когда умру, повеселею я». И его, видно, не оставляла надежда, что за смертью ждет некое свиданье. Если бы… Встретить бы мне сейчас собеседника, с которым весело кидать друг другу кости, промывать песок культуры, радоваться глупостям больше, чем удачным остротам или просто утеплять на зиму дом, бережно собирая с подоконника засохших бабочек. А окно фотографировало бы для нас день, ночь, утро, покрытую градом дорогу, взволнованный клен и остановившегося передохнуть пешехода. И новый день начинать с пересказывания снов.
– Я вам завидую, Константин Иванович, – снова заговорил Алеша, и мне показалось, что пока я летал в своих мыслях, он удачно выдавил на скуле мучавший его прыщ. – Вам дано то, что немногим. Мне, например, не дано. Я и вообще только регистратор. А вы – поэт. И не просто, а вот именно, когда «звуки правдивее смысла». – Эту строчку мальчик не сказал, а пропел. – Каждый ваш радионекролог – стихотворение. У меня этому целая глава посвящена.
– Ты про меня писал в своей диссертации?
– В дипломе. Пока только в дипломе. Но будет и диссертация.
Я почувствовал себя той самой сухой бабочкой, которую только что в своем воображении сметал с подоконника. Чем я отличаюсь от нее? Ячейка в таблице Пиндоровского для меня есть, на булавку меня этот мальчик насадил, теперь не нарушить этого порядка каким-нибудь случайным проявлением жизни только долг, своего рода честное служение науке.
Но главное, я не мог уже отогнать от себя эту мысль: чем-то я им всем нравлюсь, каким-то боком вписался в их дорожную тесноту, пришелся, что называется, по душе. Обладатель полной коллекции «Ностальгий» Пиндоровский валялся после передач в каталептическом сне, архивариус намеревается мной гордиться, теперь вот этот инкубаторский. И, кстати, Варгафтик!
– Что? Что? Что ты про меня писал? О чем твоя диссертация? – снова застонал я.
– Если сказать в общем, то я бы так сказал: искусство как анестезия. Это, собственно, и есть название. Жанры искусства, тип таланта и виды анестезии. У анестезии ведь много видов. Топическая, поверхностная, общая, местная, проводниковая, эпидуральная…
На этом противоречивом слове я крепко зажал его рот ладонью.
Предварительные прозрения
Глупо, и при чем здесь мама? Каждый своим психозом обзаводится сам, впрок, слепо и жадно. Так командировочный хватает первую попавшуюся книгу в справедливом предчувствии, что дорога будет скучна. Манит ужасный кувырок случая, упакованный в глянцевую обложку. В детстве же все мы на краю, хотя это еще сладость и удовольствие. Потом на всю жизнь хватает и всегда под рукой.
Подбитая со всех щелей, замурованная тьма, тем не менее, позволяла догадываться, что, выскочив из катакомб архивариуса, я попал в коридор. Но сделав два шага, я уже не мог определить место, из которого только что вышел. Автономный полет, что-то вроде невесомости с земным признаком тошноты.
В другом конце коридора виднелась звездочка свечного огня и покачивающаяся над ней фигура, или ветхий пень, или февральский сугроб. То есть качал это сооружение свет, само оно оставалось неподвижным. И как-то было понятно, что идти до этой тусклой звезды не меньше года. При том, что оттуда отчетливо доносилось мелодичное бормотанье, похожее на молитву или незнакомый причет. Резонировало, как в храме.
И тут точно, как однажды в детстве, я почувствовал, что меня выронили. Не прогнали, не заперли в темницу, а потеряли, забыли, как забывают игрушку, у которой вышел завод. Что-то подобное было, когда родители из педагогических соображений за какую-то провинность пригрозили отправить меня в интернат. Я испугался по-настоящему и проплакал всю ночь.
Вот и сейчас я икнул от ужаса, тело подобралось к лицу, в плечах исчезли крылья, а внутри кто-то расправил перчатку с мелкими иголками.
Это было не новое чувство, но и не воспоминание, а нахлест одного на другое, вторая волна шторма, которая неизбежно должна была последовать за первой, еще более мощная и, скорее всего, окончательная, и вот пришла. Главное, я, сам того не сознавая, ждал ее и знал, что с ее приходом надежды на спасение не останется, времени для второго глотка воздуха уже не будет.
Собственно, цветок должен был завять уже при готовности выдать фальшивый документ о смерти. Хоровод повизгивающих и постанывающих теней – это уже какая-то надбавка нового кино. Но – цветок держался. Вот что значит жажда жизни. А тут я скукожился, опустился, пропал окончательно.
Вообще-то первый раз, еще до угрозы интернатом, это было так. Мы жили тогда во флигеле, который прилепился к торцу барака. Бог знает, когда и по каким соображениям он был построен, но для нас являлся собственным домиком или, скорее, отдельной квартирой. Во второй комнате была дверь, выходившая в коридор барака, ею почти не пользовались. Амбарный замок был плосколиц и казался такой уж древней недвижимостью, что я в нем, оставшись один, поджигал спички.
В тот вечер дверь была не заперта.
Отец, как всегда, работал допоздна, мама натопила печки и ушла через эту амбарную дверь к соседям, у которых, я слышал, умирал младенец. Чем занимался, не помню, должно быть, скучал, но никакого чувства одиночества или, там, обиды: оставаться одному было привычно, и к тому же, скоро все соберутся. Однако горечь, вероятно, копилась во мне, я просто не научился выделять ее вкус среди прочих.
И тут погас свет. Разом – в доме, и во всем дворе, и на дальней улице. Снег впитал в себя темноту, скрылся, больше не искрил, не важничал, не предлагал себя. Не было ничего. Сквозь стекло я едва мог разглядеть деревья. От страха они сбились ближе друг к другу, мужественно костлявые, и о чем-то украдкой толковали.
Их страх передался мне. Я попятился, не теряя из вида окно, угадкой вывернул во вторую комнату, ударился бедром о комод и вскрикнул, попав рукой в мамино мулине.
Дверь в коридор заскрипела под моим плечом, и это тоже меня напугало. Вероятно, я надеялся, что там зажгли свет, но это был выход из черноты в черноту. Только в самом конце безмолвного тоннеля вихлялся маленький огонек свечи и несколько женщин учащенно пели, иногда жалобно и невысоко взбираясь голосами, после чего начинала говорить мама. Она говорила главным голосом, все терпеливо слушали и время от времени, когда она позволяла, заунывно просили ее о чем-то, но так же быстро замолкали.
В одной из комнат крупозно задышали часы и стали бить куранты. Если каморка вселяла ужас, то часы предупреждали, чтобы я не смел шевелиться и на что-то надеяться. Потому что люди давно разобрались по своим местам и всё уже раз и навсегда случилось без меня. Еще одна дверь приоткрылась, из нее выплеснулся свет, низкий женский голос произнес «на двору пострюха», его тут же защемило, и в коридоре стало еще темнее.
Меня выронили в эту темноту и забыли навсегда. Мама побыла мамой, но из той каморки, в которую детей и днем не пускали, она уже никогда не вернется, она теперь, наверное, ведьма. Раньше у нее во рту были золотые зубки (металлические, конечно, блокадная цинга и пр. – К. Т.), чем я втайне гордился – ни у кого больше такой красоты не было. А вчера она подняла меня на руки, засмеялась, и прямо перед моим лицом возникли два ряда новых белых зубов. Как я испугался, закричал, забился в истерике – и был со злостью отброшен на кровать.
– Дурак, – сказала в сердцах мама. – Какой дурак!
– Не хочу, не хочу!.. Верни обратно золотые.
– Ща! – Мама подошла к зеркалу, снова страшно показала, теперь уже ему, белые, как у нашего целлулоидного льва, зубы, несколько раз щелкнула ими, приподняла на затылке волосы и мечтательно сказала: – Уеду я от вас, прыщики.
– Далеко? – спросил отец.
– Фюйть, и всё, – ответила мама и неопределенно махнула рукой.
Отец в такой темноте не найдет дороги домой и забудет про нас. И что он, в любом случае, против мамы? Не найдет, да, закуролесит, опомнится, конечно, потом, но меня уже не будет. Я видел его ненадежные, растерянные, светлые глаза. Посмотрит вокруг – никого, сыночку уже давно загребли черти и бросили в прорубь.
Прошлой весной к нашему берегу на реке прибило малолетнего утопленника. Говорили, что неизвестные еще под Новый год утопили мальца в проруби, и за три месяца плаванья лицо его объели угри и налимы, так что родная мать опознала только по рубашке и буквам на рукаве. В кровожадности и непобедимости налимов меня больше всего убеждало то, что их называли «мраморными». Говорили, что они видят добычу в темноте, реагируя на любой удар или звон.
Я заплакал. Из проруби не выбраться, черти свяжут. А рыбы зимой голодные и злые, утащат в воду, обовьют, затюкают, зацелуют плоскими губами и станут выгрызать сначала глаза, потом уши.
Зажмурившись, я попытался отодвинуть эту картину, но шевелиться боялся, чтобы не соблазнить видящих в темноте налимов.
Ведь я же взрослый мальчик, и это только коридор нашего барака, часы били у Перелыгиных, за третьей дверью направо живет Славик, у него две пластмассовые клюшки… Но и прорубь уже не хотела меня отпускать. Как всякая мысль, она знала свою силу.
Вдруг я подумал, что в каморке вовсе не злодеи-заговорщики, а соседки колдуют над умирающим ребеночком, молятся. Это было уже не так страшно, но так же таинственно, то есть все же страшно. Сейчас только от них зависит умирать ему или остаться жить. Почему мама не взяла меня с собой? Я бы тоже молился, я уже научился от нее, а со всеми вместе еще и интереснее, и пусть тогда даже Бог придет.
А если все же мама… Ну да, если она все же превратилась в колдунью и ведьму? Только бы она взяла меня с собой. Ведь она же моя мама. Мной овладела возбужденная решимость на самые отважные подвиги, а, думаю, и на самые мрачные преступления, хотя я по-прежнему не решался сделать шаг, чтобы не провалиться в яму. Но если бы мама сейчас прибежала и обняла меня – одним убежденным злодеем стало бы на земле больше.
Холодные рыбы бесшумно терлись слизкими боками, и я дергано уворачивал лицо от их хвостов.
– Мама, – позвал я, – мама, ну что?..
В ответ из каморки донеслось:
– По вере вашей да даст Господь исполнение моей недостойной…
Тут я разрыдался по-настоящему – тупо, безвольно, при первых всхлипах еще прикидывая жалостливую или страшную гримасу, но сразу понял, как это отчаянно бесполезно и глупо, потому что никто на меня не смотрит, а в такой темноте и не увидит, кроме налимов, и эта тщета лицедейства окончательно подтвердила, что я пропал.
Фантазии подобны стрессам: проходят, но никуда не исчезают, продолжают жить в нас, накапливаются в сознании, из-за чего и случается его интоксикация. Иначе как объяснить, что я, типа, отец семейства и региональная знаменитость, вдруг оказался снова пятилетним мальчиком, игрушкой судьбы? Если же отбросить литературный камуфляж, то я бы никому не пожелал очутиться в этом дерьмовом логове, в неопределенном статусе безработного землемера или, лучше сказать, соблазненного и подверженного человечьей мании червя.
Вот ведь, про червя получилось красиво, что тебе Державин, и безвинный страдалец Кафки оттянул на себя долю моего нелепого несчастья. Одна уже эта неспособность обойтись без сравнений вызывает отчаянье и может свести с ума. Для описания моего положения нет слов в литературе, а других я не знаю. Выходит, по-настоящему не могу не только описать, но и понять случившееся. Русская литература польстила нам, убеждая, что норма – человек чувствующий. Мы боялись признаться себе, что часто не чувствуем ровным счетом ничего, натягивали себя на чувство, коллективно лгали.
При этом во всех литературных словах есть благородный призвук, они невольно возвышают, и выразить реальную ничтожность подневольного смирения, колючего страха и поднятые к небу глаза блохи, оказавшейся под ногтем, они не могут. Дуют на раны, как на царапины, бросаются с набором тональных кремов к гнойникам, отводят гармонический диапазон для стона, а трусливую дрожь, к которой спешит на помощь подлость, изображают в виде трагического смятения. То есть врут, врут и врут, вводя нас в еще более мерзкое заблуждение по поводу самих себя.
А может быть, все это вообще проблемы вечно переходного возраста? Еще семилетний Сеймур Гласс писал в начале прошлого века своим родным что-то вроде: «Боюсь, если полностью выполнять высокие требования безупречного письменного стиля, я совсем перестану узнавать в написанном самого себя».
Никто не мешает, конечно, при описании этих событий воспользоваться, например, манерой блоггеров, скрашивающих одиночество в паутине скептическими выкриками и бодро сыплющих воображаемую соль на воображаемые раны. «Жизнь сука гамно сука еще та – лучша сидеть, сложа руки, чем хадить с руками за спиной – вот и закончилась школа, я только не понял, демобилизовался или откинулся – ну ты, мать, даешь! – а ты, блять, не даешь?» Дальше в том же духе.
Эти еще не ведают, входя в кабинет проктолога с высоко поднятой головой, что поза, которую они примут через минуту, ни для кого не тайна.
Мне остается продолжать, как умею. Если возьмет эту тетрадь читатель, попадавший когда-нибудь в похожую передрягу, то и от «игрушки судьбы» у него заноют члены. Кому знакомы провалы в глухое пьянство, тот знает, что наутро голова неспособна не только транслировать, но и принимать ничего, кроме раздражающей тоски, время и пространство сошлись в клинче, изо рта пахнет могилой, а люди плохо притворяются, что не подписали только что извещение о завтрашней смерти. Теперь представьте, что извещение с цивилизаторской издевкой названо «договором». Вот моя ситуация.
Самое странное, мне была внятна справедливость этой метаморфозы, если слово «справедливость» здесь вообще годится. Не то что, мол, «поделом», «сам напросился» и в каком-то смысле даже организовал. Но все превращения совершаются по своим законам, и незнание законов, как известно, от ответственности не освобождает. То есть то, что должно было произойти, то и случилось. А поэтому осознавай шустрей нагрянувшую необходимость, хавай что дают и помни, что скромность украшает.
Однако что именно здесь предлагали, я как раз понимал меньше всего. Этой добавки к обеду я не просил, и кусок не лез в горло.
Я по-прежнему плыл в невесомости, и звездочка помахивала мне с другого края бездны – вроде синенький скромный платочек. Тишину озвучивал едва ощутимый шум. Он был регулярным и совпадал с пульсом в висках. Это усердные жуки-древоточцы подъедали космическое пространство или, по крайней мере, тысяча человек пилили лобзиками сухую штукатурку. А может быть, именно так звучит абсолютная тишина?
Пришла простая мысль, такая простая, что я ей сначала не поверил. Я понял, что, собственно, давно уже не знаю, что с собой делать и как по уму распорядиться жизнью. Молодость моя закончилась во времена Великой Перетерки. План по травмам, созиданию и полетам был, в сущности, выполнен. Нина вышла замуж, как будто ушла в тонкий мир, так и осталась вечно зеленым орехом. Я положил жизнь к ногам Леры и успел понять, как это немного. «Я не видела тебя сто лет». Абзац. Дальнейшее – молчанье.
Автономная жизнь мамы определила мою судьбу половозрелого ребенка. Призвание отцовства в реестре наших гениев отсутствовало, это была задачка для взрослых. Я готовился к будущей встрече с сыновьями, как с равными товарищами. От мечты же моего отца остался только остов яхты, на которой, наверное, кто-то давно уже ходит в походы за шашлыками.
Было еще, конечно, призвание складывать слова особенным образом; в реестре гениев оно стояло едва ли не первым. Но на ниве словесности к тому времени трудились только глухонемые любители природы или специалисты с культиваторами, которые, точно толстовский Левин, придумали себе сельскохозяйственный интерес. Без подобной продукции люди давно обходились, и эта невостребованная барщина выглядела как экстазность вымирающих особей.
Сейчас, в кромешной темноте, все это представилось мне так ясно. Я испытывал наслаждение, загоняя себя фехтовальными доводами. Но тут на последних словах, перед решающим уколом, ко мне, вроде механической птички, выскочило воспоминание.
Вероятно, нам все же претит тотальная живопись. Вопреки мрачной воле художника, ангел его проведет-таки сквозь тучи ниточку солнечного луча. В моем случае это была мысль о фисгармонии. Я вспомнил об обещанном концерте и снова мечтательно представил сцену, публику, стряхивающую с себя суетливое оживление, отливающий в красную рыжину инструмент…
Я выбираю верхний мануал. Кажется… кажется, он называется Oberwerk. Да. Он звучит немного глуше, чем Hauptwerk. Мысленно листаю ноты Сезара Франка или Гурджиева. Музыка, которая звучит во мне, богаче и совершеннее написанной. Я буду играть ее.
В этот момент женщина, похожая на повзрослевшую Нину, проходит, опаздывая, в своем черном платье с фиолетовой бабочкой, и садится в первый ряд. Ее ноги сияют над ковром, ее глаза, желто-карие, еще более выпуклые, чем прежде, таят в себе смешок и удивление.
Я меняю решение, выдвигаю лабиальный регистр для флейты и вот уже готов к импровизации…
Времени больше нет. Значит так: только факты, и никакой литературы. Записки натуралиста или (без фразки все же не обойтись) командировочный отчет червя.
Вначале еще один должок своему «соврамши».
Пассаж о том, что я не просил добавки к обеду, звучит, конечно, гордо, только это неправда. Иначе кто же в здравом уме, после того, что случилось воскресным утром, пойдет обивать пороги и нудить о подтверждающем документе.
Стало быть, в глубине души я по-прежнему думал, что смерть – это ужасное приключение, из которого не возвращаются, да, но у которого все же есть свой вектор и смысл, своя (опля!) перспектива. Не вернувшийся, оказывался, быть может, даже с некоторым выигрышем, о котором мы никогда не узнаем. В моих глазах выигрыш от этого терял в цене, но дело сейчас в другом.
Смерть могла быть добровольной, этот выбор мне почему-то был понятен с самого начала. Похоже на отталкивание от берега в лодке без весел, желание захлебнуться в жаркий день или невыносимую ясность и одновременно мерклость зрения после исчерпанного плача. Тогда я понимал, что самое страшное в смерти не неизвестность, а именно неотвратимость. Поэтому и не могло быть ничего ужаснее, чем подлое, одностороннее нарушение договора – внезапная или насильственная смерть, то есть убийство. Даже дряхлый или больной в последний момент, пусть перед лицом неизбежного, успевал дать свое согласие, которого терпеливо ждала смерть. Это могло быть связано, например, с уменьшением уровня самосознания по Тегмарку, благодаря чему оно оказывалось доступней соблазну посмертной выгоды и так далее, не знаю. Так или иначе, перед невозвратным путешествием необходим был момент сосредоточенности, собирания сил и внутреннего примирения.
Ужаснее внезапной и насильственной смерти было только самоубийство и почти в такой же мере – самовольное исчезновение. Говорю о своих детских ощущениях, которые с тех пор не сильно изменились. В бегстве, как и в самоубийстве, было нарушение какого-то важного закона. Оно лишало человека той самой, «опля, перспективы», и было едва ли не страшнее смерти.
Так я это чувствовал тогда. Теперь уж ничего не стоит сослаться, например, на авторитет Сократа, который, как известно, предпочел смертную казнь бегству из тюрьмы: «Сокровенное учение гласит, что мы, люди, находимся как бы под стражей, и не следует ни избавляться от нее своими силами, ни бежать».
Воскресное утро застало меня врасплох. В нем была внезапность, вероломство и одновременно немая паника, что уже можно было квалифицировать, как готовность к бегству. Так это, кстати, и было воспринято родными – они не поверили.
Нужно было что-то делать. Ведь и сам я помнил исчезновение отца как побег, мне нельзя было наследовать эту традицию и оставлять семью в горе недоумения, которое еще невыносимее, чем горе смерти.
Можно предположить, что это было буржуазной боязнью умереть без камня с табличкой. Но… не так просто. Если знать окончательно, что нет ни возврата, ни пути, то к чему вообще эта архитектурная сентиментальность? Такое тщеславие было бы только забавно, не надо далеко ходить – любое кладбище развернет перед вами эту самую смешную из человеческих книг.
Говорю серьезно и честно: я верил, что улетающий дух зацепится за камень. Сегодня люди живут без памяти, как одержимые или сумасшедшие, но когда увидят прямую связь всего, что делают, со смертью – поверят в смерть и непременно опомнятся. Тогда-то и начнут они по этим камешкам отыскивать своих умерших. Даже Бродский, немало упражнявший свою фантазию в представлении о продолжении жизни как распаде, свободе от клеток и апофеозе частиц, в минуты отдыха от брутального надсада возвращался к памяти: «Ушедшие оставляют нам часть себя, чтобы мы ее хранили, и нужно продолжать жить, чтобы и они продолжались. К чему, в конце концов, и сводится жизнь, осознаем мы это или нет».
Что бы вы мне ни говорили, эта убежденность (или надежда) не имеет никакого отношения ни к суевериям истерического сознания, ни к литературе, ни даже к упадочному тщеславию. Солдаты на войне выписывали свое имя на гимнастерке или на внутренней стороне пилотки, потому что больше смерти боялись исчезновения. Рядом с именем записывали еще адрес родных. Любовь против забвения. Эта вера, быть может, единственное, что сильнее самой любви.
А может быть, думаю сейчас малодушно (про себя, про себя), это все же род глупости? Да не «род глупости» (щадящая форма) – сама глупость? Если бы мир состоял из таких, как я, то конец его был бы встречен не грохотом и не всхлипом, а вяком. Потому что обманул, блин, пирог, паскуда, верни на место кубики с рафаэлевской бирюзой в правом верхнем.
Гитара, как натурщица, лежала на коленях. Эрекция была равна бессмертию, тем более что отдавались, дуры, за гонор и лимонную улыбку непризнанного гения. Теперь выяснилось, что женщина не только манящий объект, но и алкающий субъект. С эрекцией куда ни шло, где, однако, бессмертие?
Слуху нечего было ловить, кроме звука космических лобзиков. Зрению отказали. Я присел на полу (сказал бы в уголке – но не было уголка), лицо мое представляло собой даже мне не интересную гипотезу. Хоть бы запахло откуда-нибудь кухней или силосной ямой. Пол посыпан антисептиком, который скрипит под моей задницей. И февральский сугроб на другом краю вселенной о чем-то молится перед коптящей свечкой. За здравие или за упокой? Неважно, по мне его сопли точно не льются. Я – вычитание. Минус единица. Ископаемая рептилия, заявившая свое право пресмыкаться и после исторических неудобств оледенения.
Мне вспомнилась смерть Диброва. Колы, выведенные чернилами в журнале и выросшие забором перед так и несостоявшимся путешествием в Опочку с родителями. Портрет святого семейства, в котором был лишним не отец, и не мать, а я. Отравленный воздух, накачанный возбуждающими благовониями рая, коммунизма, победы добра над злом. Почему они меня не сделали хотя бы террористом?
Улыбка большедомовского писателя, знавшего наизусть мои неопубликованные рассказы. Уже понимая смысл этого всеведения, я и тогда не отказался от чая с лимоном.
Воробьиные глаза сыновей после моего умопомрачительного загула. Переставшая меня искать во сне рука Леры. Встречи на чужих квартирах, похожие на любовные потасовки, когда трусы и лифчики сбрасывались с остервенением, чтобы организовать явление очередного гения чистой красоты.
А запущенная в детстве программа продолжала, между тем, работать. Что это было, хотел бы я знать? Вера? Слишком сильно или слишком дохло сказано. Отдает стародевической, обреченной тоской. Шкодник во мне тут же хочет возразить. Была, может быть, и тоска, но, но… Снова литература. Память о первоначальном толчке удивления и чувстве вовлеченности в лапту, любовь к соседке, страда пахнущего крышами дождя. Ох-ох-ох! Диабетический щербет.
А может быть, эта программа была запущена большим испугом, вовсе не удивлением? Память об испуге со временем претворилась в жадное жизнелюбие, которое влекло к бесконечному разнообразию, то есть к бесконечным повторам, в последнем приближении – к повторению жизни? Необходимо, правда, иметь достаточно пошлый ум, чтобы так чувствовать и этого хотеть, а кроме того пребывать в уверенности, что чувство это исключительно индивидуальное.
Я вам сейчас объясню (голос шкодника). Это не то, не личное, а (как бы сказать?) – биология переживания. Не совсем и биология, впрочем, или тогда уж вторая биология, как об искусстве говорят: вторая реальность. Гуманизмом было пропитано все, от первого школьного звонка до воспоминаний взрослых о войне. Даже природа подчинилась ему и была в этом оркестре первой скрипкой. В этом счастливом поезде были неприятные попутчики, да. Ежедневная досада, отец и мать, не желающие сойтись в компанию, прокурорские голоса продавцов, кондукторов, дикторов, плакатов, учителей, милиционеров, а потом и догадка, что путь человечества не только усовершенствование способов уничтожения, но и просто бездумное, веселое, карнавальное шествие в поля самоаннигиляции. Но от этих попутчиков можно было отвернуться к окну, за которым проплывали дачные аналоги бессмертия.
К тому же, всегда под рукой адвокатские доводы так называемой культуры. Вот и сейчас, как всегда на краю, появились соболезнующие, ободряющие, готовые стать примером. Подошел любвеобильный Матисс, который во время войны писал цветы, похожие на женщин, и длинностеблевых женщин с лицами позднего цветения. Ханс Шерфиг, датчанин. Пока человечество погибало, он наблюдал жизнь пруда и открыл, что прокус пиявки – игрекообразный, а испуганные ужи пахнут чесноком. Компании, по большей части, подбираются для оправдания, и всегда, заметьте, нет недостатка в кадрах.
Из всех фантастических вариантов веры во мне взяла верх самая расходная и нерентабельная. Бог, да, но с ним связана скорее надежда, а не вера, ноющее или вдохновенное, говоря церковным словом, упование (такое же пассивное и безличное, как «дом рухнул», «гром прогремел», «вишня выросла», «боль ушла», «дождь прекратился»). Еще, конечно, как почти у всех, вера в науку. В этом пункте мы, должно быть, сошлись, а возможно, и круто разошлись с Антиповым.
Но главное, главное, повторяю: временная жизнь людей однажды закончится. Пройдет великое недоразумение, тогда и смерть каждого отступит, и человек будет уходить в нее по желанию, когда призрачный выигрыш покажется ему интереснее, чем сама жизнь.
То есть, говоря прямо, я верил в людей, вернее, в их преображение. Придется признать, что вера эта была подобна вере в чудо, потому что сам я этому преображению мало чем мог поспособствовать. Если не считать детского ординарного набора героических грез, попытки мои были арифметически ничтожны или неудачны. Два года учительства закончились тем, что ученики меня полюбили, ничего из наших пламенных уроков не поняли, а я возненавидел школу. Своих сыновей я не мучил воспитанием, вероятно, считая себя (вполне ошибочно) примером достаточной воспитательной силы. Я встречал гримасой их попытки быть вежливыми и показывал, что ценю искренность, поддерживал с малолетства всякую возможность рискованного поступка, осуждал и восхищался чем-нибудь или кем-нибудь, не таясь; с жизнью и печалями Робинзона, Онегина, Дон Кихота или чеховского архиерея они познакомились раньше, чем окончательно пропали в дворовой компании. Там преподанная мною наука жить не по правилам, а по совести и любви была подвергнута серьезной реформации, последствия которой я осознал не сразу. Еще одно арифметическое действие заключалось в том, что я спасался от приступов черно-белой депрессии гимнастикой сверх человеческого великодушия, и это единственное, в чем до некоторой степени преуспел.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.