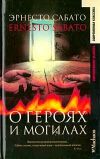Текст книги "Ваша жизнь больше не прекрасна"

Автор книги: Николай Крыщук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
Определенные надежды возлагал я в плане всеобщего преображения на свое сочинительство, но эта история вам известна. В эпоху Великой Перетерки возникло ощущение, что часы истории впервые в жизни показывают одновременно и личное, и общее время. До решения задачи было рукой подать. Это состояние длилось несколько месяцев. На радио я продлевал его уже, пожалуй, искусственно.
Стоит ли говорить, что вся эта любовь была безответна и доставляла немало страданий. Теперь мне ответили взаимностью. Вот, собственно, и вся история. Точка. Конец.
Но все же не конец, господа, еще нет. Читатель, без сомнения, это и сам поймет, пролистав несколько страниц вперед. А выразился я так только из потребности в брутальном жесте, у которого в последнее время появляется все больше поклонников. Отчасти в этом виноват мой городской сосед, волей судьбы заслуженно ставший нобелиатом. Обсуждать его, как вы понимаете, я не намерен, но замечу, что нет ничего опаснее и смешнее, чем перенимать и присваивать повадки гения. Люди, между тем, только этим и занимаются. И брутальность у них является обычно формой истерики, которая каждую секунду готова сорваться на женский фальцет.
Этим небестолковым наблюдением я признаюсь, что характер моего состояния для меня не является секретом. Как и страсть к высоким размышлениям. Я, увы, принадлежу к тем, кому они приходят в голову чаще, чем физиологические позывы справить нужду или чувство голода. Заканчивается это, чаще всего, каким-нибудь постыдным казусом. Но потребность сильнее.
Иногда мне кажется, что я принадлежу к тем сомнительным существам, которые живут как бы без тела, то есть играют сами с собой в прятки, но при этом всецело сосредоточены на добродетели, красоте или поиске истины. Совсем как русская словесность, которая до недавнего времени не знала пристойных слов для обозначения гениталий и соития. Получалась любовь немного, что ли, садовая, состоящая из прелюдий и горячих разговоров.
Впрочем, дело, вероятно, не только в этом. Могу снова с огорчением сослаться на любимого Сэлинджера, вернее, на его героя Симора (или в другом переводе Сеймура), изрекшего (не без подсказки автора, конечно) еще в семилетнем возрасте: «Очень утомительно поддерживать отношения, в которых нет внутренностей, обыкновенной человеческой глупости и общего знания, что под кожей у каждого есть мочевой пузырь и разные другие трогательные органы».
Безславные ублютки
Еще до того как девятый вал вступил в силу (а он был уже вот, здесь: в шорох древоточцев стали проникать крики, да такие веселые, пляжные, с гоготом раскрепощенной плоти – ничего опаснее нет, чувствую, как говорится, печенкой), страх овладел мной, один из многих страхов, не имеющих прямого отношения к жизни и смерти, но сопровождавших меня с младенчества.
Страх – первое переживание, которого мы обычно не помним, что и обеспечивает в дальнейшем вечную неожиданность и новизну его. Мы как бы проверяем жизнь на забытое знание. В детстве я засовывал на палке кольцо от сачка в печку, после чего зажимал его ладонью. Ожог был страшный, я кричал, плакал, терпеливо сносил жалость взрослых и никак не облегчающие боль процедуры, но, в сущности, был доволен тем, что сделал: перескочил пропасть и остался живой. Этим опасным приключением не с кем было поделиться, оно принадлежало только мне.
Когда для меня надували шарик, я думал уже о том, что сейчас буду его мять, царапать ногтем и в какой-то момент он непременно лопнет. Я буду стараться, но произойдет это все равно неожиданно, и от выстрела резины может случиться разрыв сердца. Ради него-то все и затеяно, ради этого, в конечном счете, и надували шарик. Смерть красоты должна отозваться смертным испугом или даже собственной смертью. «Сильней надувай, сильней!» – кричал я с дрожью и восторгом, который родители воспринимали с умильной непроницательностью.
Но это все так, еще не сам страх, а может быть, его близкий родственник. Настоящий страх связан с неизвестного происхождения стуками и шорохами, с самостоятельными тенями, которые в любой момент могут наскочить на тебя. Так пригибаются от тени птицы. Сама птица, что? Можно отбиться палкой. А тень? Она ведь только сигнал опасности, бесплотный ее вестник.
Впрочем, так же страшен и земной признак инфернального. Как в толстовском «Упыре». Как узнать упыря в старушке бригадирше или в ее приятеле Теляеве? Да очень просто. Заметьте, как они, встречаясь друг с другом, щелкают языком. По-настоящему это не щелканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак.
Страшно.
У нас в бараке, с женой и беленьким сынишкой, жил плотник Михаил Иванович. Лицо его вызывало в памяти одновременно жабу и кавказскую овчарку. Глаза, как яркий серый день, были плотоядно-веселыми, точно у голодного в предчувствии еды. Главным ключом к описанию его тела был куб, а ботинки, которых он не снимал и дома, были нагло заостренными, точно когти зверя, о существовании которого вслух говорить было нельзя.
Мрачным или злым я Михаила Ивановича не видел, но боялся его едва ли не до обморока. Особенно когда он смеялся. Сначала растекались губы, увеличиваясь вдвое, потом открывался рот. Еще позже вступал сильный, отрыгивающий голос. А рот раскрывался так, как будто он собирался на спор откусить голову у теленка, но тот упирался, и это веселило Михаила Ивановича и заставляло рекордно длить смех в ожидании удачи. Белые глаза счастливо выкатывались (один чуть косил), в них становились видны черные мушки. Да, он был стопроцентно жизнерадостным, с рычащей любовью тискал женщин и детей, уклониться от этого можно было только в шутку, что не отменяло принудительного повторения объятий. От проявлений нелюбви он был прочно защищен.
В одно апрельское воскресенье Михаил Иванович убил топором жену и сына. Это не я придумал для подтверждения своей проницательности, сама жизнь так вульгарно распорядилась. Увели его, когда я еще спал. Милиция опросила всех, кроме детей. Да и какие я мог дать свидетельские показания? Смех плотника не доказательство, как и щелканье упырей. Все это тени, случайные проговорки неведомого.
В той же мере страшна тень черта, а не сам черт. Он ведь балагур, не слишком тонкий остроумец и отчасти комплексует если не по поводу хвоста или, там, рогов, то по поводу суетности своего ремесла.
Когда существует контакт, всегда остается надежда. С тенью в контакт не вступишь, от предчувствия могут спасти разве что транквилизаторы, и то ненадолго. Но аптечная тема вообще в нашем разговоре лишняя. Тень черта мы подкармливаем собственной фантазией, поэтому она бессмертна.
В этот момент справа по коридору возник, пропал и снова возник, буквально выстрелил белый поток света. Бесшумными взрывами волновалась прозрачная пыль. Потекли и завихлялись тени голов, потом их обладателей.
Вопреки собственным ожиданиям, я не испугался, тело само подобралось, зрение стало суровым и пристальным, как будто мне предстояло прыгнуть с высоты в воду. Я успел подумать, с некоторой даже усмешкой, что в конце хитроумных дьявольских происков непременно должны появиться кулак и нож. И ради меня не было, конечно, нужды придумывать что-то особенное. Где же и как же еще убивать? Ради непонятной теперь и для меня самого выгоды я добровольно залез в мешок и разрешил его завязать. Поздно теперь думать. Странным образом, я был этому даже рад.
Крики становились явственней и ближе. Кричали так, будто в детстве их мучили глухонемые родители или припадочные няньки. Я уже слышал тяжелое дыхание нескольких грудных клеток, смех и кашель.
– Да харе ты демократизатором! Откинется, падла, – сказал кто-то.
– Ибаццо, ибаццо и еще раз ибаццо! – весело ответили ему.
Убийцы с грохотом выкатили на середину коридора тележку, в которой лежал связанный человек и, раскатав, пустили ее мне навстречу.
– Прощай, кудрявый! – крикнул один из толкавших. – Дыши глубже! Деньги на поминки копи! Чтоб там водочка, куриные друмстики… Ну, сам знаешь.
Его поддержало всеобщее ржанье и улюлюканье.
Они еще стояли так некоторое время, переговариваясь между собой и не замечая меня. Я, на всякий случай, умалился, вписавшись в черную стену.
– Пошли. Пчелы заждались. Ты ведь запал на белокурую, малыш?
Малыш выдержал паузу и зло процедил сквозь зубы:
– Чарльз Дарвин.
Мне некогда было вдумываться в смысл этой странной перепалки. Тележка замедлила ход у моих ног, и я узнал лежащего в ней Кирилла Назарова, ведущего светских и криминальных хроник, с которым мы не так давно, как мне казалось, расстались в курилке. Тут же припомнил заказанные на поминки друмстики. Жертва действительно любила поесть и выпить, причем не меньшее значение придавалось, апропо, смакованию названий блюд. Тут злодеи попали в точку.
Вид у Кирилла был и жалкий, и страшный. В клетчатой фланелевой рубашке, он откинул голову, наподобие прикованного к скале Прометея, спеленатого скотчем. Лысый череп преподносил зрителям жидкие островки спутанных волос. На лице застыли ручейки крови. Они стекли со лба и издевательски очертили сугробики одутловатого лица, придав ему подобие улыбки. Веки были запечатаны свернувшейся кровью и не могли открыться. Если они вообще могли и хотели открыться, то есть если Кирилл был еще жив.
Назаров – не из самых приятных моих знакомцев. Его масленое лицо, обшаривающие глазки и хихик-усмешка всегда вызывали предчувствие готовящейся каверзы. Шакалий нюх и любопытство было сравнимо только с его же дремучей нелюбознательностью. «Я – человек неосновательный, – говорил про себя Назаров. – Темперамент такой».
Был у него, помнится, напарник по кличке или по имени Витёк. У обоих – поразительная реактивность на зреющий скандал, будь то свадьба нудистов или тайное свидание депутата от демократов со швеей. Иногда мне казалось, что они сами эти скандалы организовывали, причем Витька всегда пускали первым, он шел вдохновенной ищейкой и провокатором, а Назаров являлся, когда базар уже был в разгаре. Репортажи их пользовались успехом, любовь друг к другу вызывала удивление. Родство душ двух славных гаденышей. Иногда Назаров, глядя влюбленно на своего напарника, говорил:
– Витёк – классный пацан. Что о нем только плохое ни подумаю, он тут же подтверждает.
Витёк плавился от похвалы. По какому-то счету определенно они стоили друг друга.
Но жалкость смерти плохо уживается с неприязнью. Не то чтобы начинаешь ее стыдиться, однако вид несчастья не дает ей ходу. Беспомощный, окровавленный Кирилл вызывал у меня тварное, то есть самое искреннее сочувствие, в основе которого, я знал – жалость к себе и мысль о том, что могу оказаться в таком же положении. Физическая немощь нагляднее, потому и отзываться на нее легко.
Отцовским ножичком, который с детства всегда был у меня в кармане, я разрезал скотч. Почувствовав свободу, Кирилл тихонько застонал, потянулся ладонью ко лбу и тут же отдернул руку. Лоб был исчерчен правильными, запекшимися бороздами. На него смотреть было страшно, не то что трогать.
Назаров медленно наслюнявил пальцы, потер глаза и точно Вий, с трудом, то есть не сам, а с посторонней помощью нечистых сонмищ, поднял веки (они дрожали и сопротивлялись) и затравленно посмотрел на меня.
– Пить, – прохрипел он где-то между си и си-бемоль. Точнее, решил я, подумав, си-бемоль малой октавы.
У меня мелькнула подлая мысль, что и в этом своем мученском состоянии он не столько страдает от жажды, сколько хочет походить на советского и одновременно американского солдата из киноэпопеи. А может быть, и вообще прикидывается жертвой с дальним прицелом на сенсационный сюжет?.. Но все это была, конечно, только моя предубежденность. Назарову сейчас было не до кастинга. Да и не мог же он сам себя изуродовать!
– Надо искать, – сказал я. – Ты подняться можешь? Черт сломит ногу в этих катакомбах.
Сказав о катакомбах, я почувствовал его товарищем по несчастью, и ко мне вернулась прежняя растерянность. Куда теперь идти? Кого звать?
Хотелось узнать, конечно, и о самом происшествии. Благополучно, как мне казалось, уйдя от слежки, я уже почти уверился в том, что в Чертовом логове генерируются издевательства, так сказать, только духовного порядка. Крики встряхнули мой благодушный барометр, стрелка вновь заколебалась между «ненастьем» и «бурей». Человека натурально покалечили, в стиле самых беспощадных боевиков.
Но сейчас было не до вопросов.
Слева от нас открылась дверь, существование которой было для меня новостью, и в полыхнувшем свете послышался женский шепот:
– Сюда!
Не раздумывая, я взвалил на себя обмякшего Назарова, который, как я понял, серьезно укатался еще и от выпитого, и втащил его в комнату.
Комната была ординарна, как трехзвездочный номер, разве чуть просторнее и чище. В углу, конечно, приглушенно работал телевизор. Вообще жилищное устройство здесь напоминало коммуналку по-швейцарски: максимум комфортной автономии при максимуме же пространства для общения.
Назаров ястребино приоткрыл один глаз и рухнул на пикейное одеяло, ровно покрывающее полуторную кровать. Оно было такой зимней белизны, расшитое такими белыми, шелковыми, не существующими в природе цветами, что, несмотря на чрезвычайность ситуации, я слегка вздрогнул.
На хозяйку, привыкшую, видимо, и не к таким контрастам бытия, это бесчиние не произвело впечатления. Катя за нашими спинами мило хрюкнула в нос и засмеялась высоким голосом:
– Какая прелесть!
Назаров в ответ возмущенно завыл и, не открывая вновь упавших век, с треском дернул на груди рубаху.
– Не надорвись, можечокнутый! – без тени раздражения сказала Катя, заливая ему в рот ложкой воду. Потом бросила в мою сторону: – Все клейменые ведут себя как Александры Матросовы. А?
Она открыла шкафчик и достала из него бутылочку с болотной жидкостью.
– Завтра снова жить захочешь, дурилка картонная, – сказала Катя. – Хотя, – заметила она философски, – детство, конечно, кончилось.
Эта грустная фраза в ее устах меня ужасно рассмешила.
После дикой встречи на вахте мы с Катей еще не перемолвились ни словом. Я с удовольствием наблюдал, как в своем голубом махровом халатике, из-под которого, словно в танце, то и дело просились наружу вызывающие ноги, она колдует над компрессом. Кстати, треугольного платочка не было и в помине. Домашняя обстановка его, видимо, не предполагала.
В экстремальной ситуации женщины открываются удивительным образом. Сноровка и уют читались в каждом движении Кати. Может быть, для этого женщины, в первую голову, и созданы, подумал я, а любовь и рождение детей – так, только хобби природы.
– Лекарство всегда под рукой? – спросил я, пытаясь выказать интонацией одобрение и в то же время до некоторой степени прояснить ситуацию. – И часто у вас так?
– Отвар коры, – по-деловому ответила Катя. – Ивы козьей.
– Почему козьей?
– А любят ее козочки.
– Что у него на лбу, не пойму. – Я заметил, что о больных и сумасшедших часто говорят в третьем лице, точно они грудные дети или покойники. Правильно ли это? Но сейчас мы в присутствии Назарова говорили о нем именно так, и он, что характерно, сносил безропотно.
– ИРИС, – ответила Катя таким безвитальным тоном, как будто сказала «прыщик».
– Цветок?
Девушка посмотрела на меня, как на недоумка.
– Буквы? Клеймо? – попытался угадать я.
– Ну, – Катя утвердительно мотнула головой.
– И что оно значит?
– И раб, и стукач.
– Что? Назаров? – воскликнул я с наигранным удивлением, под которым проницательный человек уловил бы тайное одобрение. Было в этой формуле революционное, размашистое попадание, какое степенному суду и не снилось.
– Если его фамилия Назаров, – сказала Катя.
– Какое-то средневековье. Уголовщина! У них что – есть доказательства?
Я говорил сильно, но не искренне. То есть как и должен был говорить цивилизованный человек, давно в цивилизации разуверившийся.
– Ребята считают, что все негативы заслуживают клейма.
Катя помолчала и, укладывая компресс на лбу бездыханного Назарова, прибавила:
– А я, когда Угольник был пущен вместо носового платка, решила, что ты тоже нешуточный. Ошибочка вышла! – Катя едва заметно усмехнулась.
Второй раз на этом подземном стадионе женщина переходила со мной на ты. И, кажется, второй раз я оказывался не на высоте ее ожиданий. Что бы это значило?
Во всяком случае, я понимал, что справочка о собственной кончине в обоих случаях была бы воспринята как уловка симулянта.
В Катином «ребята» было столько тепла и приязни, что, хотя с этими штамповщиками на живом меня ничего не связывало, я на мгновенье пожалел, что не принадлежу к их компании.
Моя трижды проклятая сентиментальность и пластилиновая отзывчивость, которые навстречу любви готовы сделать из меня любую форму, лишь бы угодить вожделенному предмету. То есть безвозвратно себя уронить. Катя наверняка почувствовала это, вычислила, хотя бы из слова «уголовщина», которое папочки любят подпустить в душевном разговоре для подкрепления покачнувшегося статуса.
Ее проницательность вызвала во мне приступ злобы, которая была тем сильней, что предмет ее оставался не вполне ясен.
– Отчего же, – закричал я почему-то шепотом, – ты тогда вздумала спасать нас?
– А как? – удивилась манекенщица.
В этом ее возгласе было столько простодушного недоумения! Мол, что же тут непонятного? Кровь, крики… Однако ведь и «ребята», судя по всему, были славные. Мстители без страха и упрека.
– За дело, так за дело, – пробурчал я. – Чего спасать? Ведь так? Ребята-то правильные?
Катя чуть растерянно, но все же утвердительно кивнула.
– Тогда так. Как говорят в наших сериалах, с этого места, пожалуйста, подробнее, – продолжил я. – Что они собой представляют? Может у них там есть правила, программа… А негативы кто такие? И вообще… Они что, и сюда сейчас могут ворваться? И мне клеймо поставить?
Когда изобретал метафору мешка и сливался со стеной, даже когда увидел Назарова, я еще принадлежал в некотором роде к бессмертным, и только теперь, высказав догадку, вполне осознал реальность угрозы. Всё, даже страх приходит ко мне с запозданием. Сообщаемость сосудов (в данном случае, верха и низа) вполне толково ведь объяснил Викентий Павлович. Настроенность на исключительно духовные происшествия… В этом была, несомненно, гордыня, в моем случае – смешная, жалкая и глупая.
Катя смотрела напряженными, широко открытыми глазами, как будто выполняла приказ «Не плакать!».
– Этого я и боюсь, – сказала она наконец. – Хотя сюда?..
В очередной раз приходилось признать, что я ни черта не понимаю в женщинах.
Теофил Норт улыбался, глядя из угла. Для него борьба, происходившая во мне, конечно, не была секретом.
История, рассказанная Катей, была проста, как фиговый листок. Парни, которые разрисовали лоб Назарову, называли себя «Безславными ублютками». Именно такое написание они считали адекватным переводом. Впрочем, эту тонкость, как и многие другие, Катя объяснить не умела.
В сущности, так назвали они не себя, а студию, которая снимала какой-то бесконечный сериал. По словам Кати, и всё Чертово логово было большой кино– или телефабрикой. Скрытые камеры работали всегда и везде, что я знал уже и по собственному опыту. Материалы круглосуточно обрабатывались и запускались в наземный или местный эфир. Что-то вроде известных нам реалити-шоу, только круче. Как говорили они сами: круче нас только крутые яйца.
Жизнь любого из обитателей Чертова логова беспрерывно шла на монитор. При этом никто не знал и не должен был знать, в каком именно сюжете в данный момент участвует. Анонимный художник мог представить его в самом невыгодном свете, сочинить ему новую биографию, подловить на почесывании, нелепом пафосе, детском грехе или домашнем садизме. Некоторые при этом ссылались на опыт Тарковского, который запрещал актерам читать сценарий. Голова в искусстве участвовать не должна. Тем более что головки-то, по большей части, плохонькие.
Это, разумеется, требовало от «актеров» определенного рода смирения и самоотверженности. Тем не менее все относились к делу с повышенной ответственностью.
Жили по потребностям, как при коммунизме, поэтому суть была не в гонорарах.
– А в чем? – недоумевал я, испорченный земной практикой.
– В конце недели каждый получает свой рейтинг, – объяснила Катя.
– Он нам зачем?
– Ну, считается, что рейтинг влияет на пролонгацию.
– Пролонгацию? – продолжал недоумевать я, хотя после речи архивариуса, в общем, уже догадывался, о чем речь.
Катя молчала.
– Так считается или влияет?
– Почем я знаю?
Значит, перспективы держали обитателей ЧЛ тем прочнее, что оставались всегда неопределенными, при строгом, разумеется, учете (рейтинги!). В то же время производство работало самым нешуточным образом. Такая получалась взрослая клоунада.
– А вот, если по сюжету убийство или там, как в случае с Назаровым?
– Ну убивают.
– Тебе не жалко?
– Ну жалко.
Катины ответы, судя по их лаконизму и скорости возникновения, не предполагали внутренних противоречий. Что-то мне это напоминало. Вроде рекомендуемого ответа на вопрос глупого иностранца: почему при выборах в СССР выдвигается один кандидат на одно место? «Такова традиция».
В толерантном отношении к злу было нечто философское. Мол, зло присуще жизни онтологически и так далее. Философа, однако, с его ветхими доводами, ничего не стоило опрокинуть – уверенность Кати поколебать было невозможно.
Мне вспомнилось пророчество нашего доморощенного философа о том, что механизм гибели европейской цивилизации будет заключаться в параличе против всякого зла, всякого негодяйства и злодеяния. Дело, как он считал, в извращении стержневых, на роду написанных добродетелей. В Греции это был ум, в Риме – volo (то есть установление и повеление), у христиан – любовь. Теперь «гуманность» общества и литературы и есть ледяная любовь. Ледяная сосулька играет на зимнем солнце, болезненно юродствовал философ, и кажется алмазом. Вот от этих «алмазов» и погибнет мир.
Образно, конечно, но все-таки плод ума. Да и не мог старый пройдоха знать, что гуманизм из нашего общества и литературы выветрится в одночасье.
Однако его прогноз бил не совсем мимо. Напротив, ледяная любовь стала, можно сказать, обыденным состоянием, то есть, дискурс (о! как не блеснуть на фоне всеобщего оледенения!) обрел форму закона. Доводы разума тут бессильны.
Но Катя? Услышав зов пола, я уже не мог думать о ней иначе как об исключении. Катино «ну» приводило меня в отчаянье. Между нами только что рождалось, можно сказать, что-то вроде любви. Теперь для меня делом жизни было выяснить ее химический состав.
Проснулся Кирилл и забормотал жалобно. Он, похоже, бредил и поспешно, в смертельном цейтноте что-то пытался объяснить своему назначенному убийце, взывая к его сентиментальным чувствам и одновременно к здравому смыслу. Но профессия выучила его только скандально высокопарному тону.
Для начала была песня.
– Трое суток шагать, трое суток не спать… – пел Кирилл, всхлипывая и вдохновенно. – Сюжеты не дают покоя. Даже ночью. В мозгу баня. Ноги гудят. Мы все из клуба горящих сердец! – крикнул он и зарыдал.
Если бы я не ел с ним много лет из одной миски, эта исповедь Данко могла бы тронуть и меня.
– Человек отползает свое, слижет, так сказать, собственный пот и слезы с чужих ботинок… Ему нужна передышка. Как не понять? Подъем самосознания! Вечером он должен увидеть соседа, да в таком ауте, с такой улыбочкой, как будто тот еще и просит добавки у Бога. Вот тогда-то душа его, да, возрадуется, ползанье на карачках покажется просто добровольным видом спорта. Утром снова можно брать свой крест и с чистым сердцем тащить его, куда прикажут.
Как его, однако, прорвало! Сколько пафоса, подумал я, таится и в самом ничтожном из нас.
– Ничью голову засовывать в петлю не надо. Вот еще придумали. Каждый носит любимую петлю с собой. Мы только помогаем судьбе, соответствующе высвечиваем ее удачную шутку. Она – художник, импровизирует, а мы… Мы – на посылках. За что же нас, спрашиваю я?
Мне было ясно, что Назаров произносит речь, которая давно просилась из сердца, но во время экзекуции ей не нашлось места или просто обвиняемому по техническим причинам забыли предоставить последнее слово.
Он открыл глаза и впервые, кажется, увидел меня по-настоящему, то есть понял, что я не помстился ему, и до меня можно дотронуться рукой. Всплывшая перед ним в моем лице реальность как будто что-то перевернула в сознании Назарова. Он сосредоточил на мне трезвый, осмысленный взгляд, какой случается у безумцев, когда им кажется, что единственный их спаситель и доверенное лицо послано провидением.
– Рассказывай, Кирилл, – попросил я, выражая интонацией сочувствие и уверенную надежду, как психотерапевт.
– Еще с утра болела голова, – начал Назаров человеческим голосом. – Дикий насморк. Течет из носа и из глаз. Глотнул виски – совсем в сон потянуло. Думаю: пропадите вы пропадом! Не пойду на радио. Отдых нужен даже ишакам. Ну правильно? Дети гундосят в соседней комнате. Ненавижу! За те же деньги, думаю, можно было бы жизнь и комфортнее устроить. Бассейн там, сигарная комната, зимний сад с патио-баром. Как у всех. О жене уж не говорю. Тогда да! А то носишься с высунутым языком, питаешься только на приемах, в релаксацию бегаешь к хрюкающим дядькам. Квартира трехкомнатная, можно сказать, коммунальная. Еще и тащись им в предсмертном состоянии на работу.
Сердце мое екнуло при этих словах приятеля. Я живо вспомнил свое последнее утро.
– Но ты же знаешь нашего брата, – с тихим, мужественным поскуливаньем продолжал Назаров. – Завтра эфир. Тема горячая. Витьку не поручишь – он, глядя в компьютер, умеет только моргать. А с Пиксанова на утреннем заседании должны снимать неприкосновенность. То есть дорога ложка к обеду. Верно? Я же еще помнил, что у меня в архиве завалялась его речь на день защиты детей. Так меня эта мысль грела. Ведь он, вертун, нажил пять миллионов как раз на детском доме. То что надо. Его еще и в педофилии собираются обвинить. По-теперешнему, значит, мужика ждет, может быть, химическая кастрация. В общем, я, на свою голову, загорелся. Покурил с ребятами, спускаюсь в архив. Ну пленочный, под вторым корпусом. Давно не был. Там все только что паутиной не заросло. Никому теперь не нужен наш золотой фонд. Документальные записи вообще не на полках, свалены горой в углу. Коробки перепутаны, света никакого. Я по интуиции отобрал три коробки, пошел искать нашу верную «Соньку». Там, если помнишь, три ступеньки вверх и в конце коридора старая аппаратная. Иду, иду – нет никакой аппаратной. Такое ощущение, будто засовываешь руку в рукав, а она все никак не выйдет. Повороты, две ступеньки вниз, три ступеньки вверх, чуланчики, пустые кухни с эхом – как после войны. Свежие комары стали доставать. Ну, думаю, если у этих паразитов лётный день, значит, скоро во двор выведет. Все равно обратного пути не найти, столько поворотов накрутил. Тут послышался какой-то гуленный шум, иду на него, свет уже появился рассеянный, поворачиваю и оказываюсь в огромной студии или мастерской, где вовсю идет веселье. Девушки вокруг стола крутятся, как в кордебалете. Понимаешь ты, они показались мне все знакомыми. Когда, с кем пил водку, разве упомнишь? Я уже закомплексовал, что они меня по имени, а я… Тыкаю в ответ, конечно, но без имени, и мы от этого становимся почти как родня. В общем, приняли по-братски, стали кормить, наливать. Больше, сволочи, наливать. А я ведь простужен, пью вроде лекарства, с кем-то уже целуюсь. В углу камин горит, тепло, прямо, мальчик у Христа на елке. А потом уж началось это светопредставление.
– У мальчика-то плохо закончилось, – не утерпев, встрял я в воспаленный монолог коллеги.
– Ну так и я про то же!
Тут Назаров соврал. Поддакнул в расчете на полноту участия. Достоевского ему читать, конечно, не приходилось.
Путаница в голове Кирилла была не хуже чем в радийном архиве. Например, отдельных слов для определения конца света и светильника с «голой» люминесцентной лампой в его черепной коробке предусмотрено явно не было.
– Потом что-то меня стало настораживать. Слышу – ботают по фене. Но не как мажоры, а скорее… шлеппера, что ли. Даже я не все понимаю. Хотя и с таким народом от дружбы никогда не отказывался. Постепенно начали ласково так наезжать. Соображаю, что они вроде в курсе моих дел, только как бы не с моей, а с чужой стороны. Хотя, может, и это мне с перепугу показалось. Потому что явно не в теме, путаются. И вся-то информация, похоже, из моих же передач, а они будто отрицательную рецензию гонят, ловят на противоречиях. Вертолеты, в общем. Но, говорю же, ласково, мол, чего там, свои ребята, болтаем и всё такое. Во! Еще огнетушитель принесли. Наливай Кирюхе, полную, так… Падлы!
Кирилл снова всхлипнул, но набрал еще дыхания и продолжил:
– Кишку уже все набили, пузырей полный стол. Тогда подваливает ко мне их туз. Похож на неандертальца. «Отпираться, – говорит, – Кирюха, смешно. Грешен? Грешен. Ты нам, в общем, подходишь». – «В каком смысле?» – спрашиваю. А сам по инерции продолжаю улыбаться, вроде как добросовестно пытаюсь оценить шутку друга. «Ну, в каком? Ты ведь подлец? Подлец. А думаешь, что толстовец. По левой щеке тебя бьют от души, а ты хочешь, чтобы и правую не обошли вниманием. Служишь тем, кто тебя презирает и использует. То есть как спаниель – ложишься брюхом кверху, когда пинают. И своих собратьев, таких же, как ты, спаниелей, топишь каждый день или засовываешь в петлю. Ну разве не подлец, ребята?» Те в ответ гогочут: «Подлец!» – «Берем тебя в свою кинуху. Послужишь последний раз человечеству». Только тут я заметил над входом транспарант: «Безславные ублютки. Документально-художественное мыло». Представляешь, все еще продолжаю улыбаться. Не верю, что всерьез. «Ремейк, что ли, снимаете?» – «Ремейк, ремейк, – смеются. – С плавным переходом в сиквел. Сейчас мы тебя проштемпелюем». И показывают мне две дощечки с иглами – одна поменьше, другая побольше. На второй что-то вроде «Дикси» наколото.
Катя, до того бестрепетно общавшаяся с телевизором, вдруг откликнулась:
– ДИССИК – дави иуд, сексотов, сук и коммунистов.
– Вот-вот, такая абракадабра, – поддержал ее Назаров. – Они мне перевели, забыл просто. Я им еще говорю: такая и на лбу не поместится. Я же не Сократ. И потом, в партию я не успел вступить, спасибо Ельцину. Только заявление подал. А кино у вас хоть и художественное, но все же документальное. То есть продолжаю шутить. Мол, уж лучше маленькую. Дощечку, то есть. Розыгрыш ведь. Хоть и дурацкий, но розыгрыш. А они меня, я не сказал, в кресло усадили. С высокой спинкой. Прямо у моих ушей – морды львов. По бокам плоские. Я сначала-то думал, так, из уважения. А это оказалось кресло-струбцина. Пока они мне мозги заливали, морды львов сошлись и зажали голову. Только тогда я заорал благим матом. Но было уже поздно. Боль страшная. Весь в кровище. А потом стали еще чем-то раны посыпать. Тут я отключился.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.