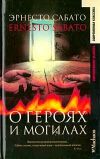Текст книги "Ваша жизнь больше не прекрасна"

Автор книги: Николай Крыщук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
– Порохом, – вновь отвлеклась на нас Катя, – они порохом посыпают, чтобы хорошо въелось.
– О-о!.. – застонал в ответ на эту информацию Назаров и снова заплакал: – Я уже вроде как во сне думаю: хотел ведь не идти. Насморк у меня. Явились бы сейчас мои домашние и подтвердили, что я опасно простужен, нельзя со мной так. У меня конъюнктивит и, может быть, даже гайморит. Только профессиональный долг вынул меня из постели. Нельзя же за это убивать. Но чувствую, что насморк от страха да и от боли прошел. И следа нет. То есть никаких доказательств. Даже если бы мои домочадцы разом явились, им бы все равно никто не поверил. Здоровый как огурец. Кого же, как не его? (Это я про себя их словами думаю). В общем, понимаю, никто мне помочь не может, никто не спасет. Никто!
На последних словах Кирилл зарыдал по-настоящему, с такой самоотдачей, как будто, теперь уже наяву переживал момент полной обреченности.
Катя, добрая, дала ему выпить что-то из мензурки:
– Поспи маленько. Будет утро, будет дело.
Он тут же послушно отрубился.
На душе было скверно. Я не мог да и не хотел принять ничью сторону в этой разборке племен. Само тело, кажется, погрузилось в равнодушие. Но не в то, великолепное, близкое к блаженству, а в равнодушие бревна, которое не помнит себя деревом. Я был урожденным бревном. Разве оно, после экстатического соития с топором, мечтает о конструкции будущего дома? Гладенькое, только-только из камерной сушки…
Что мне до всех?
Лицо Кирилла, собранное к насупленному рту, готово было для посмертной маски. Сошел бы, пожалуй, за плачущего большевика.
Люди унижают, поедают, убивают своих сограждан. Допустим. Ну и что? В глазах у одних ни тени благородства, у других – страдания. Не то что жить – играть разучились. По Шекспиру теперь бы вышло: весь мир – кино, и люди в нем статисты.
Катя неизвестно когда переоделась в шелковый бежевый халат. Вдруг понял: женские переодевания и есть суть этого балагана. Любое может быть любым. Так – пожалуйста, адвокат убийцы, распевающий жалобную песенку о беспризорном детстве, так (к следующему спектаклю подкоротите) – мантия судьи или прокурора. После спектакля заклятые враги, обняв жертву, вместе шествуют в кабак, в котором девочка надрывается, уже который год: «Позови меня с собой. Я приду сквозь злые ночи…» Тоже, видимо, на зарплате. Или верит в пролонгацию.
Я присел, а потом и лег на диванчик, который оказался за дверью.
– Знаешь, – сказала Катя, накручивая на палец мои волосы у шеи, – они все же веселые. Когда с ними – не знаешь, что будет в следующую минуту. Спрашиваю, например: «Вы сейчас куда?» Они: «В баню. Заодно и помоемся». Иногда такие чумовые тусовки устраивают…
– С легким кровопусканием, – добавил я.
Катя обижено замолчала.
– А что на их языке означает Чарльз Дарвин? – поинтересовался я, вспомнив перепалку в коридоре.
– Ну, вроде как сам такой.
– Туземцы! Не пойму только, зачем они Пиндоровскому?
– Патрон называет их «мои придворные каиниты». Иван Трофимович их любит.
– Ты подживаешь с ним?
– Он сплетник, – туманно ответила Катя. – А как ты узнал, что шеф меня не ценит?
– Просто сболтнул для знакомства, – сказал я. – Тебе это должно быть лучше известно. А вот почему ты решила, что эти каиниты охотятся и за мной?
– Я слышала. Шеф с ними говорил. Ты что-то ему должен и не отдаешь. Так? Очень он злился. Говорит: разденьте догола! Мне эта вещь нужна. Кое-что сверить. Если результат положительный, дам отмашку. Тогда можете повеселиться.
Первая мысль, мелькнувшая у меня: Катю подослали. Как ловко она уложила Назарова. Теперь моя очередь. Порция снотворного или ночь любви и – дискета у Пиндоровского.
Но и эта детективная ситуация не могла уже меня вызволить из моего состояния. Дался им некролог на Антипова! Тоже, наверное, жулик. Из их же компании. Один жулик мечтает приговорить другого. Какое мне дело?
И Катя с ними. Почему бы и нет?
Мне хотелось спать. Отдам сейчас дискету, и пусть оставят меня в покое. И девочке не надо будет трудиться над сценой соблазнения.
– А ты не знаешь, что я, собственно, задолжал твоему шефу?
Катя отрицательно покачала головой.
Интересно, а как еще в этом случае должна вести себя Мата Хари?
– Даже не догадываешься?
Девушка, присев, засовывала ватку в замочную скважину.
– Так сюда никто не сунется.
Она развязала пояс и подошла, светящаяся, ко мне. Пусть простят меня литературные скрипачи, но тело ее было честнее, простодушнее и умнее, чем показалась сначала его обладательница. Что-то подобное было в первый раз с Лерой, вспомнил я. А с Ниной? Если бы случилось? Неужели природа так проста?
– Я с самого начала поняла, что ты дикий, – тихо сказала Катя. – Но ты еще и дурак.
По «ящику», как всегда, упражнялись в версификации. С экрана риторически вопрошали и тут же настоятельно рекомендовали: «В животе – шум и гам? Принимай Эспумизан!» Рифма хромала… Хромала рифма…
В ритме царского варенья
Мне снилась бабушка.
Лицо ее проступило на стершейся монете, которую я вынул из слепящего ручья, бросил в карман и тогда только понял, что на ней была бабушка. Я достал из кармана монетку, еще холодную, и заглянул бабушке в глаза. Потом монета куда-то исчезла и осталась одна бабушка. Я подумал: хорошо, что она вышла.
Сначала я узнал ее по запаху и по манере тыльной стороной ладони вытирать мне губы от молока. Скоро бабушкой заполнилось все пространство в сенях, при этом она оставалась маленькой, едва ли не меньше меня и уж, во всяком случае, меньше, чем была в жизни.
День стоял солнечный. Ровно гудели мухи. Руки бабушки с плоскими ладонями летали над столом. Из миски она вынимала крыжовник, крепкими ногтями отсекала у него плодоножку, срывала сухую корону и бросала ягоду в кастрюлю. Лицом приглашала меня присоединиться, но я не шел. Мне казалось, что я не сумею так ловко управляться, и только буду мучить ягоды.
Бабушка показала глазами на табурет, и я вдруг сразу ее понял. Через минуту я принес и высыпал на стол горсть вишневых листьев.
Теперь ясно. Мы с бабушкой готовим царское варенье.
Торопиться было некуда. На приготовленье варенья отпущено несколько дней.
Я купался в речке, макал колючие огурцы в мед (у них и название было колючее – «теща») и хрустел ими на весь двор; мы с бабушкой ходили по грибы, чистили от сажи чугунки, кормили кур, но когда ее кто-нибудь спрашивал «Что у тебя сегодня, баба Душа?», она неизменно отвечала: «Царское сёдня варим».
И завтра, и послезавтра всё было «сёдня».
Бабушка вручала мне заколку, и мы на пару выгребали из крыжовника алмазные зернышки. Крыжовник был зеленый, недозрелый, с толстой кожей. Как полагается.
В это время на печной приступке в кастрюле настаивалась вода с принесенными листьями. Так проходили сутки.
Ягоду без зерен опускали в холодную воду для вымачивания. Менять воду надо было часто, бабушка об этом всегда помнила.
Время жило у нее внутри, не было, чтобы бабушка куда-нибудь не успевала или спохватывалась.
Вечера проходили в ее рассказах. Например, о пчелах.
Особенно важные для пчел дни наступали весной, тем более если та случалась холодной. На ветру ульи выстывали. Чтобы выделить больше тепла, пчелы начинали много есть, быстро изнашивались и даже погибали. Весной ульи надо было утеплять. Мхом, подушками, соломой, паклей, газетами – всем, что в доме.
Но и перестараться нельзя. «Тогда-то пчелки родятся более, может быть, сообразительные, но век их будет короче». Отчетливо помню, что в тот момент это связалось у меня как-то с Пушкиным, о котором знал только, что он был гений, то есть сообразительный, и рано погиб. Я испытал острое чувство жалости и к пчелам, и к Пушкину, и с уважением смотрел на бабушку, от осторожных стараний которой зависел, ни много ни мало, выбор между сроком жизни и талантом.
Наступал следующий день. Зеленую уже, готовую воду нужно было переливать через дуршлаг. Листья выкидывались в печь. Из этой воды готовился сироп необыкновенного изумрудного цвета. Остудив немного, заливали им вынутые из воды ягоды. Ягоды всплывали, бабушка прижимала их крышкой и ставила снова на огонь. Как только появлялась пенка, кастрюлю снимали, и бабушка опускала ее в большой таз с колодезной водой. Для быстрого остужения.
Если дело было утром, к вечеру снова разводили огонь, и варенье несколько минут кипело. Бледная, легкая пенка шла к чаю. На следующее утро ритуал повторялся, и так несколько раз.
Некоторые соседи, чтобы сохранить зеленый цвет, пользовались пектиновой добавкой. Но тогда, говорила бабушка, вкус начинает хромать. Получается не варенье, а венгерский конфитюр, который как раз в то время появился в магазинах. Пектиновой добавкой бабушка не пользовалась.
После наведения пробы варенье плотно закрывалось в банках и появлялось на столе только зимой, когда бабушка приезжала к нам в город.
Во сне у меня всё продолжался тот бесконечный день, и управлялся он ритмами появляющегося на наших глазах как бы исподволь, между делом, но, безусловно, главного события – царского варенья. Казалось, так же неспешно и правильно живут сейчас все люди в деревне, и сама природа знает свои обязанности рассвета, дождя или сумерек. Я даже засыпал в этом ритме, помня, что царское варенье делает в это время свою работу и ждет нас. А мы помним о нем.
Когда мальчишки позвали меня в ночное, запалили костер, посадили на коня и стеганули его сзади плетью, конь тоже как будто понес меня в знакомом мне ритме. И, хотя в конце концов я упал, разбил себе плечо и щеку, все это было только приключением. Мальчишки признали, что я держался на Тумане дольше, чем они задумали.
Тихая радость веселила меня изнутри. Я не знал, не верил, а только чувствовал, что она будет длиться вечно – ничто никогда не кончится и ничто не начнется вновь. Всего и так было в меру и с избытком.
Вдруг на пороге появилась бабушка. Вид у нее был суровый и немного растерянный. В руках она держала листок бумаги.
– Из школы приходили, – сказала она. – Велели, чтобы ты все заполнил аккуратно. Иначе отрубят голову.
Когда речь заходила о школе, бабушка всегда робела, становилась подчиненной и зависимой, и голос у нее делался деревянным и неприязненным, как у нашей дворничихи. Такое превращение в ней меня пугало. Я взял листок. Это был «Талон амбулаторного пациента» и в нем единственный раздел: «Исход». Там столбиком было написано следующее:
1. выздор.
2. ремисс.
3. госпит.
4. в др. ЛПУ.
5. инвалид.
6. смерть.
7. проч.
Я уже читал этот талон однажды мельком, когда обращался к дорогому врачу со своим артрозо-артритом. Но сейчас, во сне, мною овладело страшное предчувствие, что с задачкой я не справлюсь. Сокращения расшифровывались легко (ЛПУ, например, – Лечебно-профилакторное учреждение). Но что значило «прочее» после смерти? И два пропущенных пункта. Их тоже надо заполнить? Мелькнула мысль: кто-то из учителей перепутал, и мне прислали задание для старших классов. Ведь мы этого еще не проходили. Я точно помню! Конечно, каждый догадывался, что после смерти что-то будет, но изучали это, видимо, уже потом. Для старшеклассника решить такую задачку, может быть, раз плюнуть, а что делать мне?
Все детские догадки вылетели из головы. Формулы же я вообще не знал. Она наверняка открыта. Естественно. Но у нас-то и предмета такого не было. Просто издевательство! Неужели бабушка позволит, чтобы мне просто так отрубили голову?
Бабушка, бабушка, стал соображать я. Ведь она училась в школе. Так что же ей стоит подсказать и спасти меня.
Я бросился к бабушке.
Та в саду собирала первую падалицу для компота. Кидала яблоки в корзину и ласково говорила:
– Не утерпели. Ну, так и ладно.
На мой взбаламученный вид и тревогу она отреагировала не сразу. Присела к садовому столу, провела по переднику ладонями, заколола отцепившуюся прядку и, улыбнувшись и даже не заглянув в листок, покачала головой:
– Не знаю, внучек.
Сразу стало ясно, что это правда и окончательно. Мне отрубят голову. С этим ничего нельзя поделать.
Я стоял в ужасе, но, странно, не чувствовал паники. Бабушка улыбалась, а это значило, что все идет правильно и другого выхода даже не нужно искать. Спрашивать, зачем мне необходимо обязательно умереть, только огорчать ее. Есть такое слово «нужно», и всё, скажет она. Нечего тут объяснять. Ведь ты уже не маленький.
Я маленький, хотелось крикнуть мне, маленький! Не отдавай меня! Но крик как будто замерз.
К вечеру вдруг резко похолодало. Яблони останутся здесь ночевать, и им тоже никто не поможет. Им, должно быть, так же страшно, как мне.
Над крыльцом у домов стали загораться фонари. Как звезды в небе, подумал я. При этом я знал, что в самих домах старики еще долго не зажгут света. Дело не только в экономии. Пожилые любят наблюдать жизнь улицы, соседей, приезжих, сами оставаясь невидимыми. Рассматривают жизнь после себя.
Бабушка взяла меня за плечи и несколько раз сильно качнула, пытаясь вытрясти из меня мрачные мысли, которые, судя по ее испуганному виду, были опаснее, чем сама смерть.
Зычный голос бурь
Я проснулся, но еще долго не открывал глаза, чувствуя прилив странной бодрости и безымянной решимости. Палуба ходила под ногами, волны залетали брызгами в лицо.
Это было продолжением сна. Он выбросил меня в поисках спасения, и я оказался с отцом на Ладоге. Нас ждал остров Коневец, до которого мы, наконец-то, обязаны были доплыть. Отец что-то зло кричал мне, я что-то кричал ему. Его желтые, редкие зубы смеялись в ответ. Потом мы вместе орали стихи нашего любимого поэта: «Ветер, выспренний трубач ты! Зычный голос бурь».
Я вдруг понял и почувствовал то, что нельзя даже назвать мыслью и что и может прийти только на ускользающей границе сна. А именно… А именно…
Сейчас у меня не было заботы думать, любит ли меня отец? Он звал меня, заставлял напрягаться из последних сил. Нас ждал остров Коневец, и не было ничего важнее этого. А я… Всю жизнь протрухал в ожидании любви. Какая рабская мечта! Какая глупость, Господи ты Боже мой! Согласиться не быть любимым – всего-то и нужно, чтобы оставить хоть какой-то след в жизни. Почему я не знал об этом сразу?
Мне стало, не скажу, спокойно, но легко, как будто я скинул с себя груз, который всю жизнь нес усердно. Потому что не было ничего дороже, чем он. Так сказали. Сейчас я понял, что меня обманули, посмеялись надо мной, в рюкзаке были просто речные камни, и вот теперь можно, наконец, выпрямиться и идти свободно.
Не зря вдогон сну о бабушке мне был послан этот. После отказа бабушки – злой крик отца. Мне показалось, что я выздоравливаю от смерти.
Катя будила меня, видимо, давно, потому что брызгала водой из чашки. Она была при параде – в сиреневом жакете и длинной черной юбке. По телевизору шла передача «Хорошие новости». В дверь стучали.
– Кто? – спросил я ее, имея в виду стук.
– Звонили два раза по рингу. Что-то там случилось. Я иду! – крикнула она в сторону двери и снова повернулась ко мне. – Мне надо идти. Тебе тоже.
– А где Назаров?
– По-моему, он свихнулся, – ответила Катя. – Ушел, еще затемнение не кончилось. Всё говорил про пацанов, которые сделают ему пластическую операцию. Не хуже, мол, чем у Мэрилин Монро. Не помню, чтобы та делала фейслифтинг. Может быть, он ее перепутал с Софи Лорен?
– Существенное наблюдение. Но как он отсюда выйдет? Не думает же он, что найдет дорогу обратно?
– Я и говорю: можечокнулся. А что такое «обратно»? Задом наперед?
– Ладно, проехали, – сказал я. Хотя меня в очередной раз прошибла догадка, что обратного пути здесь просто нет. Как в сталкеровской Зоне. Катя не знала даже слова. Но если кто-нибудь и может сказать мне правду…
– Всё же люди приходят сюда, – спросил я, – и возвращаются потом наверх. Как?
Я должен был кому-то задать, наконец, этот прямой вопрос. Кому же, в таком случае, как не Кате?
– Конечно. Но каждому указывают место и час.
– Ничего не понял.
– Все сферы медленно вращаются. Мы просто этого не замечаем. В определенном месте и в определенный час наши выходы совпадают с внешними. Вот и всё. Но расписание знают только Иван Трофимович и еще два-три человека. Твоему Назарову самому ни за что не угадать.
Однако как-то же он сюда вошел, подумал я. Да и сам я попал в логово за мизерную, можно сказать, взятку. Но дальнейший разговор явно не имел смысла.
– Я готов. Где искать твоих молодцев?
– Ты что? – испугалась Катя. – Этого не нужно. Иди к Пиндоровскому. И отдай, что ты там ему должен. Неужели это так важно?
Я инстинктивно дотронулся до кармана – дискета была нетронута. Катю полагалось поцеловать. Хотя бы по-дружески. Но от этого утреннего ритуала я отказался.
– Хорошо, к Пиндоровскому. Ты покажешь, где он?
– Вообще-то он живет здесь, в конце коридора.
– А, так это у него горел ночью огонек? Очень мило.
– Шеф иногда читает ночью. При свечах. Ему это чем-то детство напоминает.
– Так-так-так… Давай к Пиндоровскому.
Мной продолжала владеть та безымянная решимость, которую я почувствовал на отцовской яхте. Хотя дискету я отдавать раздумал и вообще плохо представлял, что меня ждет.
– Сначала надо поговорить с профессором. Он звонил, сказал, что хочет сообщить что-то важное.
– Григорий Михайлович? Ты о нем говоришь?
– Не знаю. Профессор, и всё. На береговую птицу похож.
– Он, – засмеялся я.
– Они дружили с Антиповым. Ты ведь искал Антипова?
– Понял.
Я направился к двери.
– Не туда. Профессор ждет тебя в зимнем саду. Там он обычно завтракает. Здесь спустишься по винтовой лестнице.
В комнате Кати оказалась еще и невидимая выгородка, из которой действительно спускалась винтовая лестница. Но мой ободренный дух знал теперь только прямые ходы. Еще один тайный лаз унижал меня. Всякая тактика претила. Стратегия, впрочем, тоже. Я хотел встретиться с врагом лицом к лицу. Правда, сейчас-то я шел на встречу с профессором.
Уже понимая, что говорю лишнее, я спросил:
– Это для безопасности, или так короче?
– Она ведет в шахматный павильон. Но пройти в зимний сад можно только через него, – сдержанно и сухо, чтобы не оскорбить мою решимость, сказала Катя.
Уже не ожидая от меня ласки, она вдруг сама обняла мою голову и крепко поцеловала в губы. Довлатов сострил бы: «В оппозицию девушка провожала бойца».
Нащупывая первую ступеньку в проеме, я едва не нырнул в него головой от крика, который понесся мне в спину. Кричала женщина, только что, видимо, разрешившаяся от бремени: «Если скрючен индивид – спина, ноги, плечи – помогает хондроксид…»
– Катя! – закричал я, мешая испуг и раздражение, поскольку в долю секунды успел догадаться о происхождении крика.
– Ты что испугался? Я включила громче телевизор.
– Зачем?
– Всегда так делаю перед уходом. Стремно возвращаться, когда все молчит. Как будто я уже умерла.
Прощальный крик из телевизора странным образом запустил мое возбуждение на новую скорость. Спуск по винтовой лестнице вызывал состояние легкого похмелья. Замечательное, между прочим, состояние. Чудовища отступили, слетелись ангелы. Они врачуют, ободряют, поднимают на подвиг. Многие достойные поступки совершены именно в таком состоянии. Уверен. Например, подумал я, наверняка в нем написаны любимые мной строки Блока: «И всё так близко и так далёко, Что, стоя рядом, достичь нельзя…» Такое ощущение человеческой тщеты и одновременно божественного всемогущества, которые как-то совмещаются в игре зрения. И дальше, дальше: «И не постигнешь синего ока, Пока не станешь сам как стезя…» Сейчас это точно относилось ко мне.
Конечно, я был заинтригован. Наконец-то туман вокруг Антипова рассеется. Иногда он казался мне самой главной фигурой во всем этом происшествии, может быть, даже обладателем тайны. Но также часто я подозревал его в фокусничестве и обмане. Экстравагантный приверженец Руссо, помешанный на своих соловьях. Из рассказов о нем иногда выглядывал образ эксцентрической пустоты, правдивого завиранья, вдохновенной путаницы и меткого попадания рядом с целью.
Может быть, Антипов давно уже сбрендил? Баламуты часто идут вместо пророков. А старик просто потерял память, и милиционеры с психиатрами пытаются сейчас наводящими вопросами удостоверить личность несчастного.
Но в глубине души я рассчитывал на первый вариант. Видимо, сильна во мне подростковая потребность услышать истину в авторитетном изложении.
И как завязалось все в один узел из-за этого некролога!
Хотелось также выяснить кое-что про здешние порядки и нравы. Про этих «ублютков», например. Зачем и кому понадобились придворные террористы? И потом: Антипов дезавуировал апокалипсис. Во-первых, что это значит? И потом: прямо-таки возмутительное философское преступление! За это разве убивают?
Я тут же вспомнил сон и понял, что вопрос носит риторический характер. Конечно, убивают. Еще бы!
Но главное: мне нужно любым способом выбраться из этого логова. И никаких больше нечаянных радостей – я должен все организовать сам.
Решимость шла уже во мне пузырьками и подогревалась надеждой на встречу с ГМ.
Я проходил мимо двух одиноких фанатов, которые дерзко разыгрывали королевский гамбит, когда навстречу вышел мальчик Алеша. Он был по обыкновению свеж и улыбчив. С большей охотой я бы снес сейчас мусорный ураган в лицо, чем появление этого инкубаторного гламуренка. Но судьбе, видимо, претили чистые эксперименты.
– Профессор попросил встретить, чтобы вы не плутали. Такие дела творятся! – Алеша прибавил это с доверительным, детски-радостным возбуждением, по которому я мог судить о серьезности происходящего. – Нашего сенатора сняли. Иван Трофимович в прострации. Наблюдает за вылупливанием динозавриков. Полный упадок сил!
Я в очередной раз изумился, но не странной фразе про динозавриков, а самому Алеше. У всех этот тип был своим, все оказывали ему безграничное доверие. Теперь вот он – посыльный от ГМ. И давалось это мальчику, по-видимому, без малейшего усилия. На нем не оставалось ни единого пятнышка от предыдущей мимикрии, всякий раз он попадал в масть и в тон. Разве что едва заметная тембральная окраска инопланетянина, что ли. Но к ней относились снисходительно и почти любовно, как к воровской сметливости беспризорника, принятого в богатую семью. Чью жену он собирался при этом соблазнить? Чью кассу прибрать к рукам? Эти подозрения гнали, как дурную мысль о себе.
– Удивительный ты экземпляр, Алеша, – сказал я. – Восхищаюсь. Тартюф был бы у тебя на посылках. И ведь, похоже, никакого разоблачения не предвидится?
– Но основы незыблемы, – молвил мальчик, то ли отвечая мне, то ли продолжая свое. – Я тогда не успел закончить. А вам это будет важно узнать. Все большие художники совершили когда-то Переход и лучшие свои вещи написали уже по эту сторону. Пиндоровский-старший вообще считал, что художник достигает зрелости только за порогом, в состоянии отсроченной смерти. Бродский, например, готовился еще в юности, окончательный переход – семьдесят второй год. Гоголь. Ну, эта история известна. Дальше по списку: Лев Толстой, Блок, Чехов, Кафка (этот еще в детстве), Пруст…
Не знаю, что было написано на моем лице, только мальчик счел нужным добавить:
– Доказательств полно!
К счастью, мы уже подходили к столику, за которым сидел ГМ.
ГМ напомнил мне чиновника, для которого завтрак был обязательным пунктом рабочего дня, требующим не меньшего внимания, чем гармоничные отношения дебета с кредитом. Рубашка цвета синего, морозного заката, черный короткий галстук и, конечно, масонский платочек в кармане. А при жизни, отметил я невольно, в нем всегда наблюдалась легкая небрежность, которая вызывала в студентах пароксизм любви.
В саду было почти пусто. На диванчиках и за столиками, между глянцевыми лимонами, карликовыми березами, скучающими пальмами и кустами пунцовых роз, разместилось еще человек пять. Садовый парикмахер, внимательно наклоняющийся с ножницами около растений, показался мне знакомым. Я вспомнил, что в числе неисполненных проектов городского детства, была профессия садовника. Это был даже не проект, а гармонический сон, в котором я отдыхал после петли Нестерова и однообразных ночей Заполярья. Прилавок вдоль бара пестрел тарелками с едой, среди которых возвышались доминанты сумеречных стаканов.
ГМ был серьезен, но взгляд, устремленный на тарелки, горел.
– Выбирайте, Алеша принесет, – сказал он, подталкивая ко мне меню. – Здесь, в этом смысле, полный порядок. Блинчики с творогом – не ошибетесь. А это, – показал он на тарелку, стоявшую перед ним, – не овсянка с ягодами, как вы могли подумать, а мюсли. Причем настоящее. Без всякой тепловой обработки. Рецепт Бирхер-Беннера.
– Хотите континентальный завтрак? – услужливо встрял Алеша, стоящий на этот случай у столика официантом. – Овощное соте, пирог с луком, пышки суверенные, мусс малиновый…
– Пирог и крепкий кофе, – сказал я.
– А типа как у двуногих – рюмочку перед дорогой? – спросил ГМ, когда мальчик уже отошел.
Мысль такая была, чего уж там? Но я отказался.
ГМ продолжал невозмутимо поедать свою овсянку.
– Скажите, что это за мальчики, которые по ночам увечат лбы туземцев? – спросил я.
– Ах, эти морлоки? Разве мало таких наверху? – удивился ГМ. – Про них будет отдельный разговор, так как это касается вас. А характеристика… Обычная шпана. Власть до поры прикармливает в надежде, что они станут ручными. Немного романтичны, как все бандиты. То есть махнулись полномочиями с Богом – «Мне отмщенье» и прочее. Идеологией их нафаршировывают, конечно, беспорядочно. Охотятся с равным удовольствием за экологами, гомосексуалистами, демократами, коммунистами, арабами, евреями. В сущности, задача пока у всех одна – навести маленький террор, как и завещал великий покойник.
– И нет опасности, что, раздухарившись, они однажды тюкнут самого Пиндоровского?
– Какой резон? То есть когда-нибудь – определенно. Но с папой сводят счеты в последнюю очередь.
– Пиндоровский действительно серьезная фигура?
– Бросьте вы! Одно из самых возмутительных заблуждений…
– Пиндоровский?..
– Дослушайте. Если Пиндоровского после кувырка сенатора снимут с доски за фук, никто и не заметит. Одним шоуменом меньше. Заблуждение – представление о том, что существует некая иерархия. А существуют… Нет, не законы… – ГМ на секунду задумался, провел пальцем по сырной нарезке, точно сыграл гамму, и только после этого закончил: – правила игры, природа коих – в инстинктах.
Алеша принес пирог и кофе с вулканической пенкой. Всё без обмана. Попутно он пришаркнул ногой, стер со стола невидимое пятнышко, при этом смотрел на меня нагло-веселым взглядом, в котором можно было прочитать: «Ну, как я перед вами стелюсь?» Вслух же он сказал:
– Приятного аппетита, – и деликатно удалился, некоторое время пятясь с прямой спиной.
– Академик Антипов придерживается такого же мнения? – спросил я.
Только морщины, собравшись на лбу ГМ вздернутой кардиограммой, свидетельствовали, что вопрос мой был услышан.
– Владимир Сергеевич не последняя ведь инстанция, – наконец, устало ответил ГМ. – Та же, между прочим, потребность в авторитетах, та же иерархия, только в сфере интеллекта. Костя, простите за упрек, но ведь это школьничество: главный, главное… Человек уже потому, например, не умеет правильно подумать о себе, что всегда видит себя главным героем сюжета. Если же чувствует вдруг, что жизнь дробится случайностями, дыхание из чувств уходит, а имя его на следующий день переспрашивают, то стремится пополнить, поправить эту потерянность с помощью какого-нибудь значительного источника или пытается непременно прилепиться, опять же, к главному сюжету. Хоть спицей побыть в колесе, но в колесе ведущем. Быть пусть последним учеником, но непременно в гессеновской Касталии. Либо самому быть главным, либо хотя бы припасть к главному. Это все перфекционизм пубертатного периода, комплекс отличника, который и рождает, в конце концов, кумиров. И так, бывает, изнурит человек себя мечтой, что не заметит, как и сама жизнь выйдет из него вместе с этим пустым пламенем.
– Но ведь именно Антипов решился дезавуировать апокалипсис! – не унимался я, сознавая при этом, что упрек профессора попал в цель.
– Народная формула, только и всего. Антипов ничего не отменял. Он ученый, а не администратор. Его идею я в скором времени объясню, как сумею. А то, что Переход – не благостное путешествие на Елисейские Поля, это и без него все знают. От тех наивных времен, когда призрак рая то и дело попадал в боковое зрение, и фантиков уже не осталось. Вы-то, конечно, помните?
ГМ перевернул несколько раз в пальцах зубочистку, как это делают щеголи с тростью, и стал читать стихи:
Ты за пределы земли, на Поля Елисейские будешь
Послан богами, – туда, где живет Радамант златовласый,
Где пробегают светло беспечальные дни человека,
Где ни метелей, ни ливней, ни хладов зимы не бывает;
Где сладкошумно летающий веет Зефир, Океаном
С легкой прохладой туда посылаемый людям блаженным.
Это был мой профессор. Только он умел так вставить стихи в разговор, окунуться в них и выйти с сухой, иронической усмешкой. Сейчас, сейчас! Я был уверен в том, что именно меня ждет.
– Нет! – сказал, пожевывая губы, ГМ. – Дураков уже и в Советском Союзе не было. Да и Марлинский, сочинивший это, был, как мы помним, несколько фанфаронист, готовый за флигель-адъютантский аксельбант отдать все конституции. Потрясением открытие Антипова и для него бы уже не было. Да и была ли когда-нибудь эта подлинная вера? Шестов прав. Для подавляющего большинства воскрешение – только метафора. Все, понимаете ли, поэты, все символисты. И чем больше человек занят делами практическими, тем больше он символист в осмыслении бытия. Потому что на последнее и времени-то нет. Схватит на лету знак и носится с ним, и любит его, и верит, верит. Что «взаправду», а что «по игре», совсем уж не имеет значения. К тому же, тяжело об этом думать самостоятельно. И ну его совсем к черту!
– Значит, паника вокруг отмененного апокалипсиса тоже игра? – сказал я. – А зачем все так при этом усердствуют? Перформансы, семинары, вот – масонские платочки, рейтинги?
Впервые за время нашего разговора ГМ улыбнулся:
– Кормят здесь хорошо.
Я был разочарован. Профессор говорил примерно то же, что мог бы сказать, например, Варгафтик или даже Пиндоровский. Типа: Блок и Гофман, Пушкин и Шекспир были, в сущности, милые и добрые люди. Конференция закончилась, господа, все могут отправляться по месту своего прозябания.
Получалось, что и сам профессор квартирует здесь только из-за овсянки по Беннеру?
– Такой постмодернизм, – сказал я вслух. – Как провести у. е. вечности? Ничего настоящего. И ничего, в общем, серьезного.
– О, условности! Если вы про них? – ГМ достал сигарету и так же, как до этого зубочистку, стал вертеть ее между пальцев. – Бросаю курить. Да. А условности, знаки, символы… Это ведь костыли воображения. В них столько пота, страха, вдохновения! Любви, может быть. Что вы? Это единственное, за что человеки иногда готовы жертвовать собой. Что же касается серьезности… Разговор идет о жизни и смерти, Костя. Разве это недостаточно серьезно?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.