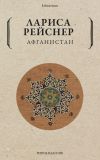Автор книги: Николай Переяслов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
Теперь перехожу к нашим «делам дипломатическим». Только недавно кончился праздник независимости. Эмир был особенно любезен со мной. Но как-то ещё больнее чувствовалось твоё отсутствие. Зато я каждый вечер ходил в кинематограф специально для того, чтобы посмотреть хронику, снятую Налётным в своё время в Кабуле и в К.-фату. Тут приехали две бельгийки: мать и дочь (между прочим, очень интересная), их фамилия Ляпин, и я уже успел свести с ними знакомство. Они говорят, что эмирша тебя всё время вспоминает и очень много о тебе рассказывает. Из других источников я знаю, что когда распространился слух о твоей смерти, то эмирша почти целую ночь плакала…
Горячо любящий тебя твой Федя…
Б/д. Кабул, Афганистан.
Дорогая моя, единственная моя Ларунечка! Ну откуда ты взяла, моя милая крошка, о каком-то мнимом «охлаждении»? Ну как тебе не стыдно требовать от меня какого-то «или – или». Поверь, что всё обстоит по-прежнему, и я жду не дождусь того счастливого мига, когда, наконец, заключу тебя в свои объятия. Ай-яй, Ларуня, какая ты, оказывается, злопамятная. Мало ли что может быть между супругами, мало ли какие слова могут вырваться у меня с языка в порыве минутного раздражения. Но нельзя же в самом деле думать, что всё это было всерьёз. Как бы то ни было, наша теперешняя разлука мне ещё больше показала, насколько мы с тобой не случайные попутчики, а муж и жена, воистину, по призванию. Мне тебя очень сильно не хватает. Каждый месяц жизни без тебя ощущается так, как год с тобой. Вот видишь, какие лирические излияния ты всё-таки исторгла из меня. А я так не люблю всякую лирику, так избегаю всяких «объяснений». Но на этот раз делаю исключение, чтобы удалить все твои сомнения без остатка…
Я уже в полном смысле слова сижу на чемоданах. Пожалуйста, убеди там кого нужно, чтобы мне было разрешено уехать в конце сентября или в первых числах октября. Мой последний доклад я посвятил описанию политических группировок в Афганистане и характеристике виднейших государственных деятелей, опротивевших мне до тошноты за два года. Надеюсь, что этот доклад действительно станет последним. Во всяком случае, в нём я подвёл итоги и дал в руки т. Соловьева путеводитель по дебрям афганской политики, который поможет ему ориентироваться на первых порах.
Что касается т. Соловьева, то я согласен с т. Караханом. Он, безусловно, очень порядочный и весьма неглупый человек. Приятно, что он вполне разделяет мою политику. В этом смысле я буду вполне спокоен, что после моего отъезда ничего нелепого не стрясётся. Он обладает несомненным тактом и политическим чутьём. Но, с другой стороны, я полагаю, что его необходимо оставить советником, а сверх того прислать ещё другого, немного более солидного полпреда. Тогда у нас составится действительно серьёзное представительство. Кандидатуру нового полпреда лучше наметить совместно со мной после моего приезда в Москву. Тов. Соловьев, помимо своей дипломатической неопытности, совершенно не интересуется Индией. А ведь это – центр тяжести нашей работы. Кроме того, он не говорит ни на одном языке, кроме нашего отечественного воляпюка. А согласись, что это недостаточно. Все послы этим разочарованы до после дней степени. Прямо не представляю, как он будет изъясняться после меня. Хоть бы второй секретарь говорил по-французски или по-английски. А то и он для иностранцев является глухонемым. Неужели ты не разъяснила, что сейчас посылать в Кабул безъязычного товарища – это значит выставить его на публичное позорище. Вероятно, Соловьёву придётся таскать за собой на верёвочке Петрова. Но и он говорит тоже «еле-еле душа в теле».
Ну прощай, моя милая Ларисочка, мой нежный цветочек Ларисничек. Так бесконечно тяжко без тебя, что уже дал себе слово больше никогда по доброй воле не расставаться с тобой. Крепко целую твои четыре лапки, твой нежный хвостик и тёплое местечко под хвостиком.
Поверь, что я постоянно остаюсь искренне и безгранично любящим тебя Фед-Федом.
1923. Кабул, Афганистан.
Доверенность.
Доверяю Ларисе Михайловне Рейснер (Раскольниковой) получение причитающегося мне гонорара за статью «Движение русской революционной мысли в 60-х годах XIX века» от кассира журнала «Красная новь».
Раскольников.
1923. Кабул, Афганистан.
<…> Милая Ларисочка, когда, наконец, мы с тобой свидимся? Ты, наверное, сейчас переехала уже с дачи и пользуешься всеми благами культурной Москвы. Нельзя ли мне также приобщиться к цивилизации? Самое худшее – это теперешняя неопределенность, когда я не знаю, еду ли я или не еду…
Все твои треволнения, о которых ты мне пишешь, это буря в стакане воды. Пожалуйста, не заботься об «отношениях», моё отношение к тебе в полном порядке. Я тоже уверен в тебе, как в каменной скале. Крепко-крепко обнимаю тебя, моя любимая жена.
Искренне твой Ф.Ф.
Лариса Рейснер – Фёдору Раскольникову
4 сентября 1923. Москва.
Дорогой Фёдор Фёдорыч. Пишу тебе дорогой, т. к. считаю, что мы разошлись по обоюдному согласию, без лишних сцен и почти без лишних слёз – как и надлежит людям, друг другу благодарным за всё хорошее, что было пережито вместе. После того, как я уехала из Кабула <…> – меня охватила жгучая жалость, боль <…> – я чувствовала, что мы с тобой в нашей совместной жизни надорвались, что с этим бедным ребёночком вытряхнулось из меня будущее нашей семьи – моё возрождение и омоложение, всё чудное и таинственное, что природа вложила в этот зародыш <…>. И вот по дороге, а потом в Москве – я поставила себе решительный вопрос: не умерла ли любовь, какою она была на Межени, на Каме, везде <…>. И почувствовала, что умерла, что прежнего – не вернуть, что и я тебе в тягость, и я с ужасом думаю о новой загранице, о новом Кричевском, который невозбранно станет скакать на моей голове. Федя, я <…> виновата перед тобой тяжко – я тебе лгала иногда и не имела сил сказать всю правду, но в конце концов – это теперь всё равно… Сейчас я совсем по-новому строю жизнь. Вошла членом правления во всероссийский] кинотрест, буду жить одна, своим домом, среди волков по-волчьи защищая своё право на существование. На днях выйдут мои 2 книги – это даст мне радость жить, и написать 3-ю. К твоему приезду меня в Москве, вероятно, не будет – улечу от треста в Берлин <…>. И вот, начиная свою «новую жизнь» без тебя, без любви, без семьи, я чувствую, что так лучше для нас обоих. Были чудные годы Революции, – мы их прожили с тобой по-королевски – ты всегда останешься для меня воплощением её чистого пыла, героизма и красоты. Федя, что бы ты обо мне ни слышал, что бы сам ни думал – помни Волгу и Каму, Икское Устье, рабаты Афганистана, не жалей и не кляни <…>. Жму твою руку очень, очень крепко. Лара.
Федя, голубчик, не надо меня видеть в Москве – всё кончено, разойдёмся, как люди.
Л. Рейснер.
Фёдор Раскольников – Ларисе Рейснер
18 октября 1923. Кабул, Афганистан.
Дорогая Ларусенька, родная козочка, бедная мятущаяся девочка!
Ну, что же это такое, Мамси? Я вижу, что ты совсем заблудилась там, в этой Москве, как в лесу, без своего проводника. Матушка, загляни ещё раз поглубже внутрь себя: поищи, не осталось ли там какого-нибудь теплого чувства ко мне, которое ты, может быть, нарочно стараешься заглушить и задушить. Не производи над собой такой вивисекции. Тщательно осмотри все тайники своего сердца, прежде чем окончательно и бесповоротно бросить меня. Когда не любят, то не пишут таких жгучих, страстных писем, как твои, еще так недавно получавшиеся мною в Кабуле. Ведь ты же писала их искренно. Я тебя знаю: ты никогда не стала бы создавать мне иллюзию любви. Значит, откуда же, из каких корней выросло твоё письмо от 4 сентября, привезённое мне Самсоновым? Ты пишешь о ребёночке. Но разве я его убийца? Поверь, мне также бесконечно жаль, что это маленькое бесформенное существо не могло появиться на свет. У меня до сих пор всё переворачивается внутри, когда, продолжая твою политику, я на вежливые вопросы иностранцев: «Comment est la situation de madame?» – вынужден отвечать: «Grand merci. Tout va bien. Y’espere que dans deux mois. Je deviendrais le реге». («Как здоровье мадам?» – «Спасибо, всё хорошо. Через пару месяцев будет танцевать. Мне не довелось стать отцом»).
Мышка, но разве мы с тобой виноваты, что на втором месяце его жизни произошёл выкидыш?[2]2
По слухам, бытовавшим среди родных и близких Ларисе людей, у неё за время её пребывания на территории Афганистана случилось три (!) выкидыша, и врачи были убеждены: для того, чтобы сохранить ребёнка, она должна была всю свою беременность лежать без движения, но уж ни в коем случае не скакать на лошади.
[Закрыть] Нет, виноваты затхлые условия «жирного и сытого» афганского прозябания, условия, вдвойне тяжёлые для таких нервных и впечатлительных натур, как мы с тобой. Кроме того, ты сама писала, что всё равно не довезла бы его: такой страшно трудной была дорога. Но если хочешь, давай примем решение во что бы то ни стало иметь ребёнка. Правда, на нём не будет почивать аромат джелалабадских роз, но чем же хуже розы Италии или пушистые снега и цветистые луга нашей милой социалистической родины?..
…Конечно, я был перед тобою виноват: порою груб, порою невнимателен. Такую жену, как ты, нужно было носить на руках; разговаривать, стоя на коленях. За всю мою вину, которую я осознаю и в которой жестоко раскаиваюсь, умоляю простить меня и не помнить лихом. Если же ты придёшь к выводу, что твоя этика позволяет тебе жить со мною, то я даю честное слово коммуниста, что многое и многое из нашего прошлого, о чём тебе неприятно вспоминать, больше никогда не повторится. Я покажу тебе перед всеми большое внимание, я окружу тебя исключительной заботливостью, я буду усыпать твой путь розами.
Преданный тебе до смерти.
Раскольников.
Фёдор Раскольников – Ларисе Рейснер
22 октября 1923. Кабул, Афганистан.
Дорогая Лапушка, моя несчастная половинка… Я умоляю тебя прийти на вокзал, совсем не как в ловушку, я просто хочу тебя увидеть, хотя бы в последний раз…
Лариса Рейснер – родителям
19 ноября 1923. Берлин, Германия.
Милые мои, милые! Всё в порядке. Учусь, вижу, слышу, пишу. Никогда ещё столько не работала. С этой почтой – 2-й фельетон, и 3-й – лучший, который сейчас печатать нельзя – пойдёт в книгу.
Боюсь напыщенных фраз, но камень, лежавший на моей душе, кажется, отвалился. Не судите по первым статьям, будет лучше. Не пишу так, как писала с фронта – ибо фронта этого пока нет. Начнётся буря, я её смогу встретить во всеоружии, зная Германию сверху донизу.
Мои единственные, вся моя любовь, как я Вам бесконечно благодарна за то, что помогли уйти от компромисса, от полной
интеллектуальной гибели, это-то я теперь вижу. Бедного ф. всей душой жалею, плачу иногда, и Вы пожалейте, если придет, – но ничего изменить нельзя…
На моём столе Каутский, Меринг, всё лучшее, что есть в Германии. Меня заставляют читать и думать. Заржавленные мозги сперва скрипели, теперь легче. Плюс огромный практический опыт. – Нация на дыбе. – Смотрю и запоминаю. Помнишь, мама, чайку перед миноносцем в бою – она всё со мной, пролетает, белая, над пропастями. О, жизнь, благословенная и великая, превыше всего, зашумит над головой кипящий вал революции. Нет лучшей жизни. Вас люблю бесконечно. Прошу Вас, живите там бестревожно, Вашей всегдашней творческой жизнью. Если б я знала, что это так…
P.S. В книге «Афганистан» на статье «Вандерлип» надо написать: «ПОСВЯЩАЕТСЯ РАСКОЛЬНИКОВУ». Я ему это давно ещё и крепко обещала.
Лариса Рейснер – родителям
1923. Берлин, Германия.
Милые, милые. Жива, очень много работаю, кажется мне, право, что-то вроде воли к интеллектуальной жизни отрастает…
Миры рушатся, классы целые платят по просроченным, столетним векселям. Если бы Вы знали, что это такое – гибель и разложение целой нации. Вонь, как из сдохшего вулкана. Плыву по поверхности всего этого, стараюсь, чтобы не заливало мертвечиной рот… Кизи, кизи, только помните, никому ничего не пересказывайте. Погубите меня. Ваша.
Фёдор Раскольников – Ларисе Рейснер
Начало 1924 года, Москва.
…Моя родимая, милая любимая головушка, маковый цветочек! Безумно нужно мне тебя <…> повидать. Наша бурная первая встреча, вполне естественная после 9 месяцев разлуки, нарушила всю программу наших разговоров. А ведь нам нужно о многом переговорить. Давай увидимся сегодня или завтра. Я постараюсь держать себя в руках и по мере возможности не расстраивать мою малютку, шлёпнувшуюся в арычок, откуда мне так хочется вытащить её на лоно нашей супружеской кроватки, чтобы обогреть и приласкать за муки нашего общего девятимесячного одиночества.
Крепко целую тебя в умный лобик, твой Фед-Фед, он же речка Зай, которая впадает в Икское Устье.
P.S. Пушинка, как хорошо, что нас парочка, а не одна штучка!
Начало 1924 года, Москва.
Любимейшая Лебединушка, мой милый ласковый пушистенький мохнатик! Я пришёл от тебя домой вполне умиротворённый. Я так рад, что нам, наконец, удалось поговорить по-хорошему, по-человечески, по-старому, как мы давно не разговаривали, – а самое главное, понять друг друга и найти общий язык…
Поняла ли ты, малютка, почему я ни на одну минуту не верю, что твоя любовь умерла?., не могла так скоропостижно скончаться наша любовь, совершенно необыкновенная, ни на что не похожая, выросшая на фоне революции и в первый же год окрещённая свистом снарядов, проносившихся над мостиком нашего миноносца…
Ты старалась вызывать в своей памяти наиболее неприятные ассоциации из нашей совместной жизни, именно потому ты поехала на рискованную работу в Германию, чтобы постараться забыть меня, чтобы заглушить стенания не умершего и никак не угасавшего чувства. И если тебе теперь кажется, что ты в самом деле до основания вытравила надоевшую, измучившую тебя любовь, то это – роковая ошибка… мы должны восстановить, возродить на новых началах наш славный, вошедший в историю брак…
Мы с тобой похожи на две стрелки часов, обладающие разным темпом, одна стрелка идёт вперёд, другая отстаёт, но мы оба бежим по одной орбите. В самом деле, я почувствовал наличие кризиса ещё в феврале прошлого года в Джелалабаде, когда ты об этом и слушать не хотела. Я был тогда под влиянием тех же противоречивых настроений, как ты в настоящее время. В свою очередь ты осознала этот процесс позже, уже в Москве, в июле-августе 1923 года. Теперь я пережил, переболел это тяжёлое, мучительное состояние колебаний и пришёл к твёрдому убеждению, что мы должны быть вместе, что в глубине души мы очень любим друг друга, любим не случайно, а на всю жизнь и ни перед своей совестью, ни перед историей не имеем права расходиться.
Прикасаюсь к твоим губам страстным и продолжительным поцелуем.
Твой Федя.
P.S. Милая пушинка <…>, целый месяц я буду стоять с протянутыми к тебе руками, с мольбой призыва на моём лице. Я так счастлив, что мы, наконец, объяснились и дружными усилиями извлекли ту занозу, тот кратковременный рецидив гумилёвщины, который, как мне теперь ясно, и создал весь наш мучительный и острый кризис.
Пушинька, больше всего бойся рецидивов нездоровых куртизанских порывов. Имей в виду, что гумилёвщина – это погоня за сильными чувственными ощущениями вне семьи. К сожалению, гумилёвщина – это яд, которым заражены даже некоторые ответственные коммунисты…
Если ты придёшь к безнадёжному выводу, что мы банкроты, что мы не способны построить красивую семью, то, во всяком случае, ты должна остаться холостой женщиной и вести честный целомудренный образ жизни или, в случае встречи с кем-либо более достойным, чем я, ты должна выйти за него замуж. Только, ради всего святого, во имя революции, не унижайся до жалкой роли любовницы какого-нибудь женатого человека. Тебя, с твоей принципиальностью, с твоей способностью любить, с твоей неукротимой ревностью это истерзает и исковеркает. А в таком случае твоему творчеству наступит конец…
* * *
Семейная драма Раскольникова, говорит Варлам Шаламов, развивалась по тем же канонам острого детектива, авантюрного сюжета, как и вся его жизнь. Жена бежала от него, посла в Афганистане, бежала под удобным предлогом – ускорить отъезд, бежала по горным рекам, через ущелья, скакала в горной ледяной гератской воде. В Ташкенте жена пересела на скорый поезд «Ташкент – Москва», а в Москве послала Раскольникову требование развода, села в самолёт и перелетела в Берлин, скрылась в подполье под чужой фамилией, чтоб на три месяца попасть в Гамбург на баррикады.
Раскольников сходил с ума, метался в Кабуле. Совсем забыв условия дипломатического этикета, плакал в своём кабинете, писал бесконечные письма. За лето 1923 года он написал их, вероятно, больше, чем за всю свою жизнь. Писем были десятки, каждое из них по 60 страниц, написаны крупным, разборчивым, откровенным, прямым почерком. Эти письма, говорит Варлам Шаламов – искусство в высшей степени положительное. Эти письма в высшей степени положительно характеризуют Раскольникова. Он, используя самые различные поводы, выворачивает свою душу, проверяет каждый свой день и не находит ответа, почему же жена бросила его. Он не угрожает и не оправдывается, он только исследует себя, боясь, что что-то упустил в этой потере, считая её великой жизненной катастрофой. Он даже обращается к Фрейду, и видно, что он абсолютно грамотно толкует этот тонкий вопрос, применительно к близкому человеку. Есть большое письмо, где он подробно пишет о своей семейной идее: «Я однолюб. Мой пример – Владимир Ильич». Ему кажется, что, если он назовёт главное, его счастье вернётся. Он предлагает любые условия их совместной жизни. Раскольников пишет, что он враг разрушенной семьи. Не может найти ответа, как же они прожили пять лет и вдруг на шестом расходятся, разводятся. В одном из писем написал: «На седьмом году брака». Он готов винить себя, взять на себя публичное покаяние, ничего не помогает. Жена требует развода и притом развода формального. Она не хочет носить фамилию Раскольникова…
(В 1960-е годы поэт Варлам Тихонович Шаламов, работая над книгой о Фёдоре Раскольникове, очень высоко оценивал его письма к Ларисе, считая их за высокий образец доверительной, можно даже сказать, интимной литературы: «Письма Раскольникова к Рейснер <…> это подробная исповедь большого человека, героя. В этих письмах Раскольников ничего не стыдится, он только гордится, что заставляет себя вывернуть душу. Но остались гордость, самолюбие, весьма (ценная) способность для познания мира».
Письма Фёдора Раскольникова уже сами по себе ценны, так как несут в себе большую информацию о нём и его внутреннем мире. Проводив, к примеру, Ларису до Кандагара, Фёдор Раскольников сразу же садится писать ей письмо – ему как раз привезли много книг из России, и он об этом ей сообщает: «Глотаю, как устрицы, тоненькие брошюрки стихов. Знаешь, сколько интересного вышло за последние два года. Чего стоят одни стихи Киплинга. Из посмертных стихов Н. Гумилёва мне больше всего нравилось “Приглашение к путешествию”. Прочёл небездарные воспоминания Шкловского “Революция и фронт” и “Эпилог”».
Тем временем активные действия Фёдора в Афганистане вызвали решительные требования Великобритании его скорейшего отзыва, но советская сторона отклонила это требование, и, несмотря на все британские угрозы, Раскольников до февраля 1924 года ещё оставался в Кабуле (хотя большинство его биографов пишут, что он вернулся в Россию уже в декабре 1923-го). Таким образом, выждав некоторое время, чтобы сохранить перед миром своё лицо, руководство Наркомата иностранных дел всё-таки было вынуждено пойти на уступки англичанам и убрать своего неудачливого представителя из Афганистана, дав ему возможность возвратиться вслед за Ларисой в Россию.
Внук лейтенанта Ильина, героя Чесмы, сжёгшего в 1770 году турецкий флот, неохотно даст своей жене Ларисе согласие на развод: «Мне кажется, что мы оба совершаем непоправимую ошибку, что наш брак ещё далеко не исчерпал всех заложенных в нём богатых возможностей. Боюсь, что тебе в будущем ещё не раз придётся в этом раскаиваться. Но пусть будет так, как ты хочешь. Посылаю тебе роковую бумажку…» («Ты ещё пожалеешь!» – звучит между строк мужская обида из тумана прошлого…)
Глава седьмая
Дни новой жизни
Из Афганистана Раскольникова вскоре отозвали, с должности сняли, но решили приберечь «старый партийный кадр» – отправили, словно в запас третьей очереди, руководить литературой. Но испытанный боец и в запасе есть боец! Раскольников, не смутившись, твёрдо решил сам заняться литературой. Отчасти, оттого, что больше было нечего делать; отчасти, чтобы доказать Ларе, что может писать не хуже этого Гумилёва. Тот посвятил Ларисе пьесу, значит и он, Раскольников, напишет пьесу для «Лебедёночка». Новые времена диктовали новые темы. Так родилась пьеса «Робеспьер» – о французской революции, о термидорианском перевороте, который отправил на гильотину «отработанных» вождей – Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона.
Фёдор Фёдорович сам был свидетелем и отчасти жертвой такого же переворота в большевистской партии, только без стрельбы и штурмов. Новый «Хозяин» провёл этот переворот, ниспровергнув ленинскую гвардию её же оружием – партийной бюрократией и «демократическим централизмом». Скоро все соратники покойного Робеспьера-Ленина сплочёнными рядами отправятся на гильотину, а пока могут наслаждаться ожиданием неизбежного…
Вернувшись, наконец, из Афганистана в Россию, Раскольников с 1924 года под псевдонимом «Петров» начал руководить Восточным отделом Исполкома Коминтерна, а с 1926 года – его восточным секретариатом, занимаясь в нём делами Китая и других стран Востока. Кроме того, с 1928 года он стал профессором факультета советского права и преподавал в 1-м МГУ международную политику и внешнюю политику СССР на Востоке. Короче, без дела он не сидел.

Робеспьер

Робеспьер. Афиша
Надо учесть, что в Москву он возвратился как раз к разгару внутрипартийной дискуссии о профсоюзах, которая протекала на фоне болезни Владимира Ильича Ленина. Эта «профсоюзная дискуссия», сдерживаемая сначала на уровне ЦК партии, превратилась со временем в открытый конфликт внутри партии и сделалась публичной: она противопоставила сторонников Ленина – в числе которых были Зиновьев и Сталин – и сторонников Троцкого, среди которых был и Фёдор Раскольников. Для неискушённых в политике речь шла о роли профсоюзов в пролетарском государстве. Троцкий требовал, чтобы профсоюзы путём железной трудовой дисциплины выполняли роль организаторов производства: в условиях разрухи на производстве – как на фронте. Ленин же настаивал на воспитательной роли профсоюзов и связи, которую они должны были обеспечить с партией.
Встретившись со Сталиным в его кремлёвской квартире, Раскольников вследствие серьёзного разговора с ним полностью убедился в правоте генеральной линии партии и принял активное участие в печати и на собраниях в борьбе с троцкизмом. При этой беседе присутствовали также Каменев и Зиновьев, но разговор с ним вёл только один Лев Борисович. Эта встреча была восстановлена в книжке Владимира Ивановича Савченко «Отступник», где приводилась такая беседа:
«…Сталин повернулся к двери, в передней слышны были голоса вошедших с улицы людей.
– Ух, холодно! – в комнату вкатился, потирая озябшие руки, Каменев.
Он мало изменился, такой же кругленький, те же бородка и усы, разве чуть поседевшие, та же суетливая пробежка ёжиком.
Обнялись с Раскольниковым.
Вошёл и Зиновьев, молча пожал руку Раскольникову, сел в уголок – пить, есть отказался: желудок.
– Ну-с, рассказывайте: чем дышите, чем намерены заниматься в ближайшем будущем? – ещё потирая красные от мороза руки, заговорил Каменев, присаживаясь к столу, наблюдая, как Сталин наливал ему водки, жестами показывая, чтобы не полный стакан. – Впрочем, нам известно, чем намерены заниматься: литературой. Прекрасно. Известно нам также, – он опрокинул в себя водку, закусил грушей, – что на совещании с оппозиционерами, на котором присутствовал вставший с постели Троцкий, вам предложено было место заместителя главного редактора «Красной нови», помощника шута горохового Воронского, так?

Л.Б. Каменев
Заметив удивлённое и протестующее выражение на лице Раскольникова, Каменев сморщился в весёлой улыбке:
– <…> Мы предлагаем вам военный союз на время боевых действий с неприятелем, – шутливым тоном проговорил Каменев. – Вы нам нужны. У вас в руках перо, в сердце кипит молодой задор, даром что старый партиец. Послужим вместе делу единства партии.
– Иосиф Виссарионович говорил, что у вас есть замечания к моей книге, – напомнил Раскольников; он чувствовал себя неловко под этим напором Каменева.
– Да, замечания. О достоинствах книги распространяться не буду. Думаю, Коба о них сказал. Замечания касаются, как вы, должно быть, догадываетесь, фигуры Троцкого. Не слишком ли много места ему уделено? Никто не спорит, его заслуги в октябрьские дни неоценимы. Но по вашей книге получается, что он да Ильич были единственными застрельщиками Октября. Если бы не они, то и революции бы не было. А роль масс – разве ничего не значит в истории? Я уже не говорю о роли партии, как коллективного вождя масс. Не думаю, что вы так считаете.
– Я действительно так не считаю, – согласился Раскольников.
– И хорошо. Просмотрите текст, право, книга только выиграет от того, что вы устраните указанный перекос. А теперь я хочу вам сделать официальное предложение от имени Политбюро. В отличие от оппозиции, которая предлагала вам роль второго человека в журнале «Красная новь», мы хотели бы отдать в ваше полное распоряжение такой же литературно-общественный журнал, назначить вас ответственным редактором журнала «Молодая гвардия». Возьмётесь за это дело? Кроме того, мы подумали, что для дела полезно было бы ввести вас в редколлегию и литературно-критического журнала «На посту». Журнал ведёт правильную линию на развитие пролетарского крыла современной литературы, но его молодых и бойких сотрудников иногда заносит, вы могли бы помочь им держать верное направление, подлинно марксистско-ленинское. Что вы на это скажете?
– Спасибо за доверие, Лев Борисович. Но это так неожиданно. Очевидно, мне надо подумать?
– А чего тут думать? О чём думать? Сразу и включайтесь в работу.
– Спасибо. Но мне сначала надо завершить мои отношения с НКИД. Кроме того, закончить и некоторые другие, кроме книги, литературные дела.
– Ну, завершайте и заканчивайте скорее…»
В мае 1924 года Фёдор Фёдорович Раскольников участвует в совещании при Отделе печати ЦК РКП(б) «О политике партии в художественной литературе» и активно вступает в полемику с Л. Д. Троцким. Лев Давидович критикует позицию бывшего своего верного друга, помощника и полпреда в Республике Афганистан: мол, Раскольников обрушился на линию, «которую защищает и проводит тов. Воронский» и которая «представляет собою явное искажение нашей большевистской линии в области художественной литературы».
Осенью того же года вышел из печати третий том сочинений Троцкого с полемической вводной статьёй «Уроки Октября». Раскольников обдумывал, как ему поступить с вводной, нельзя ведь было журналу не отозваться на неё, – и тут от Сталина пришёл пакет на его имя. Вскрыв его, он обнаружил в нём вырезанные из книги Троцкого страницы с текстом вводной статьи и короткую записку:
«Т. Раскольников! Автор этой статьи себя разоблачает. Использует исторический материал для сведения внутрипартийных счетов со своими оппонентами. С целью нанести очередной удар нашему партийному единству, пытается доказать, будто в партии ещё в семнадцатом году существовала некая правая социал-демократическая тенденция, боровшаяся с большевизмом, Лениным. Обратите внимание на подчёркнутые мною места, где товарищ явно перевирает факты. Это надо использовать. И ударить. Крепко ударить. Сталин».

Сталин и его ареопаг
Раскольников просмотрел отмеченные Сталиным места. Неточности не бог весть какие, тем не менее, это были неточности, за которые можно было ухватиться при подготовке полемической статьи.
Решив, что должен сам писать статью, Раскольников вначале думал ограничиться одними только этими неточностями, но, втянувшись в работу, почувствовал, что его несёт дальше задачи простого восстановления правды фактов. Вдумываясь в логику Троцкого, видел, для чего ему нужно выделить в партии несуществующую, выдуманную им социал-демократическую тенденцию, «правое крыло», корнями уходящее в 1917-й год, – явно, чтобы противопоставить эту «руководящую тройку» Ленину, «ленинизму» и ему, Троцкому. Натяжки были слишком очевидны, и это возмущало. Хотелось ответить по существу статьи.
И Фёдор ответил. Резко. Уличил Троцкого в подлоге, подтасовке фактов ради очернения своих оппонентов. Подходя к этой книге с позиций, детально разъяснённых ему во время встречи с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, Раскольников в своей рецензии на этот том писал следующее:
«…Усиленно ища разногласий внутри нашей партии, т. Троцкий зачастую находит их там, где их никогда не было и в помине. Например, в предисловии “Уроки Октября” мы встречаем следующую фразу: “Мы видим, как Ленин в начале мая сурово одёргивает кронштадтцев, которые, зарвавшись, заявили о непризнании ими временного правительства” (Л. Троцкий, соч., т. III, ч. 1). Здесь всё неверно. “Мы видим”, – пишет т. Троцкий. Откуда видим? Это секрет тов. Троцкого. До этого абзаца и после него о Кронштадте ничего не говорится. Известная резолюция Кронштадтского Совета была принята не в начале мая, а 16 мая. Тов. Ленин никого сурово не одёргивал, а, напротив, руководил кронштадтцами в их борьбе с временным правительством. Наконец, самое главное, кронштадтцы никогда не заявляли о непризнании ими временного правительства. Сам т. Троцкий в 1917 г. думал иначе… Тов. Троцкий тогда писал буквально следующее: “Злобные перья контр-революционных клеветников пишут, будто мы, кронштадтцы, зовём народ к произволу, самосуду и анархии, будто мы подвергаем мучениям арестованных нами насильников и слуг царизма, наконец, будто мы отказались признавать власть временного правительства, отложились от России и образовали самостоятельную Кронштадтскую республику. Какая бессмысленная ложь, какая жалкая и постыдная клевета…” На этом смело можно поставить точку».
И он отвёз свою статью Сталину.
– Очень хорошо, товарищ Раскольников. То, что нужно, – похвалил Сталин, просмотрев текст. – Отдайте один экземпляр в «Красную новь», пусть там появится эта статья. А второй экземпляр – оставьте у меня, для цековского сборника. Там будет и моя статья, и статьи товарищей Каменева, Зиновьева и других товарищей…
Увиделся Раскольников только зимой, уже после выхода в свет декабрьского номера «Красной нови» с его разносной рецензией на «Уроки Октября» Троцкого. Встретились в фойе рабочего клуба за Крестьянской заставой, где должно было состояться дискуссионное собрание рабочих и служащих московских издательств и типографий. В фойе было тесно, шумно, накурено. Троцкий стоял в группе рабочих, рассеянно слушал, что ему говорили, и оглядывался по сторонам. Заметив Раскольникова, остановил на нём взгляд. Между ними расчистилось небольшое пространство, и Раскольников пошёл к Троцкому, с улыбкой, готовясь вытянуть руку для рукопожатия. И Троцкий пошёл ему навстречу, не спуская с него глаз. Он, однако, не улыбался, глаза его за стёклами пенсне были странно невидящими. Шёл прямо на Раскольникова так, будто и правда не видел его, как будто перед ним было пустое место. Вероятно, он наткнулся бы на Раскольникова, если бы тот не отскочил в сторону. Не убавляя шага, не оборачиваясь, Троцкий прошествовал дальше.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.