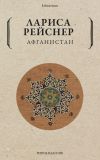Автор книги: Николай Переяслов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
Всё это выявилось в споре, который начался в комнате Раскольникова в гостинице «Люкс». Сам хозяин не принимал в нём почти никакого участия. Радек, что с ним случалось редко, в начале тоже помалкивал, подбадривая только Фурманова и Либединского с явным желанием узнать, как можно больше не о настроениях в писательской среде, а о настроениях вообще, потому что он считал, что талантливые писатели всасывают в себя общие настроения и всегда их отражают.
Таким образом, заседания «Напостовской группы» отличались тем, что на них всё говорилось прямо и откровенно. «Демагогия, оппортунизм и подобного рода вещи не допускались. Это, конечно, не значит, что группа не принимала оппортунистических решений. Но когда она это по тем или иным соображениям делала, то такое решение не прикрывалось псевдо-идеологическими или какими-нибудь другими ложными мотивами.
Так как Ф.Ф. Раскольников был, если не официальным, то фактическим руководителем «Напостовской группы», то о нём надо сказать несколько слов… После Октябрьского переворота он был заместителем Наркома по морским делам, а в 1920 году командовал Балтийским флотом. С 1921 по 1923 год он был советским послом в Афганистане, а потом, недолгое время, редактором «Красной Нови». Нетрудно заметить, что такого рода посты, включая посты дипломатические, означали не повышение, а понижение в его политической карьере. Понижение и фактическое отстранение Раскольникова от руководящей политической работы после двадцатого года объяснялось тем, что он был тоже революционером старого типа. Хотя он никогда не примыкал ни к какой оппозиционной группе, не разделял полностью линии партии и был – хотя и этого не высказывал публично, – принципиальным противником НЭПа. Были у него и другие разногласия идеологического порядка с партией, особенно с Лениным, который его очень ценил и любил, но с которым он постоянно спорил…»
Раскольников в те годы со многими спорил или же просто не очень дружил – с Михаилом Булгаковым, например, с Григорием Зиновьевым и некоторыми другими. Писал о тех, кто жил с ним рядом, а также о тех, кто уже скончался, хотя очерки о них почему-то в печать не пускали. Это были работы о ведущих поэтах Советской страны Сергее Есенине и Владимире Маяковском. Ну и, конечно же, о состоявшейся революции и социализме. Вот некоторые из высказываний Раскольникова на эти темы:
«Революция – это огромный прожектор, освещающий всю глубину природы, человека и общества».
«Социализм – это учение, которое обязательно должно быть согрето любовью к людям. При наличии слепой, фантастической веры без любви получится Торквемада».
«Подлинный революционер – это тот, кто ни при каких обстоятельствах не падает духом…»
А в 1927 году популярный фельетонист Юрий Олеша становится знаменитым прозаиком и в журнале «Красная новь» появилась его удивительная повесть «Зависть», которая вся, словно большое поэтическое стихотворение, была наполнена цветами и листьями, а также метафорами и изяществом, чему предшествовало чтение этого произведения на квартире Валентина Петровича Катаева, отмеченное в мемуарах сразу нескольких мемуаристов. В тот вечер у него собралось несколько молодых писателей и критиков, а также прибыл сменивший Александра Воронского новый главный редактор журнала, которым тогда уже и был Фёдор Фёдорович Раскольников.
Как писал в своём знаменитом романе-кроссворде «Алмазный мой венец» Валентин Катаев, «на город обрушился потоп, и ключик был уверен, что какие-то высшие силы природы сводят с ним счёты.
Он покорно стоял у окна и смотрел на текущую реку переулка.
Уже почти совсем смеркалось. Ливень продолжался с прежней силой, и конца ему не предвиделось.
И вдруг из-за угла в переулок въехала открытая машина, которая, раскидывая по сторонам волны, как моторная лодка, не подъехала, а скорее подплыла к нашему дому. В машине сидел в блестящем дождевом плаще с капюшоном главный редактор.
В этот вечер ключик был посрамлён как пророк-провидец, но зато родился как знаменитый писатель.
Преодолев страх, он раскрыл свою рукопись и произнёс первую фразу своей повести:
«Он поёт по утрам в клозете».
Хорошенькое начало!
Против всяких ожиданий именно эта криминальная фраза привела редактора в восторг. Он даже взвизгнул от удовольствия. А всё дальнейшее пошло уже как по маслу. Почуяв успех, ключик читал с подъёмом, уверенно, в наиболее удачных местах пуская в ход свой патетический польский акцент с некоторой победоносной шепелявостью.
Никогда ещё не был он так обаятелен.
Отбрасывая в сторону прочитанные листы жестом гения, он оглядывал слушателей и делал короткие паузы.
Чтение длилось до рассвета, и никто не проронил ни слова до самого конца…
Главный редактор был в таком восторге, что вцепился в рукопись и ни за что не хотел её отдать, хотя ключик и умолял оставить её хотя бы на два дня, чтобы кое-где пошлифовать стиль. Редактор был неумолим и при свете утренней зари, так прозрачно и нежно разгоравшейся на расчистившемся небе, умчался на своей машине, прижимая к груди драгоценную рукопись…»
Ключик — это Юрий Карлович Олеша, а главный редактор — Фёдор Фёдорович Раскольников.
Решение о публикации «Зависти» было принято сразу же после того, как Олеша дочитал её до конца; ради напечатания этой повести Раскольников перекроил два уже подготовленных к выпуску ближайших номера «Красной нови».
Когда же повесть появилась в печати, то Олеша, как написал Катаев, лёг спать простым смертным, а проснулся знаменитостью…
* * *
В 1930 году Фёдор Фёдорович уже работал в Эстонии, но часто приезжал оттуда в Москву, где ещё доучивалась в институте его Муза. Литературовед Сергей Александрович Макашин (1906–1989), работавший в том году редактором «Литературного наследства», говорил, что Фёдор Фёдорович Раскольников «каждый раз, когда он приезжал из-за границы, он всегда считал своим долгом зайти в редакцию. Почему-то наибольшей симпатией у него пользовался я, у меня была отдельная комната в отличие от теперешней редакции, где мы все сидим в одной комнате, и всегда приносил какие-то подарки (я тогда курил): хорошие папиросы или там какие-то небольшие сувенирчики и так далее – и очень много беседовал…»
Это свидетельствует о том, насколько сильно притягивали Фёдора к себе материалы о больших русских поэтах, он и сам постоянно писал о них статьи и очерки. В том же 1930 году, после смерти поэта Владимира Маяковского, Фёдор Раскольников написал большой материал о нём, в котором он, хотя и несколько излишне прямолинейно, но зато честно, писал:
«Крупнейший поэт современности Маяковский был характерным представителем целой литературной эпохи. Он начал свою поэтическую деятельность как основоположник русского футуризма… Рост промышленности всколыхнул русскую литературу, оплодотворил её новыми темами, новым литературным стилем. На базе этого капиталистического развития в 1900-х годах, накануне войны и революции появился и русский футуризм <…>.
С самого начала русские футуристы, подобно их итальянским собратьям, выступили как певцы промышленного города и машинной техники. Неслучайно главным очагом русского футуризма был довоенный Петербург, уже тогда являвшийся крупным промышленным центром. Не сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание. Бытие промышленного города определило собой сознание Маяковского. Уже в ранних, основательно забытых, рассеянных по старым журналам статьях его отчётливо оформилась его эстетическая теория <…>.
Поэт-общественник, поэт-революционер совмещался в нём с глубоким индивидуалистом. Старое, мелкобуржуазное начало вело в нём упорную борьбу с новым пролетарским мироощущением. И он далеко не всегда умел своё личное, индивидуальное начало подчинять интересам коллектива, класса, наконец, интересам пролетарской революции. Индивидуализм – характерная черта мелкой буржуазии, этот индивидуализм и погубил Маяковского.
Самоубийство было актом индивидуалиста и одновременно расправой над индивидуализмом…»
Не меньшую по объёму статью Раскольников написал о поэте Николае Ушакове, в которой он говорит: «В предисловии к “Весне республики” Н. Ушакова поэт старшего поколения Н. Асеев отзывается об Ушакове, что “этот настоящий поэт ведёт и продолжает дело живой, революционной поэзии”.
Автор “стального соловья” не ошибается. В лице Ушакова в советскую поэзию пришёл свежий, бодрый и оригинальный талант, по-новому продолжающий традиции революционной литературы. Основная тема поэзии Ушакова – строительство социализма в нашей стране. На языке художественных образов он воспевает весну Союза советских республик. Герои его стихов – машины, турбины, доменные печи, паровозы…
Вот, например, стихотворение “Лазарет”. С этим словом невольно ассоциируется представление о больничных палатах, о длинных рядах однообразных коек, о сдержанных докторах, о заботливых сёстрах и сиделках. Лазарет Ушакова совершенно иной. В обычном лазарете царят покой и тишина, изредка прерываемые стонами страдающих. Лазарет Николая Ушакова пыхтит и попыхивает. Дело объясняется тем, что его лазарет – это паровозное депо, где, совсем как люди, лечатся больные паровозы…
Любопытны сравнения и образы Николая Ушакова. Железнодорожные мастерские у него ассоциируются с лазаретом, рабочие – с хирургами; машина, словно живой человек, поджав шатуны, как ноги, ложится на операционный стол и подвергается операции без кокаина. Гайки, винты и стальные листы облекают машину, как бинты. Эти смелые метафоры в стихах Ушакова, однако, оправданы. Он знает, что эти паровозы принадлежат пролетарскому государству, и, в качестве сознательного гражданина, поэт, как рачительный хозяин, заботливо относится к каждому винтику… Поэт приветствует возвращение в строй отремонтированного паровоза, подобно тому, как родные и близкие радуются выздоровлению больного…
…Поэзия Ушакова – недостаточно насыщена коммунистическим содержанием. По его стихам можно заметить, что он не пролетарский поэт, а попутчик, хотя и близко примыкающий к рабочему классу. Николай Ушаков – левый попутчик; его отношение к строительству социализма, к событиям гражданской войны, к Октябрьской революции, наконец, к проблемам любви и смерти приближается к идеологии пролетариата.
Дальнейшее развитие творчества Ушакова должно показать, останется ли он левым попутчиком рабочего класса или со своим незаурядным поэтическим дарованием он вольётся в широкое русло пролетарской литературы, которой принадлежит будущее».
Этот объёмный по размерам отрывок из критической статьи Раскольникова ярко показывает, как Фёдор Фёдорович относится к современной ему литературе и по каким критериям он оценивает лежащее перед ним литературное произведение и самого его автора. И хотя сегодня эта статья воспринимается немного плоскостной и излишне прямолинейной, но это всё-таки намного глубже, чем современная нашему сегодняшнему времени критика, не проникающая ни внутрь анализируемого нынешними критиками текста, ни в душу написавшего его автора.
Крестным партийным отцом Фёдора Ильина был Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Он же был и литературным отцом писателя Раскольникова. Это близкие лично друзья на протяжении трёх десятилетий. Бонч-Бруевич очень высоко ставил именно литературный талант Раскольникова, и они обменивались мнениями по литературным и общественным вопросам.
Переписка с ним велась в течение многих лет, Бонч делал подробные, тщательные разборы новых произведений Раскольникова, и до всех издательств, до всей и всяческой аудитории, и чтецов новая рукопись Раскольникова ложилась на стол Бонч-Бруевича. И Бонч-Бруевич отвечал подробнейше, в Раскольникове он видел не только героя Октября, но и одарённого писателя, прирождённого драматурга, призванного сказать новое слово именно в русской драматургии.
Но Бонч-Бруевич одобрял также и литературоведческие труды Раскольникова – «Убийца Лермонтова» и «Из истории цензуры», а ещё, в особенности, отмечал он драматургические работы Фёдора, о чём писал ему в своём письме: «Вы нашли себя в драматургии, обязательно добейтесь, чтобы Ваш “Робеспьер” увидел сцену. Это новая, единственная у нас революционная драма». И в письме от 17 ноября 1930 года он писал ему о том же: «“Робеспьер” должен быть поставлен в настоящее время на сцене во чтобы то ни стало и как можно скорее. <…> Именно теперь она необходима, так как она должна сильно поднимать дух истинных революционеров…»
Сохранились удивительно тёплые письма, которыми обменивались Раскольников и Бонч-Бруевич. Раскольников сердечно поздравляет Бонч-Бруевича с его 60-летием и выражает надежду, что поздравит его и с 70-летием. В ответ Бонч-Бруевич пишет: «Я очень болею, мне 62 года, весь год я почти не работал, лежал и только сейчас начинаю мало-помалу что-то делать. Долго жить не собираюсь, в крови появился сахар, а это – грозный признак. Я не строю, Фёдор Фёдорович, никаких иллюзий». С этим грозным сахаром в крови Бонч-Бруевич дожил до 82 лет, пережив своего корреспондента на целых 16 лет.
А Фёдор тем временем последовал совету Бонч-Бруевича и в том же 1930 году всё-таки небезуспешно дебютировал в драматургии, инсценировав роман Льва Николаевича Толстого «Воскресение» для Художественного театра, с большим успехом проехавшего по всей России. Горький в письме от 25 сентября 1930 года дал инсценировке снисходительно-кислую оценку, но спектаклю какое-то время держался.
Кроме того, он написал план пьесы о Наполеоне времён Ста дней и выпустил свою, однажды осмеянную перед всеми Михаилом Булгаковым, социальную драму на материале французской революции – «Робеспьер», которую сразу же начали ставить во многих театрах Советского Союза, а также за границей. Хотя нельзя умолчать о том, что даже благосклонная к Раскольникову советская критика отмечала, что ему в его пьесах всё-таки немного «недостаёт живости и реалистичности изображения».
Первая литературная редакция «Робеспьера» публиковалась в журнале «Красная новь» в 1930 году, а премьера этой пьесы состоялась в Ленинградском государственном академическом театре драмы 12 февраля 1931 года в постановке Петрова и Соловьева. Центральная сцена спектакля, в которой Конвент выносил смертный приговор Робеспьеру, производила ошеломляющее впечатление и врезалась в сознание зрителей в основном благодаря найденному художником-оформителем Николаем Павловичем Акимовым динамическому её решению. Неумолимость и вызывающая жестокость приговора, выносимого Конвентом, подчеркивались тем обстоятельством, что голосовали депутаты вставанием, как бы всем видом, всей статью выражая решимость. Зрители непременно должны были увидеть это их движение, ощутить его драматизм и удостовериться в его реальности. Тут не могло быть никакого выбора между допуском и неопровержимой очевидностью. Только очевидность!
На фоне окаймляющего сцену и создававшего ощущение чернеющей глубины бархата вдруг начинали возникать один за другим ряды белых пудреных париков. Депутаты поднимались со своих мест – так, во всяком случае, казалось – целыми вогнутыми шеренгами, как бы повторяя изгиб скамей, на которых они только что сидели. Отдельные шеренги чуть-чуть, самую малость задерживались, другие поднимались ровно и быстро, словно по команде. По движению третьих можно было понять, что кто-то в замешательстве не успел подняться сразу, как бы застигнутый минутой голосования врасплох.
В сложной динамике короткой и потрясающе неожиданной сцены отражались и мрачный автоматизм, с которым изменивший революции Конвент выносил своему недавнему любимцу смертный приговор, и страх депутатов, и поспешность, с которой они торопились выразить наигранное единодушие.
На следующий день после премьеры Горький послал Раскольникову свои критические замечания на пьесу, присланную ему давно, но с ответом на чтение которой он затянул:
«Она показалась мне тяжеловатой, несколько перенасыщенной словами, а характеры в ней недостаточно чётко оформлены. Посему я бы посоветовал Вам посмотреть на пьесу как на чужую и “проработать” её: кое-где сократить, а главное подчеркнуть различие характеров отношением героев к быту, к внешним мелким фактам бытия. Человек ловится на мелочах, в крупном можно притвориться, мелочь всегда выдаст истинную “суть души”, её рисунок, её тяготение».
Отзывы о спектакле были противоречивыми. В театральных кругах «спектакль не имел успеха. Оставалось впечатление, что автор пьесы был озабочен в большей степени отображением политической ситуации, исторической обстановки, в какой действовал его герой, нежели драматургическим построением театрального зрелища. Тем не менее, спектакль шёл, вызывал разговоры и пересуды».
Надо сказать, что подобный страх владел в те годы и большинством граждан России, находившихся под постоянным надзором неусыпных карательных структур. При этом органы НКВД вели наблюдение не только за ненадёжными с точки зрения их политических позиций людьми, но и за облечёнными полным доверием самого «отца народов». И по этому случаю известный в то время бард революции Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов) однажды рассказал Фёдору Фёдоровичу Раскольникову, находясь у него в гостях, тревожащую его следующую историю.
Одно время Сталин приблизил к себе поэта, и тот сразу же стал всюду в большой чести. В то же время в круг близких друзей Демьяна затесался некий субъект, основатель Правительственной библиотеки Кремля, работник аппарата ВЦИК, помощник секретаря Президиума ЦИК Союза ССР Авеля Енукидзе, красный профессор Михаил Яковлевич Презент. Эта личность была приставлена для слежки за Демьяном. Презент вёл свой ежедневный дневник, где записывал все разговоры с Бедным, беспощадно их перевирая.
В один из дней Иосиф Виссарионович пригласил Демьяна Бедного к себе обедать.
«Он знает, что я не могу терпеть, когда разрезают книгу пальцем, – говорил Демьян Раскольникову. – Так, представьте себе, Сталин взял какую-то новую книгу и нарочно, чтобы подразнить меня, стал разрывать её пальцем. Я просил его не делать этого, а он только смеётся и продолжает нарочно разрывать страницы».
Возвратившись домой от Сталина, Демьян рассказывал, какую чудесную землянику подавали только что у него на десерт. И Презент записал: «Демьян Бедный возмущался, что Сталин жрёт землянику, когда вся страна голодает».
Этот дневник Презента был доставлен «куда следует», и с этого времени началась опала Демьяна. Гадостей и оскорблений в свой адрес Сталин не прощал никому.
Сам Михаил Яковлевич ещё недолго домысливал наблюдаемые им в жизни ситуации, 11 февраля 1935 года он был арестован по «кремлёвскому делу» и, спустя немногим более трёх месяцев, умер в тюремной больнице. А поэт пролетариата Демьян Бедный прожил ещё до 1945 года, а потом внезапно умер. От страха. «У него во всех президиумах было своё постоянное место, куда он и шёл привычно, – писала в книге «Расстрел через повешение» Валерия Ильинична Гордеева. – И вдруг что-то изменилось. Только, было, направился он на своё обычное место во время очередного торжества, как Молотов, недобро сверкнув стёклышками пенсне, спросил его ледяным голосом: «Куда?!» Испугавшись, Демьян долго пятился от него задом, как гейша, потом кое-как доплёлся до дома и умер. Об этом поведала его родная сестра».
Фёдор Фёдорович Раскольников ко многим советским писателям относился, можно сказать, по-дружески, печатая их произведения в своих журналах и поддерживая их творчество. Хорошо он относился и к известному прозаику Илье Григорьевичу Эренбургу, уважая его личность и творчество, и поэтому, став редактором «Красной нови», он тут же предложил ему «социальный заказ»: речь шла о серии литературных репортажей из Германии, Чехословакии и Польши. Так что весь 1927 год проходил у Эренбурга под лозунгом: «Лезь, Илья, лезь!», – и вот ему представилась уникальная возможность «пролезть» в ряды официально признанных советских писателей. Неужели в Москве вспомнили, что имеют дело с талантливым журналистом, автором «Лика войны»? Как бы там ни было, предложение это как нельзя более кстати: измученный долгим бездействием, Эренбург готов к новым приключениям: у него появился шанс стать советским Альбером Лондром и послужить правому делу…
А в 1930 году, будучи в то время одним из руководителей советского искусства, Фёдор Фёдорович начал своё предисловие к изданию книги Эренбурга «Визы времени» с того, что «в отличие от буржуазных писателей, которых мы вовсе не принимаем, Илью Эренбурга наряду с попутчиками мы принимаем “отсюда и досюда”». И в то же время он за наличие у него немарксистского подхода упрекал Эренбурга в своём предисловии за то, что «основной недостаток книги заключается в стремлении Эренбурга разгадать метафизическую “душу” каждой нации вместо изучения своеобразных экономических условий, определяющих нравы, обычаи, политический строй, философию и культуру данной страны. Эренбург придерживается устарелой теории национальных характеров».
Машинная культура, машинный человек и сама по себе машина – всё это для Ильи Эренбурга представляло собой наваждение капитализма, мёртвую цивилизацию. Наибольшую же ценность и интерес представляла в его понимании абстрактная «культура» – некая духовная аура, соединяющая архитектурный облик городов и деревень с «душой народа». Несмотря на то, что Эренбург немало внимания отдавал изучению экономических условий, национальный характер для него всё-таки оказывался намного важнее.
Анализируя книгу Ильи Эренбурга «Виза времени», Фёдор Раскольников в своём предисловии к ней указывал советскому читателю на причины серьёзнейших недостатков в его творчестве: «Продолжительный отрыв от страны, охваченной энтузиазмом строительства и неутомимо закладывающей фундамент величественного здания социализма, не может пройти безнаказанно для писательской психики».
Вся деятельность Фёдора Фёдоровича показывает, насколько разносторонним был его талант: он и флотоводец, и дипломат, и партийный деятель, и литератор, и переводчик иностранных стихов. И чем бы он ни занимался, какое бы задание партии ни выполнял, всегда и во всём проявлялась его глубокая марксистско-ленинская убеждённость, революционная стойкость, большевистская страстность и высокая партийная выдержанность.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.