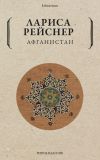Автор книги: Николай Переяслов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
Глава четвёртая
Между Балтийским и Каспийским
В начале осени 1918 года Фёдор Раскольников так писал об участии Волжской военной флотилии, которой он тогда командовал, в освобождении Волги и Камы от белогвардейцев и чехов: «10-го сентября она принимала непосредственное участие во взятии Казани, а затем, с ежедневными боями преследуя белогвардейскую флотилию, совершила поход по Каме, причём ей удалось загнать неприятельские суда в реку Белую и заставить их укрыться в Уфе. Освобождение Камы от белогвардейских банд удалось довести выше Сарапула до Гальян, где нас застал начавшийся ледоход, ввиду чего Красной Волжской флотилии пришлось срочно идти на зимовку в Нижний Новгород. После окончания кампании я вернулся в Москву, где в качестве члена Реввоенсовета республики принимал участие в его заседаниях и вместе с покойным Василием Михайловичем Альтфатером руководил морским комиссариатом».
В Реввоенсовете Раскольников отвечал за морские вопросы, являясь на тот момент главным начальствующим лицом в военно-морском флоте страны. Себя он не без гордости именовал в это время «красным лордом», намекая тем самым, что он, вчерашний недоучившийся мичман, вознёсся ныне до вершин власти лордов британского Адмиралтейства.
Жена поэта Осипа Мандельштама Надежда, несколько раз навещавшая в Москве «мятежную чету», рассказывала, что Раскольников с Ларисой и в голодной столице жили по-настоящему роскошно – у них были «особняк, слуги, великолепно сервированный стол».
При всём при том, надо признать, что отношение к деятельности Фёдора Фёдоровича на флотской службе со стороны некоторых морских офицеров и рядовых моряков было очень неоднозначным, одни из них считали его «своим парнем» и героем, другие же – откровенным авантюристом и даже убийцей. Хотя многие понимают, что совершать такие революции, как в России, в белых перчатках невозможно, кровь в таких случаях льётся всегда. Революция сама по себе жестока, а расправы над офицерами – обычные для той поры, самосуды одичавшей толпы. И когда Раскольникова назначили командующим флотилией, Ленин писал командарму Вацетису, что это удивительно удачное назначение. Классовая ненависть бушевала, надо было объединить матросов с офицерами. Фёдора Раскольникова любили моряки, импульсивный, жаждущий немедленных действий, он умел повести людей за собой, никогда не кричал, не тыкал, в самых напряжённых ситуациях не повышал голоса. Он был своим также и для многих офицеров, не боясь вступаться за них и устраняя ретивых политработников.
Что же касается командования Раскольникова Волжской флотилией, то, судя по высказываниям ряда других офицеров, никакого выдающегося участия в этом он не проявил, и единственное, что было удачно проведено под его началом – это упомянутое выше и отмеченное в указе о награждении орденом похищение баржи с пленными красноармейцами у белых под Сарапулом. Этот случай, не имеющий прямого отношения к боевой деятельности флотилии, был разрекламирован на всю страну, как необычайная по смелости и дерзости операция. Говорят, чтобы увеличить эффект пиара, Раскольников сам писал статьи о себе, без всякого стеснения прославляя в них собственный героизм. На самом же деле ничего героического в этом событии не было, баржу с арестованными охраняли всего несколько старых солдат, которые без всякого сопротивления сами подали буксирные концы на пароход Раскольникова.
Будучи неплохим журналистом, Раскольников прекрасно понимал значение газетного слова и умело этим пользовался. Пленение баржи было возведено им и Троцким в ранг блестящей оперативной операции. Хотя кто-то утверждает, что на деле Фёдор занимался не столько руководством своей флотилией, а сколько совсем другими делами. Мол, будучи верным слугой Троцкого, он сочинял в это время приказ о провозглашении красного террора на Восточном фронте, в котором заявлял: «Каждый по справедливости получает то, что он заслужил своей ролью в революции и контрреволюции».
Что стояло за словами «красный террор» объяснять не надо: это массовые расстрелы пленных и заложников из числа представителей чуждых классов, а также знаменитые жуткие децимации Троцкого и многое другое. Нравится это кому-то или нет, а непосредственное отношение ко всему этому имел и Раскольников. Ведь недаром его жена Лариса с гордостью говорила о тех днях на Волге, что «мы расстреливали красноармейцев, как собак…» Но, может быть, это была только бравада, а подлинную правду о своём участии в войне она воплотила в прозе.
Друг и соратник Фёдора Раскольникова, бесстрашный боец партии, неутомимая Лариса Рейснер прекрасно рассказала об этих краях и той далёкой боевой осени в своих фронтовых очерках-былях. Несколько лет трудной и горячей жизни они были друг с другом рядом. Она прошла с Волжской флотилией весь её боевой путь. Была не только летописцем героических дел, но и активным участником боевых событий на Волге и Каме. Вместе с моряками она делила радость общих побед и горечь утрат. Её пламенные речи агитатора звучали в корабельных кубриках, в солдатских окопах, в крестьянских хатах освобождённых от белогвардейцев деревень. Она ходила в разведку по тылам врага. Несла правду о революции в занятые противником сёла и города. Она была по духу и по сердцу боевым комиссаром. И, может быть, верен рассказ о том, что прообразом женщины-комиссара в «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского была неустрашимая Лариса Рейснер…
* * *
6-го ноября, в связи с приближением начала ледохода, все корабли были отведены Раскольниковым на зимовку в Нижний Новгород, после чего он доложил Ленину и Реввоенсовету Республики, что Волжская флотилия, очистившая от противника Волгу и Каму, приведена в Нижний Новгород на зимовку. В тот же день его отозвали в Москву.
* * *
Тем временем Балтийский флот, собранный к концу 1918 года в Кронштадте и Петрограде, стремительно деградировал, превращаясь в ржавую груду железа из-за нехватки умелых начальников, команд и угля. Впоследствии Раскольников дал ему свою уничижительную характеристику: «Полгода никаких плаваний и работ не проводилось. К ничтожным остаткам обученных матросов добавились совершенно неопытные в морском деле люди, нанявшиеся служить часто ради того, чтобы куда-то пристроиться».
Сломить «балтийское неподчинение» Троцкий и задумал, назначив туда Раскольникова, чтобы тот «почистил конюшни». Поэтому поводом для приезда Раскольникова в Кронштадт и явилась очередная перетряска руководства Балтийским флотом, затеянная в конце 1918 года Троцким. Председатель реввоенсовета в очередной раз избавлялся от инакомыслящих, приводя к рычагам военной власти только своих приверженцев.
Почти одновременно Раскольников получает и самый большой политический пост в РККф – председателя бюро морских комиссаров, а заодно дополнительно и ещё две должности – члена РВС Балтики и помощника командующего 7-й армией по морской части.
* * *
В декабре 1918 года Раскольников по приказу Троцкого пытался организовать дерзкий морской набег на город Ревель (нынешний Таллинн), где в то время стояли английские суда. Как член Реввоенсовета Республики, он был поставлен во главе отряда особого назначения. В кабинете начальника морских сил Балтийского моря состоялось заседание, на котором был разработан конкретный план действий. По техническому состоянию кораблей, находившихся в зимнем ремонте, командование Балтфлота смогло выделить для операции только небольшие силы – линейный корабль «Андрей Первозванный», крейсер «Олег» и три миноносца – «Спартак», «Автроил» и «Азард», которые поступили в распоряжение Раскольникова. При этом Раскольников, как никто другой, знал, что Балтфлот был далеко не в том состоянии, чтобы можно было принимать участие в боях, но ослушаться приказа тогда было невозможно…
Когда «Спартак» вышел на траверз острова Вульф, для того, чтобы выяснить, сколько кораблей находится в Ревельской гавани, пришлось пройти мимо этого острова и обнаружить, нет ли на нём батарей. Для этого «Спартак» открыл по Вульфу огонь из стомиллиметровых орудий, но этот вызов остался безответным. Это придало участникам рейда большую смелость, и корабль уверенно продолжил свою разведку.
«Но, – как писал в своём очерке Раскольников, – едва поравнялись с траверзом Ревельской бухты, как в глубине гавани показался дымок, затем другой, третий, четвёртый, пятый. Мы развернулись на 180 градусов и, взяв курс на ост, полным ходом направились в сторону Кронштадта. Но пять зловещих дымков приближались к нам с большой быстротой. Вскоре показались резкие очертания военных кораблей. На наших глазах они сказочно вырастали, дистанция между нами стремительно сокращалась.
Мы без труда определили, что нас преследуют пять английских лёгких крейсеров, вооружённых 6-дюймовой артиллерией и обладающих скоростью хода, превышающей 30 узлов. Послали радио «Олегу» с призывом о помощи. Но англичане уже сблизились с нами до пределов орудийного выстрела и первыми открыли огонь. Мы отвечали залпами из всех орудий, за исключением носового, у которого предельный угол поворота не позволял стрелять по настигавшим нас английским кораблям…
Вдруг случайный, шальной снаряд, низко пролетев над мостиком, шлёпнулся в воду вблизи от нашего борта. Он слегка контузил Струйского и сильным давлением воздуха скомкал, разорвал и привёл в негодность карту, по которой велась прокладка. Это временно дезорганизовало штурманскую часть. Рулевой, стоявший у штурвального колеса, начал непрестанно оборачиваться назад, следя, где ложатся неприятельские снаряды.
Раздался оглушительный треск, и наш миноносец резко подбросило кверху. Он завибрировал и внезапно остановился. Мы наскочили на подводную каменную гряду. Все лопасти винтов отлетели к чёрту.
Позади нас торчала высокая веха, обозначавшая опасное место.
– Да ведь это же известная банка Девельсей, я её отлично знаю. Она имеется на любой карте. Какая безумная обида! – с горечью восклицал Струйский.
Осознав полную безвыходность нашего положения, я послал «Олегу» радиограмму с приказанием возвращаться в Кронштадт.
Английские матросы рассказывали потом, что адмирал, находившийся на головном корабле, уже поднял сигнал к отступлению: отогнав наш миноносец от Ревеля, он считал свою миссию законченной. Но при виде нашей аварии английские суда опять пошли на сближение. Ни на минуту не прекращая огня, они не сделали ни одного попадания, хотя расстреливали нас почти в упор. Сидя на подводных камнях, наш миноносец продолжал отстреливаться из кормового орудия. Но никакого вреда неприятельскому флоту тоже не причинил.
Заметив наше беспомощное положение, английская эскадра решила захватить миноносец «живьём». Я предложил открыть кингстоны, но это приказание не было выполнено. Инженер-механик Нейман ответил, что кингстоны не действуют.
Вскоре английские крейсера окружили нас и спустили на воду шлюпки.
Военморы из команды «Спартака» увели меня в кубрик и переодели в матросский бушлат и стёганую ватную куртку. Они заявили, что ни в коем случае не выдадут меня, и тут же, впопыхах, сунули мне в руки первый попавшийся паспорт военного моряка, оставшегося на берегу. Я превратился в эстонца, уроженца феллинского уезда. При моём незнании эстонского языка это было как нельзя более неудачно, но в тот момент некогда было думать. Кок миноносца – товарищ Жуковский – взял на хранение мои часы.
Не успели мы оглянуться, как на борту нашего миноносца появились английские матросы. С проворством диких кошек они устремились в каюты, кубрики и другие жилые помещения и самым наглым, циничным образом на глазах у нас принялись грабить всё, что попадалось под руку. Затем стали перевозить нас на свой миноносец.
На следующее утро миноносец «Wakeful» («Бдительный»), ставший для нас плавучей тюрьмой, снялся с якоря и отправился в поход. Прильнув к иллюминатору, я тщетно старался определить направление корабля…»
На рассвете 28 декабря российских матросов вызвали наверх. Раскольникова поставили во фронт – на левом фланге спартаковской команды. И в этот момент на шканцах появилась группа белогвардейских офицеров, среди которых Фёдор тотчас узнал высокую, долговязую фигуру его бывшего товарища по выпуску из гардемаринских классов – мичмана Оскара феста, который принадлежал к прибалтийским немецким дворянам. Вместе с другими белогвардейски настроенными офицерами он остался в Ревеле. На английском корабле фест был единственным одетым в штатское платье…
«Остановившись против нас у правого борта корабля, – пишет в своих воспоминаниях Фёдор Фёдорович, – фест медленно провёл взглядом вдоль всего фронта, и его широко раскрытые голубые глаза буквально застыли на мне. Обычный для него румянец с ещё большей силой залил продолговатое лошадиное лицо. Он сказал что-то своим белогвардейским спутникам, и меня тотчас изолировали от всей команды, раздели донага, подвергли детальному обыску.
В каюту, где проводилась эта унизительная процедура, буквально ворвался какой-то белогвардеец в форме морского офицера, взглянул на меня и, захлебываясь от радостного волнения, громко воскликнул: «Не is the very man» («Это тот самый человек»). Очевидно, он знал меня в лицо. Увидев теперь на мне матросский бушлат, скромное бельё и порванные носки, издевательски произнёс:
– Как ты одет! А ещё морской министр!..»
…Спустя некоторое время Раскольников был перевезён в Шотландию, а оттуда поездом доставлен в Англию. На какой-то промежуточной станции один из матросов купил свежий номер газеты, прочитав которую, Фёдор не смог удержаться от смеха. Заметка была озаглавлена: «Мы захватили в плен первого лорда большевистского адмиралтейства!» Сочетание таких противоположных понятий, как «лорд» и «большевизм», было очень неожиданным. Но, как видно, английская буржуазная газета не могла перевести иначе звание члена Реввоенсовета Республики на понятный для своих читателей язык.
А между тем, в январе 1919 года Раскольникова привезли в Лондон…
…В начале февраля в Совнарком неожиданно поступила телеграмма из Англии от самого Фёдора Раскольникова, в которой сообщалось, что он захвачен англичанами и содержится как заложник вместе с комиссаром эсминца «Автроил» Нынюком. С этого времени Л.Д. Троцкий и Лариса Рейснер начали принимать активные шаги по освобождению Фёдора из плена.
Проведя пять месяцев в Брикстонской тюрьме, он успел за это время прилично выучить английский язык по Евангелию и англо-французскому словарю, а также познакомиться с самим Лондоном. В мае он и находившийся с ним Нынюк были переведены в отель недалеко от Британского музея. В посольство Дании на имя Раскольникова из Москвы пришли деньги. Датская комиссия Красного Креста, наверное, была единственным иностранным представительством, находившимся тогда в Москве. Пленные приобрели себе приличные костюмы, Раскольников купил ещё мягкую фетровую шляпу. За 12 дней они успели познакомиться с Лондоном и Британским музеем, который произвёл на Фёдора грандиозное впечатление богатством археологических и художественных коллекций. В «Ковент-Гардене» они слушали оперу «Тоска» в исполнении первоклассных итальянских певцов, а также побывали в Зоологическом саду.
На английском миноносце, ещё раз пройдя мимо Ревеля, пленные прибыли в Гельсингфорс. До Белоострова им предоставили вагон третьего класса. Сопровождавшие их представители английского консульства и уполномоченный датского Красного Креста возмутились таким отношением финского офицера, который не скрывал вражды и надменности по отношению к русским, и потребовали перевести их в мягкий вагон.
«Была ясная солнечная погода, когда под конвоем финских солдат, в сопровождении англичанина и датчанина, с чемоданом в руках мы проходили путь от финской пограничной станции к Белоострову, – писал позже Фёдор Раскольников. – Вот, наконец, показался Белоостровский вокзал с огромным красным плакатом, обращённым в сторону Финляндии: «Смерть палачу Маннергейму!», – и впереди обрисовался небольшой деревянный мостик с перилами через реку Сестру. На советской стороне я увидел развевающиеся по ветру ленточки красных моряков. Медные трубы оркестра ярко блестели на солнце. Коренастый финский офицер, руководивший церемонией обмена, вышел на середину моста. Советский шлагбаум тоже приподнялся, и оттуда один за другим стали переходить в Финляндию английские офицеры. Первым прошёл майор Гольдсмит, офицер королевской крови, глава английской кавказской миссии, арестованный во Владикавказе. Он с любопытством разглядывал меня, по-военному взял под козырёк. Я приподнял над головой фетровую шляпу и слегка поклонился. Когда восемь или девять английских офицеров перешли границу, наши моряки запротестовали. Они потребовали, чтобы я был немедленно переведён на советскую территорию. Но финны упрямились. Они тоже не доверяли нашим. Было решено поставить меня на середину моста, с тем что, когда от нас уйдет последним англичанин, я окончательно перейду границу. Едва я вступил на мост, как наш оркестр громко и торжественно заиграл «Интернационал», финские офицеры, застигнутые врасплох, растерялись и не знали, что им делать. На счастье, их выручили из беды англичане. Те, словно по команде, все, как один, взяли под козырёк. Безмерная радость охватила меня, когда после пяти месяцев плена я снова вернулся в Социалистическое Отечество. Я поблагодарил моряков за встречу. На вокзале наши пограничные красноармейцы попросили меня поделиться своими впечатлениями, и я с площадки вагона произнёс небольшую речь о международном положении…»
Два года назад Фёдор Фёдорович встречал здесь возвращавшегося из эмиграции в Россию Владимира Ильича Ленина. А теперь на той же самой станции Белоостров он сам, возвращаясь из пятимесячного английского плена, был обменян на семнадцать британских офицеров, находившихся в то время в плену в российской тюрьме. Двадцать пятого мая Лариса Рейснер отправила по этому поводу юзограмму товарищу Зофу: «Сегодня выезжаю в Петроград, везу англичан на обмен Раскольникова, приготовьте помещение для английской миссии – 17 человек, желательно изолированное для всех мер предосторожности, и помещение для охранного отряда 20 человек».
И сегодня этот обмен состоялся.
Было это 27 мая 1919 года, и активное усилие в его освобождении из английского заточения принимали его жена Лариса Михайловна Рейснер и Лев Давидович Троцкий. Но окончательное слово было, как всегда, за товарищем Лениным, и он предложит англичанам обменять Раскольникова на пленных морских офицеров – великий вождь уважал жизни своих верных соратников. И Фёдор, и Лариса пройдут школу свирепой жестокости презрения к человеческой жизни, когда своих же красноармейцев, струсивших или просто растерявшихся, они (или при них по их приказу) расстреливали безжалостно, «как собак резанных», опричники товарища Троцкого в кожанках. Но вместе с тем, они были не чужды и любви, долетело ведь одно письмо из Брикстонской тюрьмы от Раскольникова до Ларисы, это было ещё 22 января: «Дорогая моя, любимейшая Ларисочка! Шлю тебе жаркий привет из далёкого пасмурного Лондона…» Хотя нахождение в те годы в Лондоне, даже в такой тюрьме, как Брикстонская, было отнюдь не отдыхом…
А после возвращения Фёдора Раскольникова из плена в Россию он оказался окружённым густым ореолом романтической славы. Сергей Есенин не скрывал своего удовольствия от встречи с ним и от того, что «сам» Раскольников восхищается его стихами и взял его книгу с собой на фронт, вспоминал друг поэта – Рюрик Ивнев. Именно он и рассказал в своём очерке вскоре после возвращения Раскольникова из Англии о его знакомстве в Москве с поэтом Сергеем Есениным:
«Гостиница «Люкс» на Тверской отведена для приезжих ответственных работников, но в виде исключения в неё временно поселили руководящих деятелей Москвы, которым жилу-правление не подыскало подходящей квартиры.
Около восьми вечера мы подошли к одному из номеров четвёртого этажа. Постучали. Ответа не последовало.
– Раз он хотел меня видеть, – сердито произнёс Сергей, – надо было прийти днём.
– Но он приглашал вечером, – ответил я. – Назначил, когда? В восемь часов.
– Мало ли что! Времени у него не хватает. Пришли бы днём, было бы лучше.
– Серёжа, ты рассуждаешь, как ребёнок!
– А ты – как чиновник! – огрызнулся Есенин.
– Довольно дурить. Постучим ещё раз.
Со свойственной деликатностью стучу в дверь. Ответа нет.
– Разве так стучат! – воскликнул Сергей.
– Иначе не умею! – я рассердился. – Не нравится, стучи сам.
– Если я начну стучать – дверь треснет, – улыбнулся Есенин. – Ты мне скажи, как было дело? Он действительно хотел меня видеть?
– Я уже десять раз говорю об этом: встретился он мне сегодня утром на Тверской и спрашивает: «Правда, что вы близко знаете Есенина?» Я отвечаю: «Это мой друг». Он обрадовался, улыбнулся и сказал: «В таком случае у меня к вам большая просьба. Познакомьте меня с ним. Я так люблю его стихи. Хочется посмотреть, каков он. Приходите сегодня вечером часов восемь вместе с ним… А ты хочешь, чтобы я привёл тебя в три часа и сказал: «Здравствуйте, мы пришли к вам обедать», – так, что ли?
Есенин засмеялся.
– Ну ладно, тогда постучу я. – И забарабанил так, что через минуты две дверь приоткрылась и показалась голова
Фёдора Фёдоровича Раскольникова. Увидев меня, он догадался, что рядом Есенин, и широко распахнул дверь.

Сергей Есенин
– Простите меня, грешного. Задремал, а потом и заснул крепким сном.
– А вот Серёжа так громко стукнул в дверь, что вы проснулись. Знакомьтесь: это и есть тот знаменитый поэт, которого вы любите и которого просили представить перед очи свои.
Раскольников обнял Сергея.
– Так вот вы какой! Я вас таким и представлял. Именно таким. Разве чуть-чуть повыше.
– Какой уж есть, не обессудьте, – шутливо проокал Есенин.
– Ну располагайтесь в моих апартаментах. Других нет. С трудом нашёл эту комнату. А вот и дары природы, которыми я в данный момент располагаю. – Он указал на яблоки. – Что касается напитков, то могу предложить абрикосовый сок.
Раскольников, недавно «выпущенный» из Англии, <…> был в ореоле романтической славы. Воодушевлённый и целеустремлённый революционер, он держался просто и естественно, очаровывал не только умом, но и обаятельной внешностью. С дружелюбием и доброжелательным любопытством всматривался в улыбающееся лицо Сергея, который не мог скрыть удовольствия, что «сам» Раскольников заинтересован им и восхищается его стихами. Мне было понятно, что они так быстро нашли общий язык. Не было и тени стеснения, какое бывает при первом знакомстве. Через несколько минут все говорили, будто давно знали друг друга.
Раскольников попросил Есенина прочесть новые стихи. Сергей не отказывался. Он поднялся с кресла, прошёлся по комнате, чуть не задев ломберный столик, улыбнулся, отошёл от него подальше и начал читать:
Свищет ветер под крутым забором,
Прячется в траву.
Знаю я, что пьяницей и вором
Век свой проживу.
Тонет день за красными холмами,
Кличет на межу.
Не один я в этом свете шляюсь,
Не один брожу.
Размахнулось поле русских пашен,
То трава, то снег.
Всё равно, литвин я иль чувашин,
Крест мой как у всех.
Верю я, как ликам чудотворным,
В мой потайный час.
Он придёт бродягой подзаборным,
Нерушимый Спас.
Но, быть может, в синих клочьях дыма
Тайноводных рек
Я пройду с улыбкой пьяной мимо,
Не узнав навек.
Не блеснёт слеза в моих ресницах,
Не вспугнет мечту.
Только радость синей голубицей
Канет в темноту.
И опять, как раньше, с дикой злостью
Запоёт тоска…
Пусть хоть ветер на моём погосте
Пляшет трепака.
Фёдор Фёдорович слушал внимательно. На его выразительном лице отражалось ничем не скрываемое восхищение. Стихи были прекрасны.
– Рюрик, может быть, и вы что-нибудь прочитаете?
– Давай, давай, не ломайся! – Есенин захлопал в ладоши.
Я начал читать:
Найду ли счастье в этом мире тленном
Средь пестроты наречий и одежд?
Во мне тоска невинно убиенных
И неосуществившихся надежд!
Во мне живёт душа вселенских предков,
И пламя их горит в моей крови.
Я в этом мире видимая ветка
Невидимого дерева любви.
Вот почему при каждом крике боли
Душа моя пылает, как в огне,
Вот почему нет самой горькой доли,
Не отражённой тотчас же во мне.
– Молодец! – Есенин обнял меня.
Раскольников пожал мне руку. Мы начали пить абрикосовый сок. Раздался стук в дверь. В комнату вошёл молодой человек, словно сошедший с революционного плаката.
– А, Щетинин! – воскликнул радостно Раскольников. – Заходи, заходи, боец! Знаю, что от абрикосового сока тебя бросит в жар, но ничего другого не нашлось. Знакомься – поэты Сергей Есенин и Рюрик Ивнев. А это – фронтовой товарищ, неугомонный Санька Щетинин – гроза контрреволюционеров и бандитов, да и сам в душе бандит, – засмеялся Раскольников. – Только бандит в хорошем смысле слова.
– Ну, Федя, ты скажешь, – добродушно улыбнулся пришедший, и мягкая улыбка на суровом лице показалась ласточкой, опустившейся на острую скалу.
Щетинин подошёл к столу, взял бутылку с остатками абрикосового сока и вылил в полосатую чашку. Затем медленно опустил руку в карман шаровар, извлёк бутыль водки и произнёс: – Вот это дело! Это по-нашему, по-деревенски, широко и вольготно. В городе всё шиворот-навыворот. Придумали дамские пальчики, соки-моки…
Я поёжился. Мне показалось, что сейчас начнётся попойка, а у меня врождённое отвращение к алкоголю. Но вопреки опасению всё получилось иначе. Начало было угрожающим, но Щетинин приготовил стол, деловито и аккуратно подобрал из разнокалиберной посуды всё необходимое. Я был изумлён: пиршество ограничилось тем, что Раскольников осушил четверть стакана с гримасой, которую никак нельзя назвать поощрительной. Есенин выпил без особого энтузиазма полстакана, виновник торжества – один стакан с удовольствием, но без бахвальства и понукания других следовать его примеру. Закусывали двумя огурцами, извлеченными из необъятных карманов щетининских шаровар, и куском сыра. Хлеба не оказалось, да он и не понадобился. Но формальности были соблюдены, и теперь каждый из присутствующих, если бы походил на многих других, имел бы полное основание сказать на следующий день: «Вчера мы здорово тяпнули!»
Нас вновь попросили прочесть стихи. Щетинин добродушно признался, что ни черта в них не понимает.
– Вот песни – это другое дело. Орёшь и сам не знаешь, что орёшь, но получается весело, а когда что-нибудь революционное, аж в груди замирает.
– Но всё-таки, – приставал к нему Есенин, – что-нибудь ты понимаешь, не деревянный. Что за поклёп на себя возводишь?
Щетинин отшучивался.
– Ну, пусть поклёп. Разорви меня бомба, если вру! Слова-то я понимаю и смысл, кажется, но вот хорошие стихи или плохие, не знаю. Абрикосовый сок от водки отличу сразу, а хороший стих от плохого – не могу. Да и не моё это дело. Куда мне со своим рылом соваться в калашный ряд!
– Ну, запел, – засмеялся Есенин, – тебя бы с Клюевым познакомить – тоже клянётся: я, дескать, стихов читать не умею, не то что писать.
– Да вы артист, Серёжа! – воскликнул Раскольников. – Точная копия Клюева. Я слышал недавно его в «Красном петухе».
– Как, – удивился я, – успели и там побывать?
– Каменева затащила, – улыбнулся Раскольников. – Это её детище.
– Знаю, знаю, там бывал и теперь захожу. Но откровенно: наряду с интересным там много карикатурного.
– Не в бровь, а в глаз, – засмеялся Раскольников. – Я оттуда едва нога унёс. Вышла какая-то громадная поэтесса…
– Это Майская…
– Фамилию не расслышал. Но плела такую чушь про искусство, что даже его поборникам стало тошно.
– Она! Она! Конечно Майская!
– Я говорю, что ничего не понимаю в стихах, а как послушал вас, вижу, что и вы ни черта не понимаете, раз считаете друг друга карикатурными.
– Это ты перебрал, – сказал Раскольников. – Мы считаем карикатурными не всех, а тех, кто действительно является таковым.
– Ну, значит, я вообще ничего не понимаю, – сдался с добродушной улыбкой Щетинин. – Искусство – старое, новое – для меня высокая материя. Давайте выпьем! – добавил он. – Однако не сделал ни малейшего движения в сторону принесённой бутылки.
– Жаль, что вы вылили абрикосовый сок, – с напускным огорчением произнёс я, обращаясь к Щетинину, – я бы с удовольствие выпил сейчас.
– Сок можно заменить чаем, – улыбнулся Раскольников.
– Нет-нет, не будем отнимать у вас столько времени, да и нельзя долго засиживаться. Утром я должен отнести в «Известия» стихотворение. А оно ещё того… не допеклось, – сказал Есенин.
– Серёжа, ты возводишь на себя поклёп, – улыбнулся я.
– Нет, серьезно, – ответил Есенин. В глазах его светились искорки смеха. – Понимаешь, как получилось: я даже не успел написать, как зашёл заместитель редактора. «Прочти, говорит, да прочти!» Я и прочёл. А он: «Принеси к нам, да поскорей. Больно к моменту!»
– Отпускаю с условием, – сказал Раскольников, – что вы будете заходить ко мне часто. Чем чаще, тем лучше. Ведь я здесь временный гость. Скоро меня направят по назначению. И стихи приносите. И книжечку, если она сохранилась. Хоть одну раздобудьте, чтобы я взял её на фронт».
И сказанные им слова оказались пророческими – Раскольникова и правда уже ждало направление. Но так всё равно успела завязаться эта прерывающаяся, пунктирная дружба между великим русским поэтом и легендарным революционером, флотоводцем, дипломатом и писателем, жизнь которого была похожа на кем-то придуманную, авантюрную, непостижимую историю…
* * *
Через две недели после возвращения в Советскую Республику Раскольников был назначен командующим Волжско-Каспийской флотилией. Это было довольно тяжёлое для неё время, так как было нужно срочно восстанавливать корабли и освобождать порты и акваторию от врагов.
Фёдор Фёдорович не постеснялся дать ход чувству семейственности и тут же назначил своего тестя начальником политотдела, а культурно-просветительный отдел вручил своей жене Ларисе. И это назначение явилось для неё самым настоящим звёздным часом. Нарядившись в кожаную куртку и взяв в руки парабеллум, Рейснер быстро превратилась в глазах моряков в символ революции. Она участвовала в боях, поражая мужчин своей неутомимостью, выдержкой и бесстрашием. Она, как все, страдала от голода и вшей, заболела лихорадкой, от которой мучилась до самой смерти.
Вместе с флотилией Лариса Рейснер прошла с боями от Казани до персидской границы. Однажды она даже попала в плен к белякам, но благодаря красоте и своим не очень строгим моральным принципам, с успехом выбралась из него…
Волга тогда была перерезана неприятелем сразу в нескольких местах и, по образному выражению одного из участников событий, она «превратилась прямо в слоёный пирог». Неспокойно было также и в самой Астрахани, где размещалась главная база флотилии. В мае войска Деникина вышли к Царицыну и на дальние подступы к Астрахани. С другой же стороны – на город нацелилась отдельная Уральская армия, а с Каспия угрожали ей корабли вражеского флота.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.