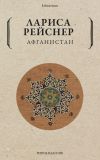Автор книги: Николай Переяслов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
Глава тринадцатая
Снова в Париже
Возвратившись из Москвы, пишет Муза Васильевна, «мы с радостью вошли в белый посольский дом в Софи, с какой-то невероятной надеждой, что здесь ничего не изменилось…
С каждым днём, понемногу, но неотвратимо, безнадёжно мы отрывались от прежней жизни и летели в какую-то ужасную пропасть, каждый день Федя с кипой газет входил в мой маленький салон. Он молча указывал пальцем на заголовки газет, где имена героев революции печатались с эпитетом: «бешеные псы», «похотливые гады», «троцкистские шпионы и предатели» и прочее. Так же молча мы обменивались взглядами. Мы поняли, что надо быть осторожными, что мы теперь находимся под особым наблюдением «недремлющего ока» Яковлева, скромного секретаря консульства, негласного представителя НКВД. Я уже застала одну из уборщиц, жену курьера охраны, прильнувшей ухом к двери маленького салона. С тех пор мы никогда больше не вели откровенных разговоров о том, что происходит в СССР, в стенах полпредства. Мы знали, что у них есть уши…
Однажды Фёдор показал мне приказ всем библиотекам, присланный из Москвы. В нём после имени автора и названия книги стояло: «изъять все книги, брошюры и портреты». На букву «Р» после Радека стояло – «Раскольников: “Кронштадт и Питер в 1917 году”. – Изъять…»
Раскольникову по дипломатической почте то и дело начали поступать из Народного комиссариата иностранных дел предложения сменить место работы в Софии на Чехословакию, Грецию или же Турцию. Раскольников всячески отказывался от этого, заявляя, что он вполне «удовлетворён своим пребыванием в Болгарии» и не хотел бы обрывать проекты, незавершённые в этой стране.
На мартовском Пленуме ЦК 1937 года в своей речи Сталин прямо заявил, что «враги» проникли во все поры государственного и партийного аппарата. Верить никому нельзя, шпионом может быть всякий, даже партийный билет не может быть гарантией. После этой речи безумие террора ещё возрастает – все граждане СССР, писатели, журналисты, деятели театра и кино, учёные – все должны включиться в эти сусшедшие поиски «врагов».
В июне того же 1937 года тяжёлым ударом и грозным сигналом для него явилось сообщение о процессе и расстреле Тухачевского, Якира, а также других его друзей и соратников. Эта новость показалась совершенно невероятной: в центральном аппарате Наркомата обороны органы НКВД раскрыли военно-фашистский заговор во главе с маршалом Тухачевским, до недавних пор – первым заместителем наркома обороны! Вместе с ним были арестованы и преданы суду – этот суд был закрытым – несколько высших военачальников, и в их числе командармы первого ранга Якир, Уборевич, Корк, комкоры Путна и Примаков. Их обвиняли в связях с военной разведкой «одного из иностранных государств», которое вело «недружелюбную политику в отношении СССР». Военным кругам этого государства они будто бы доставляли шпионские сведения, занимались вредительством в Красной Армии, готовили контрреволюционный переворот в СССР. Суд, состоявшийся 11 июня, вынес всем подсудимым смертный приговор, и на следующий день их расстреляли.
Всех этих людей Фёдор Фёдорович знал лично, они были его соратниками по гражданской войне, а некоторые и его друзьями, он с ними неоднократно встречался, бывая в Москве, и ни разу ни на секунду он не усомнился в том, что с ними могла произойти та же беда, что и с Пятаковым, Каменевым, Зиновьевым и другими осуждёнными по московским процессам. Суд был откровенно фиктивный, подсудимые были заведомо осуждены, независимо от характера улик, добытых следователями НКВД.
Высшее руководство Красной Армии было уничтожено. Раскольников тяжело переживал эти убийства. Он знал их всех лично. Они были его соратниками и друзьями.
«Это конец, – сказал Раскольников, когда они с Музой, приехав по обыкновению к царскому дворцу во Вране, чтобы без помех обсудить происшедшее, вышли из машины, пошли по тенистой пустынной дороге. – Больше надеяться не на что. Я думал, военные остановят безумие, заставят одуматься руководство. Интересы укрепления обороны страны вынудят их вмешаться в политику. Не может страна развиваться из-под палки НКВД. Нет, и их сломили. Какой-то бред. Не было и попытки сопротивления. Якир, Тухачевский, Примаков, храбрецы, позволили себя арестовать…»
1937 год проходил в СССР под знаком «ежовщины», косившей направо и налево кадры ВКП(б) и Красной Армии. Чистка перекинулась и за рубежи СССР. Советские дипломаты, вызываемые под благовидным служебным предлогом в Москву, попадали в ежовские застенки и подвергались жесточайшим репрессиям. «Правда» и «Известия» призывали повышать политическую бдительность, разоблачать «врагов народа», вредителей и шпионов везде и всюду. В полпредстве на собраниях партячейки верховодил секретарь генконсульства Яковлев, агент НКВД, заявлявший, что и в полпредстве есть тайные враги и долг коллектива выявить их и разоблачить…
С конца февраля вновь потекли вести, вызывавшие оцепенение. Сначала состоялся Пленум ЦК партии, который постановил предать суду Бухарина и Рыкова, ожидавших решения своей участи под арестом, а затем и процесс над ними и другими старыми большевиками, в том числе Раковским и Крестинским. Среди подсудимых, помимо старых большевиков, было несколько врачей и, что придавало процессу особый, пикантный оттенок – недавний глава НКВД грозный Ягода. Все эти люди, всего 21 человек, объединённые следствием в «правотроцкистский блок», обвинялись в шпионаже против СССР, измене Родине и, кроме того, в убийстве Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького, подготовке покушений на жизнь Ленина, Сталина, Свердлова, а также других деятелей партии. Суд был открытый, печатались стенограммы судебных заседаний, и, вчитываясь в них, снова приходилось поражаться вызывающему цинизму организаторов этих расправ.
По-прежнему никаких вещественных улик в деле не фигурировало. Судили и осуждали обвиняемых исключительно на основе их собственных признаний и взаимных оговоров, вынужденных, надо было полагать, тяжёлыми пытками. В чём только не признавались обвиняемые! Раковский заявлял: «Я вернулся из Токио, имея в кармане мандат японского шпиона». Крестинский говорил, что получал по двести пятьдесят тысяч марок в год прямо из гестапо. Ягода с подробностями показывал, как «по прямому сговору с японской и германской разведками» и «по заданию Троцкого» организовывал убийства «лучших людей нашей родины», используя в качестве убийц завербованных им известных врачей Левина, Плетнёва, Казакова, и почтенные доктора подтверждали этот бред…»
Одновременно с информацией о новых процессах, начали поступать телеграммы из Наркомата иностранных дел, в которой Фёдору в самой категорической форме предписывалось немедленно приехать в Москву для получения новой должности. По словам Музы, Раскольников с этого времени стал носить в кармане заряженный револьвер, тогда как другой у него хранился в ящике ночного стола.
Зимой 1937–1938 года во время загородной прогулки в деревне Чамкории, куда Раскольниковы ездили чуть ли не каждые выходные, чтобы прогуливаться там по пустынному зимнему лесу, Фёдор сообщил жене о своём твёрдом решении в СССР уже не возвращаться, так как он чувствовал собирающиеся там над ним тучи. Да и что там было делать нормальному человеку, а тем более – честному писателю?..
Из «дела» Фёдора Фёдоровича Раскольникова (1963 год):
«…После XVII съезда он, находясь за границей, с тревогой наблюдает за развитием культа личности Сталина. В результате произвола и беззаконья бессмысленно гибли ленинские кадры партии и Советского государства, выдающиеся военачальники, которых Раскольников лично знал по гражданской войне, дипломатические работники, неугодные Сталину. Всё это настораживало Раскольникова. Работая в Болгарии, он стал замечать, как подосланные Ежовым, а затем Берия агенты ведут за ним слежку.
На протяжении 1936–1937 годов Наркоминдел неоднократно вызывал его из Софии в Москву якобы для переговоров о новом назначении то в Мексику, то в Чехословакию, то в Грецию, то в Турцию. Чувствуя «явно несерьёзный характер» таких предложений, Раскольников отказывается от этих предложений, заявляя, что он «удовлетворён своим пребыванием в Болгарии» или находя какие-нибудь веские поводы, для появления отказа. Наконец, Наркомин-дел не вытерпел и потребовал немедленного его выезда в Москву, обещая неопределённое «более ответственное назначение».
В начале 1938-го года НКВД СССР получило от арестованного Павла Ефимовича Дыбенко, знаменитого в недавнем прошлом революционера, его собственные показания о принадлежности Фёдора Фёдоровича Раскольникова к «антисоветской троцкистской организации». Самого Павла Дыбенко судьба уже со свистом несла по наклонной. Когда Сталин начал чистки в Красной армии, Дыбенко на первых порах выступил в качестве надёжного исполнителя террора. Он репрессировал подопечных в Ленинградском военном округе, где сам был командующим. Апогеем же его выслуги стало его участие в судебном процессе над маршалом Тухачевским летом 1937 года. А всего через несколько месяцев после этого эпизода он сам Постановлением высших органов государства на основании весомых обвинений был снят со всех своих должностей. Решение об этом гласило:
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О т. Дыбенко» 25 января 1938 года.
СНК СССР и ЦК ВКП (б) считают установленным, что:
а) Т. Дыбенко имел подозрительные связи с некоторыми американцами, которые оказались разведчиками, и недопустимо для честного советского гражданина использовал эти связи для получения пособия живущей в Америке своей сестре.
б) СНК СССР и ЦК ВКП (б) считают также заслуживающим серьёзного внимания опубликованное в заграничной прессе сообщение о том, что т. Дыбенко является немецким агентом. Хотя это сообщение опубликовано во враждебной белогвардейской прессе, тем не менее, нельзя пройти мимо этого, так как одно такого же рода сообщение о бывшей провокаторской работе Шеболдаева при проверке оказалось правильным.
в) Т. Дыбенко вместо добросовестного выполнения своих обязанностей по руководству округом систематически пьянствовал, разложился в морально-бытовом отношении, чем давал очень плохой пример подчиненным.
Ввиду всего этого СНК СССР и ЦК ВКП (б) постановляют:
1. Считать невозможным дальнейшее оставление т. Дыбенко на работе в Красной Армии.
2. Снять т. Дыбенко с поста командующего Ленинградским военным округом и отозвать его в распоряжение ЦК ВКП (б).
3. Предложить т. Маленкову внести свои предложения о работе т. Дыбенко вне военного ведомства.
4. Настоящее постановление разослать всем членам ЦК ВКП(б) и командующим военными округами.
По итогам этого Постановления последовало несколько кадровых перестановок, после чего Дыбенко попал на работу в наркомат лесной промышленности, где он стал руководить заготовками древесины в ГУЛАГе. А в феврале 1938 года его арестовали самого. По тогдашней традиции Павел Ефимович Дыбенко был обвинён в шпионаже на иностранную разведку и даже в связях с Тухачевским, которого совсем недавно он сам помог карательным органам его посадить.
Известного военачальника Гражданской войны расстреляли 29 июля 1938 года.
А в июле 1939 года, находясь во франции, Раскольников узнаёт, что на Родине он объявлен «врагом народа» и поставлен вне закона. Тогда, оказавшись в чрезвычайно трудных условиях, Ф.Ф. Раскольников решает начать борьбу с культом личности Сталина. 26 июля 1938 года он публикует в парижской русской эмигрантской газете «Последние Новости» протестное письмо «Как меня сделали “врагом народа”», в котором решительно выступает в защиту себя и других невинно пострадавших видных деятелей партии и Советского государства».
С того времени органами НКВД было установлено наблюдение и за Фёдором Раскольниковым – «на основании данных о том, что Раскольников, являясь полномочным представителем СССР в Болгарии, хранил документы Троцкого». И от него всё настойчивее и настойчивее требовали приезда в Москву, откуда, как уже понимал Раскольников, не будет возврата…
Но не каждому была охота нести свою голову на подготовленную плаху, не захотел этого делать и Фёдор Фёдорович Раскольников. 1 апреля 1938 года по категорическому требованию из наркомата иностранных дел он со своими женой Музой и грудным ребёнком – полуторагодичным сынишкой Федей, родившимся в 1937 году, – выехал из Софии по направлению к Москве «для переговоров о новом, более высоком, назначении», однако, предчувствуя дома арест, в СССР он так и не вернулся. До поры в нём ещё теплилась робкая надежда на то, что его действительно вызывают в Москву для того, чтобы дать новое назначение, но, выйдя в Берлине на вокзале, он купил там одну из немецких газет и узнал из неё, что он только что был смещён с должности полпреда СССР в Болгарии. Он давно уже предполагал, что его былая связь с Троцким рано или поздно станет причиной ареста со всеми вытекающими последствиями, поэтому и вызов из Наркомата иностранных дел СССР в Москву он воспринял как тревожный сигнал. Томившие его всё время ранние опасения сегодня подтвердились. Стало очевидно, что впереди его ждёт такая же печальная участь, какая досталась уже многим другим видным деятелям – скорый арест и последующий расстрел. Поэтому, пересев в Праге на встречный поезд, идущий на запад, он уехал вместе со своей семьёй сначала в Берлин, потом в Брюссель, а оттуда – во францию, и поселился в Париже.
Устроив свою семью, он начал посылать письма И. В. Сталину и наркому иностранных дел М.М. Литвинову, прося оставить ему советское гражданство и объясняя «временную задержку» за границей различными формальными причинами. Но ответов из Москвы всё не было.
Однако развязка должна была наступить неизбежно, и 26 июля 1938 года в эмигрантской газете Милюкова «Последние новости» появилось протестное письмо Раскольникова под названием «Как меня сделали “врагом народа”».
Реакция на это советских властей последовала через год, когда Раскольников был заочно исключён из партии, лишён советского гражданства и объявлен вне закона, что в соответствии с постановлением ЦИК СССР от 21 ноября 1929 года влекло расстрел осуждённого через 24 часа после удостоверения его личности. Ответом Раскольникова на эти меры стало его знаменитое «Открытое письмо Сталину», работу над которым он завершил 17 августа 1939 года. Этот яркий документ, обличавший сталинские репрессии в отношении конкретных лиц прежнего руководства большевистской партии и рядовых советских граждан, был опубликован 1 октября 1939 года в эмигрантском издании «Новая Россия», выходящем под редакцией Керенского, но это было уже после смерти Раскольникова.
(Думается, что после того, как 6 апреля 1938 года газета «Правда» на весь мир опубликовала сообщение об освобождении Фёдора Фёдоровича Раскольникова от обязанностей полномочного представителя СССР в Болгарии, жить ему в СССР оставалось бы совсем немного. Да и зарубежье тоже не гарантировало долгой свободы, но всё-таки здесь был шанс где-то хоть немного отсидеться…)

Открытое письмо Раскольникова Сталину
Оттуда, из европейской «норы», Раскольников написал Сталину письмо, обвиняя его в избиении партийных кадров и пытаясь доказать ему, что он «никогда не отказывался и не отказывается возвратиться в СССР».
Он хорошо представлял себе, что ожидает его за измену Родине – именно так квалифицировали его побег за границу. До последнего дня он жил в невыносимой атмосфере страха, опасаясь за свою жизнь. Это не могло не сказаться на его физическом и душевном здоровье, что вскоре очень сильно скажется на здоровье Фёдора. Да и Иван Алексеевич Бунин это тоже скоро заметит.
Когда-то он так напишет о своей встрече с Раскольниковым во франции: «Погода всё последнее время всё-таки неважная. Солнце, облака, ветер с востока. Печёт – и прохладный ветер… Страна за страной отличается в лживости, в холопстве. Двадцать четыре года не “боролись” – наконец-то продрали глаза. А когда ко мне прибежал на Belvedere сумасшедший Раскольников с беременной женой (бывший большевицкий посланник в Болгарии), она с восторгом рассказывала, как колыбель их первенца тонула в цветах от царя Бориса…»
Честно говоря, как-то не очень лицеприятно отозвался он здесь о Фёдоре Фёдоровиче. Ведь они были знакомы лет двадцать, а то и больше. Зато очень честно написал в своём стихотворении о встрече Раскольникова с Буниным современный русский поэт Дмитрий Мизгулин, дав ему название «Фёдор Раскольников в Париже»:
Минувшее явственно вижу,
Прошедшие годы не в счёт.
И вот по ночному Парижу
Раскольников Фёдор идёт.
Без паспорта въехал. Без визы.
Трубят «фигаро», «Пари матч»:
Он бросил нешуточный вызов,
К вождю обратившись: «Палач!»
Ах, память, ты, русская память!
Оглянешься с мукой назад —
Кроваво-закатное знамя,
Туманно-ночной Петроград.
И будет спасение миру,
И счастье, и свет, а пока —
Не ты ли в ночные квартиры
Ломился с мандатом ЧК?
Не ты ли, Раскольников, рьяно
Великой идее служил?
Как демон полночный с наганом
Во тьме предрассветной кружил?
Теперь спохватился – не слишком
Взметнулся всемирный пожар?
Во что же ты верил, братишка?
Куда ж ты нас вёл, комиссар?..
Ах, память, ты, русская память!
Всё вспомнишь, в конце-то концов.
Тобой-де раздутое пламя
Тебе опалило лицо.
Огнями ночного Парижа
Вся комната озарена,
А память всё ближе и ближе,
И всё беспощадней она.
И снится убитый царевич,
И кровью забрызганный лёд.
И Бунин Иван Алексеич
Руки тебе не подаёт.
(Надо полагать, что у Ивана Бунина, писавшего в своей знаменитой дневниковой книге «Окаянные дни» о жестокостях русской революции, действительно имелись реальные причины для того, чтобы не пожимать руку бежавшему за границу Фёдору Раскольникову, эту самую революцию в своё время и осуществлявшему. Но нам, сегодняшним, надо гораздо более пристально вглядеться в судьбу этого достаточно крупного российского деятеля, немало лет своей жизни отдавшего становлению советской власти и расцвету при ней своей собственной судьбы. Как это ни печально, но многие жизненные факты говорят нам о том, что октябрьскую революцию 1917 года большевики совершали лишь для того, чтобы сместить царскую власть и занять её место самим, но вот так ли это было на самом деле или нет, мы можем узнать только из погружения в реальные факты судеб революционных деятелей России, в том числе – и Фёдора Фёдоровича Раскольникова…)
…Узнав, что в Париже находится и Илья Эренбург, Раскольников навестил и его. Когда-то здесь, в Париже, он виделся с Ильёй Григорьевичем, в то время полуэмигрантом, и утешал его. Теперь их роли переменились. Фёдор пытался объяснить Эренбургу, почему он решил не возвращаться, и чувствовал, что тот его не слышит. Горячился, доказывая, что страна миновала социализм, а внешняя политика, тайная, ведет её к сближению с фашистской Германией, ссылался при этом на статью Кривицкого, к этому времени уже вышедшую в «Социалистическом вестнике». Эренбург же говорил об успехах индустриализации и об энтузиазме и единодушии народа, которых в России никогда прежде за всю её историю не бывало. Как и Суриц, который тоже советовал Раскольникову вернуться домой. В итоге разошлись, недовольные друг другом…
В телеграмме Якова Сурица в МИД Литвинову от 6 июля 1938 года было сказано: «Сегодня в моё отсутствие зашёл в полпредство Эренбург и оставил следующую записку: “Сегодня ко мне явился Раскольников… Он заявил, что остался как был коммунистом и совгражданином. Ехал в Москву, а по дороге, в Чехословакии, узнал о своём смещении без указания «товарищ». Что он писал товарищам Сталину и Потёмкину, что он не хочет никак выступать против СССР, что боится, не был ли (или не будет ли) лишён советского гражданства, что думает жить литературной работой, а имеет печать дезертира”».
Любопытно, что в тот же день, 6 июля, в НКВД поступило совершенно аналогичное сообщение из Парижа, тоже со слов Эренбурга, но сказанных им на вокзале перед отъездом в Испанию.
Но эти телеграммы не оказали Раскольникову ни малейшей пользы. В 1938 году он был исключён из ВКП(б) и 17 июля того же года был объявлен врагом народа, а также лишён гражданства СССР и всех правительственных наград.
В августе 1938 года, избегая иезуитских призывов НКВД срочно явиться в Москву для получения нового назначения, в Париж приезжает Фёдор Фёдорович Раскольников, который в двадцатые годы редактировал журнал «Красная новь», где он опубликовал первые «советские» статьи Ильи Эренбурга. После того, как советский посол во франции Яков Суриц, к которому в отчаянье обратился Раскольников, тут же приказывает ему немедленно возвращаться в СССР (мол, ничего тебе не будет, так что не бойся), Фёдор приходит к Эренбургу.
Сегодня неизвестно, что именно сказал Эренбург Раскольникову (да и кто мог это знать, кроме самого Эренбурга?). Но мог ли Илья Григорьевич посоветовать Фёдору не возвращаться в Москву? Ведь произнести такие слова, это значило – подвергнуть себя страшному риску, самостоятельно положить свою голову под топор. Не исключено, что он повторил Фёдору те же самые слова, которые сказал ему накануне Яков Суриц, но в таком случае, почему он сохранил свою беседу с Раскольниковым в тайне – тоже неясно…
Так или иначе, Раскольников решил остаться во франции и через парижское агентство новостей обратился к Сталину с открытым письмом: «Ваша безумная вакханалия не может продолжаться долго. <…> Рано или поздно советский народ посадит Вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного «врага народа», организатора голода и судебных подлогов».
Но до опубликования этого страшного письма пройдёт ещё несколько тревожных и томительных недель, а то и месяцев…
В Париже Фёдор Фёдорович волей-неволей сошёлся с соотечественниками и сам не заметил, как оказался среди тех самых “белогадов”, уничтожение которых считал главной заслугой своей жизни. Очень оказались приятные и душевные люди, а с некоторыми даже было занятно вспомнить былые сражения, узнать, как это выглядело с другой стороны. По негласному уговору они не касались только одной колкой темы: проклятых расстрелов, которых достаточно было на совести и у одной, и у другой стороны. Мёртвых уже не поднять, вспоминать – стыдно, а от ответа всё равно никуда не скроешься.
На удивление, эмигранты – и “беляки”, и “революционеры” – или во Франции одной общиной, вместе тянули нелёгкую долю изгнанников и только иногда едко иронизировали друг над другом. Раскольникову они помогали, чем могли, и даже сочувствовали, называли его жертвой сталинского произвола. С эсэром Ильёй Исидоровичем Фондаминским-Бунаковым, редактором журнала “Современные записки”, у Фёдора Фёдоровича установились особенно доверительные отношения. В 1918 году, после того, как большевики разогнали Учредительное собрание, Фондаминский-Бунаков скрывался на Волге, в Костромской губернии. Однажды судьба свела их на пароходе, куда Раскольников явился с обыском. Фёдор знал бывшего комиссара Временного правительства в лицо, но сделал вид, что не заметил, и отвернулся. За это Фондаминский был до сих пор благодарен Раскольникову и искренне предлагал ему помощь, хоть сам жил отнюдь не в роскоши.
«…Мне помощь не требуется, – ответил Раскольников. – А вот жене и дочери помогите, если понадобится. Меня могут убить, и тогда они останутся совсем одни…
– Вы ИХ опасаетесь? – поинтересовался Фондаминский, не упоминая вслух чекистскую зарубежную агентуру: так было принято среди эмигрантов.
– Я не опасаюсь, я знаю, – ответил Фёдор Фёдорович. – Меня в живых не оставят! Но кое-что сделать я ещё успею, и как следует вмажу этому усатому мерзавцу!.. За себя, за Лару Рейснер, за её семью, за всех, кого его проклятый режим лишил жизни, чести или доброго имени.
– Благородно, Фёдор Фёдорович, – похвалил его Фондаминский, без особого, впрочем, восторга. – Поздновато, правда… Но “спасён будет и пришедший в последний час”!..»
Раскольников продолжал испытывать колебания в вопросе о своём возвращении в Советский Союз и даже направил 18 декабря 1938 года Сталину униженное и льстивое письмо, в котором, в частности, говорилось: «Дорогой Иосиф Виссарионович! После смерти товарища Ленина мне стало ясно, что единственным человеком, способным продолжить его дело, являетесь Вы. Я сразу и безошибочно пошёл за Вами, искренне веря в Ваши качества политического вождя и не на страх, а на совесть разделяя и поддерживая Вашу партийную линию».
В начале 1939 года неожиданно умер сынишка Фёдора, заразившийся где-то энцефалитом. Много дней после похорон сына они не могли опомниться, не в силах были заставить себя заняться делами, всё валилось из рук. Теперь они не расставались ни на минуту. Фёдор не мог оставить Музу одну в квартире, здесь всё было полно памятью о сыне: игрушки Феденьки, его посуда, рубашонки – всё было ещё на виду. С утра уходили из дому, долгими часами бродили по Парижу и без конца говорили, говорили о сыне…
Когда немного отошли от горя, вдруг обнаружили, что они не в одиночестве разгуливают по городу. С первых шагов от дома за ними увязывалась безмолвная личность неопределённого возраста, незапоминающейся внешности. Шла за ними в некотором отдалении, иногда – по другому тротуару. Если они заходили в лавку, и она заходила, становилась рядом у прилавка, наблюдала, что они покупают. Они заходили в кафе, садились за столик, и она занимала столик неподалёку. Причём личность особенно и не таилась, это было самое странное. Назойливой не была, на пятки не наступала, но и не очень заботилась о том, чтобы остаться незамеченной.
Открытие было неприятное. Итак, их засветили. Прогулки по городу пришлось прекратить, тем более поздние: мало ли что было на уме у этого «хвоста»? Хуже всего было то, что сексоты теперь знали, где они живут, и могли наблюдать за ними круглосуточно. В первый же день, когда заметили за собой слежку, обратили внимание на то, что «хвост», проводив их до дому, не исчез. Выглянув из окна, увидели его на улице, на противоположном тротуаре, он стоял, прислонясь спиной к фонарному столбу, задрав вверх голову, смотрел на их окна. Несколько раз среди ночи выглядывал Раскольников из окна – агент стоял на своём месте. Он испарился только под утро. А утром на его месте стоял другой тип, похожий на него, но всё-таки другой.
Это продолжалось и в последующие дни. Конечно, следовало убираться с улицы Ламбларди, и как можно скорее. И проделать это так, чтобы не перетащить за собой слежку на новое место.
Несколько дней Раскольников изучал повадки наблюдателей. Уходил из дому теперь один, Муза оставалась дома. Оставалась, однако, не у себя в квартире, коротала время в радушном многочисленном французском семействе, жившем этажом выше, исполняла роль добровольной сиделки при больной хозяйке квартиры, занимала её разговорами, совершенствуясь во французском языке. Уходил из дому Раскольников с револьвером, клал в боковой карман пальто, готовый стрелять в случае, если агенты решились бы напасть.
В действиях сыщиков было много нелогичного. Непонятно было, почему они, наблюдая, не таились. Или почти не таились. Иногда Раскольников пользовался старым приемом подпольщиков: слыша за спиной аккуратно поспешавшие шаги «хвоста», резко оборачивался и шёл прямо на него. Тот исчезал. Но через десяток минут на его месте оказывался другой наблюдатель. Зачем? Если в их планы не входило скрывать слежку, могли бы и пренебречь этой фикцией маскировки. Ещё был случай. Приметил одного немолодого толстяка с голубыми глазами, с круглой рязанской физиономией, на какой-то людной улице так же резко обернулся к нему, нос к носу, быстро спросил по-русски:
– Вы русский?
– Да, – ответил тот, оцепенев от неожиданности.
– Сколько вам платят за хождение за мной?
– Извините, – пробормотал тот и поспешил затеряться в толпе.
Больше он не появлялся, его заменила фигура явно неславянского происхождения. Опять-таки, зачем эта замена, если они не стремились скрывать слежку?
Наблюдателей было три-четыре человека, сменявших друг друга каждые шесть-восемь часов. Дежурили они и днём и ночью. Но скоро Раскольников заметил, что дежурили они не всю ночь напролёт. Если в окнах Раскольниковых рано гас свет, редко агенты задерживались дольше часа-двух ночи, затем исчезали, с тем чтобы к шести-семи часам утра снова быть на посту. Возможно, что они были обязаны дежурить под окнами всю ночь, но до часа ночи их проверяли, поэтому они не покидали поста раньше этого времени, а после часа ночи они уже просто не выдерживали усталости, бросали пост; хотя, может быть, уходили куда-нибудь неподалёку, чтобы рано утром вернуться на место. Во всяком случае, именно этот отрезок ночного времени, от часа до шести, был наиболее удобным, чтобы улизнуть из дому незаметно. Несколько раз Раскольников проверил это, уходил из дому после часа ночи, и ни разу не заметил за собой слежки.
Когда нужно было, он легко отрывался от наблюдателя, помогали присмотренные ранее лавки с разными выходами, удобные проходные дворы. Возвращался домой – наблюдатель поджидал его возле дома.
Едва ли эти сыщики были специально присланными из Москвы агентами, они не производили впечатления профессионалов своего дела. Хотя, конечно, от любого из них можно было ожидать выстрела в спину или удара кинжалом. При том что все они были людьми крепкого сложения, пожилые отличались военной выправкой, явно бывшие офицеры, самый молодой из них, коротышка лет тридцати с продавленным носом, смахивал на оставившего ринг боксёра. И всё же чувствовалось: в сыске они люди случайные. Скорее всего, их нанимали уже здесь, во франции, вербовали из среды белой эмиграции.
Вербовать было из кого. До сих пор в среде белой эмиграции, судя по эмигрантской печати, велись бурные дебаты между так называемыми «пораженцами», с одной стороны, и «патриотами» или «оборонцами» – с другой, к последним ещё примыкали «возвращенцы». Особенно бурными эти споры были до московских процессов, на фоне которых все прочие темы заметно поблекли. Но вовсе не прекратились. Лишь резче определилась граница, отличавшая сторонников одного направления от другого…»
В один из дней Фёдор Раскольников сошёлся с одним человеком, вполне своим, русским по происхождению и французом по паспорту, старым большевиком, товарищем по партии в октябрьские дни, Виктором Сержем (Кибальчичем). В 1928-м году он, как троцкист, был в Москве арестован и несколько лет провёл в сталинских лагерях и ссылке. Во франции тем временем в левых кругах велась кампания за его возвращение на родину во францию, и весной 1936-го года эта борьба дала результат – Сержу разрешили выехать из СССР. Несмотря на перенесённые испытания, он и до сих пор оставался большевиком. И, как и Раскольников, он считал Сталина злым духом контрреволюции, уничтожившим лучшие завоевания русской революции.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.