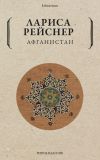Автор книги: Николай Переяслов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
За эти пролетевшие годы Вивиан женился, и у него родилась дочь, которую он назвал в честь промелькнувшей над его жизнью красавицей по имени Лариса…
А 30 апреля 1938 года Итин был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Японии. Постановлением «тройки» УНКВД Новосибирской области он был 17 октября этого же года приговорён к расстрелу, и не позднее 22 октября этот приговор был приведён в исполнение…
А у Ларисы осталось такое стихотворение:
Прощай, Пьеро! Довольно слёз и грима,
Ночь отошла и день проходит мимо.
На двери сломанный засов,
И трезвый холод утренних часов
Проник в подвал светло, неумолимо.
Всё-таки Гумилёв напрасно считал Ларису слабой поэтессой. Некоторые её строчки останутся в русской поэзии надолго…
* * *
…Спасаясь от одиночества и тоски по утерянной любви, Фёдор с головой окунается в журналистику, сотрудничая с такими изданиями как «Пролетарская революция», «Красная новь», «Молодая гвардия», «На посту» и другие, написав в них целый ряд статей, среди которых такие как «Рабкоры и пролетарская литература», а также «Традиции большевистской печати», в которых он призывал к привлечению писателей от станка. Так, например, в статье «Традиции большевистской печати», опубликованной в журнале «На посту», Раскольников писал: «Основное отличие нашей большевистской печати от всех остальных органов прессы заключается в том, что она рассчитана для обслуживания потребностей рабочего класса. Клара Цеткин однажды сказала тов. Ленину: “У нас, в Германии, председатель какого-нибудь собрания в каком-нибудь уездном городишке побоялся бы говорить так просто, так непритязательно, как вы. Он боялся бы показаться недостаточно образованным”. На это тов. Ленин ответил: “Я знаю только, что, когда я выступал, я всё время думал о рабочих и крестьянах”. В этих словах заключается ключ к пониманию основного принципа большевистской печати. Наша большевистская публицистика всегда имела перед собой рабочего и крестьянина, обращалась к рабоче-крестьянскому читателю. (…) Мы сумеем оздоровить нашу литературу и с её помощью повести рабоче-крестьянские массы Советского
Союза к нашей основной цели – к установлению полного коммунизма» (журнал «На посту», 1925, № 1).
Далее в этой статье отчётливо объясняется, кто является основой большевистской печати. «Наше будущее, – пишет Раскольников, – не “попутчики”, как бы талантливы они ни были, а рабоче-крестьянские писатели. Конечно, мы не должны отталкивать и “попутчиков”. Мы обязаны использовать тех из них, которые нам наиболее близки. Но необходимо, чтобы не попутчики руководили редакцией, а чтобы коммунистическая редакция руководила “попутчиками”. Старые большевистские литературные традиции до настоящего времени ничуть не устарели ни в области публицистики, ни в области литературы. Опираясь на эти традиции, имея их в своих руках, как путеводные нити, мы сумеем оздоровить нашу литературу и с её помощью повести рабоче-крестьянские массы Советского Союза к нашей основной цели – к установлению полного коммунизма».
А в статье «Рабкоры и пролетарская литература» Фёдор Фёдорович объясняет читателям, что такое быть рабкором, и что такое – быть пролетарским писателем: «Основная черта рабкора – это то, что он одновременно является и рабочим у станка, и корреспондентом, – говорит он. – Пролетарский писатель, – объясняет он дальше, – это рабочий или интеллигент, стоящий на точке зрения интересов рабочего класса и своими произведениями формирующий психику и сознание читательских масс в сторону коммунизма».
Так что Фёдор в данном случае хоть орудовал и казённым языком, но всё же выступал в роли необходимого учителя и наставника тем, кто только входил в литературу и даже больше – в журналистику, а потому нет ничего удивительного, что вскоре после его возвращения в Москву из Афганистана ему было поручено заниматься редакционно-литературной деятельностью, возглавив редакции нескольких журналов и одного издательства. В печати стали появляться его статьи и критические выступления по вопросам литературы. Это привело к довольно неожиданному результату – он познакомился с Натальей Владимировной Пилацкой, сотрудницей редакции журнала «Прожектор», а позже работавшей ещё в журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент», так что её деятельность лежала непосредственно в тематике упомянутых выше статей Раскольникова.
В середине 1920-х годов Наташа выпустила две брошюры – «Кружок рабкоров и стенная газета» и «Редколлегия стенной газеты и кружок рабкоров», а через несколько лет, уже в 1969 году, издала книгу (под фамилией Астаховой) «Товарищ Ольга», которую она посвятила своей родной сестре – революционерке Ольге Владимировне Пилацкой, прожившей короткую, но яркую жизнь, сотрудничавшей с Владимиром Ильичом Лениным и занимавшей различные высокие посты. В 1918–1922 годах она – член Московского губчека, секретарь агитпропотдела ЦК РКП(б); с 1922 года находится на партийной работе в Украине; в 1926–1930 годах – заведующая женотделом ЦК КП(б)У, а в 1927-1930-м – член Оргбюро ЦК КП(б)У. В 1930–1937 годах она заместитель председателя Госплана УССР; одновременно в 1932–1934 году она директор института красной профессуры при ВУЦИК. В 1934–1936 годах – директор института истории партии и Октябрьской революции в Украине при ЦК КП(б)У. Делегат XV–XVII съездов ВКП(б), 6-го конгресса Коминтерна. Член советской делегации на Антивоенном женском конгрессе в Париже (1934). Член ЦИК СССР и Президиума ВУЦИК. А в 1937 году она была расстреляна.
Может быть, и не стоило бы перегружать биографическую книгу о Фёдоре Раскольникове этой посторонней историей, но раз уж судьба Ольги Пилацкой хоть краешком своей судьбы коснулась жизни Фёдора Раскольникова, то доскажем её до конца. После февральской революции 1917 года она была партийным организатором Городского района Москвы, а в октябрьские дни стала членом военно-революционного комитета района. Там же она познакомилась с оригинальным поэтом Василиском Гнедовым, с которым у них вспыхнул буйный роман, который осложнился тем, что Ольга Пилацкая была замужем за революционером Владимиром Михайловичем Загорским (в честь которого в 1930 году был переименован подмосковный город Сергиев Посад[4]4
В 1991 году городу Загорску опять было возвращено старое имя Сергиев Посад.
[Закрыть]).
Ольга Владимировна Пилацкая, как мы уже сказали – известная революционерка, знавшая Ленина задолго до 1917 года и занимавшая после революции высокие посты в Москве, а потом на Украине. Её роль в судьбе поэта Василиска Гнедова (который считал себя зачинателем «антиискусства») отчасти противоречива – с одной стороны, после знакомства с ней он фактически перестаёт писать стихи и переживает сильнейший психологический кризис, вызванный, как осознанием собственной поэтической и политической невостребованности, так и сжигающей его изнутри ревностью. (Ведь Ольга оставалась женой Владимира Загорского до той поры, пока его в 1919 году не взорвала бомба террориста.)
В 1918 году Ольга несколько раз отправляла поэта в психиатрическую лечебницу, а по выходе из неё она заботилась о нём и подыскивала ему различную работу, а в 1921 году переехала вместе с ним на Украину, где до самого ареста в 1937 году занималась партийной деятельностью на самых высоких постах.
В 1937 году Ольгу Владимировну обвинили в контрреволюционной деятельности и расстреляли, а Гнедов был 8 января 1938 года арестован и как муж участницы «контрреволюционной террористической организации» осуждён на 5 лет административной ссылки.
После отбывания своего срока заключения Василиск весной 1957 года переезжает в Киев и добивается того, чтобы их брак с Ольгой Пилацкой хотя бы задним числом признали официальным. И это в том же 1957 году осуществилось.
Что же касается Наташи Пилацкой, то она вела весьма активную журналистскую жизнь, заведовала несколькими редакционными отделами, а после 1929 года работала в отделе рабочей жизни газеты «Правда», которым руководила ответственный её секретарь Мария Ильинична Ульянова. Там же она принимала непосредственное участие в подготовке и проведении 1-го Всесоюзного совещания рабкоров, выработав на основе указаний Владимира Ильича Ленина практические рекомендации, которые впоследствии сыграют большую роль в развитии рабселькоровского движения.
Когда Наташа Пилацкая заболела туберкулёзом, Мария Ильинична срочно отправила её в Крым, в санаторий. Едва почувствовав себя лучше, Пилацкая известила редакцию телеграммой о своём возвращении в Москву. И вот какую телеграмму она получила в ответ: «Погода в Москве отвратительная. Ехать сейчас с юга, значит подвергаться серьёзной опасности. Очень просим переждать хотя немного. Сами страшно соскучились о вас и вызовем при первой возможности. Послушайтесь, Наташа, милая. Целуем. Ульянова».
Раскольников тоже в своей молодости работал в газете «Правда» и общался с Владимиром Лениным, и возможно, эта их «правдинская» с Пилацкой общность послужила каким-то подсознательным основанием для их неожиданного сближения, в результате чего Фёдор Фёдорович с Натальей Владимировной довольно быстро сошлись и образовали новую семью. С учётом Веры Николаевны, которая приезжала с матерью в Сарапул, и Ларисы Рейснер, с которой он развёлся перед отъездом из Афганистана, это была уже третья семья у Раскольникова.
«Наташа Пилацкая, – писал в своих воспоминаниях Борис Ефимов, – милый, культурный человек, была нашей с Кольцовым доброй знакомой, и завязалась, что называется, дружба домами. Я получил возможность довольно часто общаться с Раскольниковым. И странная вещь! – образ «легендарного» участника Октябрьского переворота и Гражданской войны стал тускнеть. Я видел перед собой человека весьма заурядного и, откровенно говоря, малоинтересного. Но время показало, что я глубоко ошибся. Эти мои впечатления о личности Раскольникова оказались поверхностными и близорукими.
Шли годы, ознаменованные ожесточёнными внутрипартийными разногласиями. В первое время Раскольников примыкал к оппозиции, разделял взгляды Троцкого. Его оппозиционность, естественно, привела к тому, что он был освобождён от весьма высоких должностей, которые занимал в Военно-морском ведомстве, и направлен на дипломатическую работу, то есть по сути дела в почётную ссылку. А когда он уехал послом в Болгарию, был вообще почти забыт и «легендарным» больше не числился.
Естественно, отзывались в Москву и бесследно исчезали и работники полпредства в Болгарии. Со дня на день без сомнения ждал своего отзыва и Раскольников, не ожидая, конечно, при этом ничего хорошего ни для себя, ни для своей молодой жены. Забыл сказать, что брак его с Наташей Пилацкой оказался непрочным. Они расстались, друг в друге, как я понимаю, разочарованные.
А в Софию он приехал со своей третьей и последней супругой с красивым именем Муза.
Не берусь судить, какие мотивы руководили Раскольниковым в тот критический момент. Был ли то естественный инстинкт самосохранения, нежелание бесславно закончить свою легендарную биографию в застенках НКВД или в нём заговорил волевой и решительный мичман Раскольников времен Октябрьского переворота и подвигов Волжской военной флотилии. Но в отличие от многих и многих, без сопротивления, покорно, как под гипнозом положивших голову на плаху, у Раскольникова созревало другое решение.
Ждать пришлось недолго. В один «прекрасный» день 1938-го года на имя Раскольникова поступило из Москвы лаконичное приглашение на срочное совещание в Наркоминделе. Смысл этого приглашения не вызывал сомнений: то было приглашение на арест, ссылку или, скорее всего, через короткое время, – расстрел. Раскольников не стал колебаться – он ответил немедленно и решительно, что отказывается вернуться в страну, где «воцарился кровавый произвол и разнузданный террор». То был открытый и дерзкий вызов всемогущему «Отцу народов» и, понимая это, Раскольников счел за благо покинуть вместе с Музой Болгарию, откуда его из страха перед Сталиным вполне могли выдать советским властям, и уехал во францию.
Раскольников решительно и отважно перешёл политический Рубикон в своей биографии, но положение его за рубежом было весьма сложным и, прямо сказать, незавидным. Политического убежища ему во франции не предоставили. В той неспокойной международной обстановке не хотели, видимо, портить отношения с мощным Советским Союзом. Руководство французской компартии, целиком зависящее от субсидий из Москвы, видело в нём перебежчика в лагерь буржуазии, предателя социалистического отечества, а белая эмиграция не могла, конечно, простить «легендарного» участия в окаянном большевистском перевороте. Но Раскольникова всё это, по-видимому, мало беспокоило. Он был слишком одержим в эти дни духом борьбы, гневом против сталинского режима.
Надо сказать, что в ту пору для советской действительности не были редкостью «невозвращенцы», среди которых встречались и весьма ответственные лица, даже личные секретари и помощники Сталина, которые, зная непредсказуемый нрав «Вождя и Учителя», предпочитали держаться от него подальше. Все эти невозвращенцы себя отнюдь не афишировали, жили по разным странам тихо и незаметно, стараясь, чтобы о них забыли. Конечно, и Раскольников мог бы спокойно доживать свой век вместе с Музой где-нибудь во французской или американской провинции, с успехом издавая мемуары о событиях «десяти дней, которые потрясли мир», о подвигах Волжской военной флотилии, о встречах с Троцким, о своём пребывании с легендарной Ларисой Рейснер в Афганистане и многом другом, не затрагивая при этом личности Сталина, «ежовщины» и «бериевщины». Мог бы, конечно, но он, как оказалось, был сделан из другого материала…
Но как же я был близорук, когда при личном знакомстве с Раскольниковым не разглядел в нём подлинного бойца, волевого, мужественного, неустрашимого. А именно он, Фёдор Раскольников, оказался, пожалуй, единственным человеком, смело бросившим в лицо тирану слова обвинения и разоблачения. И мы вправе назвать его легендарным Раскольниковым. А я бережно храню небольшую книжку ярко и талантливо написанных воспоминаний о событиях Гражданской войны под названием: “Рассказы мичмана Ильина”. Я получил её в подарок из рук самого Фёдора Фёдоровича».
* * *
Многочисленные знакомства среди правительственных и литературных кругов России ощутимо облегчили Раскольникову освоение новых «боевых» постов. Так с 1924 по 1926 год он – редактор журнала «Молодая гвардия», а кроме того, возглавляет издательство «Московский рабочий» и является членом редакции журнала «На посту». Надо заметить, что назначение на эти должности свидетельствует о боевой настроенности Раскольникова в борьбе за гегемонию пролетарской литературы. Он утверждал, что литература должна создаваться пролетариями и быть им полезной. В статье «Традиции большевистской прессы» Раскольников призывал к привлечению писателей от станка, чтобы очистить литературу от формалистов и имажинистов… После открытого конфликта с Воронским Раскольников вошёл в обновлённую редакцию «Красной нови» (29 августа 1924 года), хотя и ненадолго: Луначарский и Фрунзе «обязали» Воронского вернуться к своей деятельности, и Раскольников был выведен из состава редакции. Тем не менее, будучи членом Всероссийской ассоциации пролетарских писателей (ВАПП), Раскольников продолжал участвовать в кампании идеологического наступления на Воронского, которого, в конце концов, сместили в октябре 1927 года. А через два года Политбюро всё-таки назначил Фёдора Фёдоровича главным редактором журнала «Красная новь», хотя всего только на год. Но и за это время он успел опубликовать несколько запомнившихся читателям произведений, среди которых следует прежде всего упомянуть удивительную повесть молодого писателя Юрия Олеши. Да и сам Раскольников пришёл, работая на этом посту, к некоторым серьёзным выводам, которые бы ничуть не помешали бы никому из высоких писателей и чиновников. «Культура, – сказал он, – не роскошь, не украшение жизни, а главнейшее условие её, без которого социализм такой же пустой звук, как демократия без общественной совести».
* * *
В феврале-июле 1926 года по поручению российского правительства Фёдор выезжал в качестве председателя Особой советско-афганской комиссии в Кабул. А 26 января 1928 года на заседании Коллегии Наркомпроса он был назначен председателем Главреперткома. На этом посту он, помимо многих других дел, запретил пьесу Булгакова «Зойкина квартира». Он считал, что Главрепертком должен не только формально разрешать или запрещать репертуар, но и стать идейным воспитателем драматурга, режиссёра, прокатчика, давать указания, каким образом улучшить пьесу, на этапе подготовки спектакля работники комитета должны работать вместе с театрами, приглашать автора и режиссёра-постановщика на свои заседания.
А ещё он отстаивал чистоту рядов и необходимость особых профессиональных организаций для пролетарских писателей «от станка» в борьбе с «попутчиками».
В начале 1928 года новый руководитель «Главреперткома» Фёдор Фёдорович Раскольников по собственной инициативе исключил из текущего репертуара Театра им. Вахтангова пьесу Булгакова «Зойкина квартира». Предполагают, что он запретил её из-за того, что считал Булгакова своим литературным конкурентом. За запрет пьесы выступал также Луначарский, высказывавшийся в печати с критикой «Зойкиной квартиры».
Но в качестве защитника пьесы выступил сам Иосиф Сталин. В протоколе заседания Политбюро от 23 февраля 1928 года в пункте 19 «О “Зойкиной квартире”» было записано: «Ввиду того, что “Зойкина квартира” является основным источником существования для театра Вахтангова – разрешить временно снять запрет на её постановку». Протокол подписали Косиор, Бухарин и Сталин. В апреле 1928 года пьеса была возвращена на сцену театра.
Одновременно с этим пьесы Булгакова претерпевали следующие унижения.
1 марта 1928 года МХАТ заключил с Булгаковым договор на «Бег», оговорив возвращение автором аванса, если пьеса будет запрещена.
9 мая на заседании Главреперткома «Бег» запретили.
9 июня в «Вечерней Москве» председатель художественно – политического совета при Главреперткоме Фёдор Раскольников заявил, что из репертуара театра Вахтангова решено исключить пьесу Булгакова «Зойкина квартира».
30 июня коллегия Наркомпроса утвердила решение Главреперткома о снятии «Бега», а «Дни Турбиных» были оставлены в репертуаре МХАТа до первой новой постановки пьесы.
В сентябре Камерному театру неожиданно разрешили ставить «Багровый остров».
9 октября Главрепертком, после заступничества Горького, разрешил постановку «Бега», а уже 24 октября – запретил её.
5 ноября в «Рабочей Москве» вышла подборка материалов, посвящённых «Бегу». Подборка сопровождалась заголовком: «Ударим по булгаковщине! Бесхребетная политика Главискусств а. Разоружим классового врага в театре, кино и литературе».
15 ноября – статья в «Комсомольской правде» всё того же Фёдора Раскольникова, призывавшего «шире развернуть кампанию против “Бега”!»
11 декабря состоялась премьера «Багрового острова» в Камерном театре. Полный аншлаг не помешал худсовету театра осудить постановку и признать её разрешение Главреперт-комом ошибочным.
В январе 1929 года «Бег» запретили окончательно.
17 марта 1929 года пьеса Булгакова «Зойкина квартира» тоже была окончательно снята по решению Главреперткома, утверждённому коллегией Наркома просвещения со следующей формулировкой: «За искажение советской действительности». В газетах того времени тут же назвали постановку репертуарной ошибкой и писали: «Наконец-то идеологический мусор будет выметен», «Театры освобождаются от пьес Булгакова».
Раскольников создал общественный художественно-политический совет при ГРК из сорока пяти человек (представители ЦК ВКП (б), близкие по духу пролеткульту драматурги, театральные режиссёры, кинопрокатчики, литературные критики). Считал, что ГРК должен не только формально разрешать или запрещать репертуар, но и стать идейным воспитателем драматурга, режиссёра, прокатчика, давать указания, каким образом улучшить пьесу, на этапе подготовки спектакля работники комитета должны работать вместе с театрами, приглашать автора и режиссера-постановщика на заседания ГРК.
Он стал инициатором пересмотра всего кинорепертуара, сразу запретил четырнадцать фильмов, в которых идеализировались упаднические настроения, буржуазный образ жизни, популяризировались свободная любовь, уголовщина, садизм.
Для него, как и для многих большевиков из ленинской гвардии, продвигать революцию вперёд к осуществлению мечты было первоочередной задачей. И это казалось тем более реальным, что принадлежность к руководству страной ежедневно утверждала его в роли хозяина: иметь привилегии придавало уверенности в себе и требовало уважения со стороны окружающих. Востребованность тем, что он – эксперт по Востоку в Исполкоме Коминтерна, лектор Московского университета, член правительственных комиссий, защитник советской культуры от пошлости – это наполняло его гордостью. В то же время он представлял собой тип советского чиновника, к которому часть интеллигенции питала презрение. Так Михаил Булгаков, устранённый от всех театров своими гонителями, в том числе и Раскольниковым, имел все причины видеть этого последнего в плохом свете.
К 1 октября 1929 года Фёдор Фёдорович становится заместителем заведующего Главного Управления по делам художественной литературы и искусства (Главискусство), а вскоре он – Председатель Совета по делам искусства и литературы Наркомпроса РСФСР (бывшее Главискусство). А 16 ноября 1929 года Раскольников проводил читку своей трагедии «Робеспьер» перед режиссёрами и актёрами МХАТа, и сохранилась сделанная Еленой Булгаковой запись устного рассказа Михаила Афанасьевича об этом чтении – это происходило на юбилейном заседании «Никитинских субботников», в работе которых регулярно принимал участие и сам Булгаков. Заседание началось с сообщения Е. ф. Никитиной об исполнившемся пятнадцатилетии «Субботников». Прочитала своё стихотворение, посвящённое им же, и Вера Инбер. После этого Фёдор Фёдорович прочёл свою трагедию о Робеспьере. Звучат последние слова:
«…СЕН-ЖЮСТ: Но отчего же так тихо играет музыка? Громче трубите, музыканты! Под весёлые звуки Марсельезы сегодня на рассвете скатятся наши головы под ножом гильотины. Но пройдёт время, и все поймут, сколько благ приносит революция, наши потомки вкусят ее сладчайшие плоды, и грядущая раса благословит наши имена!..»
Раздаются громкие аплодисменты присутствующих, переходящие в овацию.
Кто-то кричит: «Браво!»
У Елены Сергеевны Булгаковой в тетради осталась подробная запись о состоявшейся сегодня читке, которая восстанавливает всё происходившее в деталях:
«Публики собралось необыкновенно много, причём было несколько худруков, вроде Берсенева, Таирова, ещё кое-кого – забыла. Актёры были – из подхалимов.
Миша сидел крайним около прохода ряду в четвёртом, как ему помнится.
Раскольников кончил чтение и сказал после весьма продолжительных оваций:
– Теперь будет обсуждение? Ну, что ж, товарищи, давайте, давайте…
Сказал это начальственно-снисходительно. И Миша тут же решил выступить, не снеся этого тона. Поднял руку.
– Берсенев Иван Николаевич, Александр Яковлевич Таиров… – перечислял и записывал ведущий собрание человек. – …(не помню – кто был третьим)… Булгаков… (человек сказал несколько боязливо)…дальше пошли другие, поднявшие руки.
Начал Берсенев.
– Так вот, товарищи… мы только что выслушали замечательное произведение нашего дорогого Фёдора Фёдоровича! (Несколько подхалимов воспользовались случаем и опять зааплодировали). Скажу прямо, скажу коротко. Я слышал в своей жизни много потрясающих пьес, но такой необычайно подействовавшей на меня, такой… я бы сказал, перевернувшей меня, мою душу, моё сознание… – нет, такой – я ещё не слышал! Я сидел, как завороженный, я не мог опомниться всё время… мне трудно говорить, так я взволнован! Это событие, товарищи! Мы присутствуем при событии! Чувства меня… мне… мешают говорить! Что я могу сказать? Спасибо, низкий поклон вам, Фёдор Фёдорович! (И Берсенев поклонился низко Раскольникову под бурные овации зала).
(Да, а Раскольников, сказав: давайте, давайте, товарищи… – сошёл с эстрады и сел в третьем ряду, как раз перед Мишей).
– Следующий, товарищи! – сказал председатель собрания. – А! Многоуважаемый Александр Яковлевич!
И Таиров начал, слегка задыхаясь:
– Да, товарищи, нелёгкая задача – выступить с оценкой такого произведения, какое нам выпала честь слышать сейчас! За свою жизнь я бывал много раз на обсуждении пьес Шекспира, Мольера, древних Софокла, Эврипида… Но, товарищи, пьесы эти, при всём том, что они, конечно, великолепны, – всё же как-то далеки от нас! (Гул в зале: пьеса-то тоже несовременная!..) Товарищи!! Да! Пьеса несовременная, но! Наш дорогой Фёдор Фёдорович именно гениально сделал то, что, взяв несовременную тему, он разрешает её таким неожиданным образом, что она становится нам необыкновенно близкой, мы как бы живём во время Робеспьера, во время французской революции! (Гул, но слов разобрать невозможно). Товарищи! Товарищи!! Пьеса нашего любимого Фёдора Фёдоровича – это такая пьеса, поставить которую будет величайшим счастьем для всякого театра, для всякого режиссёра! (И Таиров, сложив руки крестом на груди, а потом беспомощно разведя руками, пошёл на своё место под ещё более бурные овации подхалимов).
Затем выступил кто-то третий и сказал:
– Я, конечно, вполне присоединяюсь к предыдущим ораторам в их высокой оценке пьесы нашего многоуважаемого Фёдора Фёдоровича! Я только поражён, каким образом выступавшие ораторы не заметили главного в этом удивительном произведении?! Языка!! Я много в своей жизни читал замечательных писателей, я очень ценю, люблю язык Тургенева, Толстого! Но то, что мы слышали сегодня – меня потрясло! Какое богатство языка! Какое разнообразие! Какое – я бы сказал – своеобразие! Эта пьеса войдёт в золотой фонд нашей литературы хотя бы по своему языковому богатству! Ура! (Кто-то подхватил, поднялись аплодисменты).
– Кто у нас теперь? – сказал председатель. – Ах, товарищ Булгаков! Прошу!
Миша встал, но не сошёл со своего места, а начал говорить, глядя на шею Раскольникова, сидящего, как известно, перед ним.
– Д-да-а… Я внимательно слушал выступления предыдущих ораторов… очень внимательно… (Раскольников вздрогнул). Иван Николаевич Берсенев сказал, что ни одна пьеса в жизни его не взволновала так, как пьеса товарища Раскольникова. Может быть, может быть… Я только скажу, что мне искренно жаль Ивана Николаевича, ведь он работает в театре актёром, режиссёром, художественным руководителем, наконец, – уже много лет. И вот, оказывается, ему приходилось работать на материале, оставлявшем его холодным. И только сегодня… жаль, жаль… Точно так же я не совсем понял Александра Яковлевича Таирова. Он сравнивал пьесу товарища Раскольникова с Шекспиром и Мольером. Я очень люблю Мольера. И люблю его не только за темы, которые он берёт для своих пьес, за характеры его героев, но и за удивительно сильную драматургическую технику. Каждое появление действующего лица у Мольера необходимо, обосновано, интрига закручена так, что звена вынуть нельзя. Здесь же, в пьесе т. Раскольникова (шея Раскольникова покраснела) ничего не поймёшь, что к чему, почему выходит на сцену это действующее лицо, а не другое. Почему оно уходит? Первый акт можно свободно выбросить, второй переделать… Как на даче в любительском спектакле!
Что же касается языка, то мне просто как-то обидно за выступавшего оратора, что до сих пор он не слышал лучшего языка, чем в пьесе т. Раскольникова. Он говорил здесь о своеобразии. Да, конечно, это своеобразный язык… вот, позвольте, я записал несколько выражений, особенно поразивших меня… «он всосал с молоком матери этот революционный пыл…» Да-а… Ну, что ж, бывает. Не удалась.
После этого, как говорил Миша, произошло то, что бывает на базаре, когда кто-нибудь первый бросил кирпич в стену. Начался бедлам…»
Самое интересное, что в последнее время удалось найти документальное освещение всего этого эпизода, подтверждающее верность основной канвы рассказа Елены Булгаковой. Первым из выступавших после читки раскольниковского «Робеспьера» был Л. С. Лозовский, который, как свидетельствует обнаруженная запись, сделанная прямо во время заседания, сказал: «Пьеса представляет большое событие – это первое приближение к большому театральному полотну. Наибольшая трудность – передача духа эпохи – преодолена автором. Сцена в Конвенте сделана неподражаемо. Единственный дефект – некоторое падение интереса в двух последних картинах…»
Взявший после него слово Сергей Городецкий говорил: «Главная трудность в поставленной автором задаче – не написать исторической пьесы – и главное, что удалось – это сделать пьесу глубоко современной, несмотря на исторический смысл и исторические фигуры. Вся вещь сделана в условном плане, стиль её – ораторский. И это не недостаток – если бы автор взял натуралистические тона, вещь не дошла бы до слушателя. Кроме некоторых моментов, декламационный стиль чрезвычайно целен…»
И именно после Городецкого взял слово Булгаков. Речь его записана одним из слушателей следующим образом (очень близко по тональности к тому, как она воспроизводилась впоследствии им самим): «Совершенно не согласен с Л. С. Лозовским и другими ораторами. С драматической и театральной стороны пьеса не удалась, действующие лица ничем не связаны, нет никакой интриги. Это беллетристическое произведение. фигуры неживые. Женские роли относятся к той категории, которую в театрах называют «голубыми» ролями, действия нет».
И действительно – дальнейшее обсуждение сразу приобрело иной характер. Посыпались критические замечания. Один из выступавших (Н.Г. Виноградов) закончил свою речь так: «Пьеса ещё находится в процессе работы – ряд дефектов, которые в ней есть, вполне поддаются исправлению», другой утверждал: «В пьесе дана только внешняя трагичность – ни глубины, ни анализа положения Робеспьера в ней нет».
С. И. Малашкин стремился вернуть обсуждение на нужную стезю: «Сцена с рабочими производит громадное впечатление. Пьеса ценна тем, что она связана с современностью. Это большое произведение, напоминающее «Юлия Цезаря» Шекспира». Но выступающий вслед за ним В.М. Волькенштейн утверждал: «Технически пьеса не вполне сделана», а В.М. Бебутов резюмировал происходящее – «Впечатление от пьесы и отзывов о ней хаотическое» – и соглашался с Булгаковым: «Женские образы действительно несколько «голубые». Экспозиция включает так много материала эпохи, что задыхаешься. Надо несколько просветлить первые акты, иначе восприятие будет очень затруднено».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.