Текст книги "Связанный гнев"
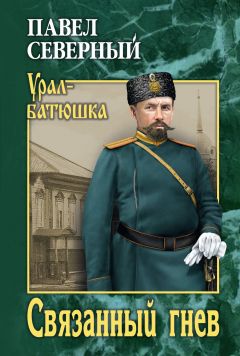
Автор книги: Павел Северный
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
– Растут. В них суть моей жизни. Я очень сентиментальная мать. Представьте, уже мечтаю о том, кем будут мои малютки. Хочу, как в сказке, чтобы росли не по дням, а по часам.
– Разве может быть иначе? Я слышала, у вас много книг.
– Соскучившись по книгам, читаю запоем.
– У Вадима Николаевича уникальная библиотека.
– Горжусь, Надежда Степановна, что предки моих родственников были грамотными крепостниками и, представьте себе, по женской линии.
– А разве, Ксения Власовна, у вас не было книг в ссылке?
– Все, что привезла с собой, было отнято. Это тоже столыпинский метод. Брат, судя по письмам, посылал новинки, но они не доходили… Пришла только одна. Стихотворения Лермонтова. Я многие выучила наизусть. Во время побега, когда охватывал страх, начинала читать «Беглеца». Читая, успокаивалась. Странно, не правда ли? – Ксения, заметив, что Новосильцев пошел к двери, сказала: – Вадим Николаевич, я больше не буду говорить о побеге.
– Я пошел встречать гостей, Ксения Власовна.
– Был звонок?
– Да, бегляночка. Позвонили так, как это умеет делать только «лапотный доктор».
– Постоянно забываю, что надоела своими рассказами о побеге. Но я так долго молчала, только думала и думала… Естественно, теперь говорю о том, что намучило в молчании.
В гостиной появился Новосильцев, доктор Пургин и незнакомый Ксении господин в дымчатых очках.
– Знакомьтесь, Ксения Власовна, Константин Эдуардович Вечерек, а это – наш доктор.
Пургин, подойдя к Ксении, пощупал пульс и спросил:
– Когда нарушили мой приказ?
– Не нарушала.
– Уточняю вопрос. Когда встали с постели?
– Совсем недавно.
– Обещали слушаться.
– Честно слушаюсь. Второй день нормальная температура.
– А кашель?
– Кашляю. Жженый сахар помогает.
– Что ж, обязан похвалить. Теперь могу твердо сказать, что воспаления легких избежали, а горло можете развязать.
Койранская спросила Пургина:
– Дмитрий Павлович, сегодня сыграете нам на гитаре?
– Обязательно! Буду играть до тех пор, пока не отнимите инструмент. Надеюсь, что хозяин споет нам про костер, что светит в тумане. Господа, я очень доволен!
– Чем, милый доктор? – спросила Надежда Степановна.
– Тем, что нахожусь среди вас, среди настоящих людей! Больше ничего не скажу. Не ждите и не просите.
4
Поздним вечером Новосильцев, выполняя просьбу Ксении Вороновой, играл на рояле. В синей гостиной темно. В камине косматился дымный огонь. От отсветов пламени половина комнаты в рыжем сумраке. На стенах, на потолке, на полу копошатся, мечутся пятна света и теней. Иногда, будто пугаясь звуков, они замирают в неподвижности и вновь начинают барахтаться от огненных вспышек в камине.
Ксения Воронова бродит по комнате, как монахиня в черном платье. Вслушивается в музыку, охватив руками плечи. Бродит то в темноте, то в рыжем сумраке. Когда приближается к камину, то тень от нее проползает по клавишам и рукам музыканта, но вдруг падает на пол, расплывчатой полосой уползает в темноту комнаты и исчезает, встретившись с белесо-зеленой полосой лунного света, проникающего из окна в щель неплотно закрытой шторы.
Лунная полоса на стене ложится на портрет, освещая на нем лицо старухи в пудреном парике, с настороженным суровым взглядом.
У окна с приоткрытой шторой Ксения становится силуэтом. Она смотрит на березы в роще, подступающие к дому, на подсиненные лунным светом сугробы. Видит, как по буграм от деревьев кривыми дорожками вытягиваются густые сиреневые тени и кажутся вырытыми в снегах канавами. Снега блестят мириадами синих, золотых, красных искр. Глубина рощи кажется бесконечной.
Звучат мелодии шопеновских вальсов.
Ксения смотрит на уральские сугробы, вспоминая другие снега, сугробы Сибири со зловещим дыханием холода, то гулко поскрипывающие под ногами, то убаюкивающие монотонным шепотоком поземки.
Еще совсем недавно она так боялась снежного сибирского безмолвия, когда темными ночами, лесными глухими дорогами, с трудом доставая в селениях лошадей, убегала от той избы с подслеповатыми окнами, в которой по замыслу охранного отделения должна была скоротать со своими мыслями шесть лет. Спасая себя, бежала, охваченная страхом. Бежала, обвытая метелями, пугаясь всякого тревожного собачьего лая. Наконец, в родном краю, среди гор и лесов Урала, уже десять дней жила без страха, без тревоги, в стенах еще недавно совсем неведомого дома.
Два года тому назад все было в ее жизни по-другому. Все было ясно, не мучили никакие сомнения. Студенческие марксистские кружки, пафос революционной борьбы, баррикады на Пресне, арест, суд и ссылка в глушь енисейских просторов.
В глухой деревушке начались свидания с памятью. Дочь уральского мужицкого богача становится там вдохновительницей смелого побега. Теперь ожидает приезда матери. Вчера Новосильцев принес радостную весть. Доктор Пургин получил от нее из Кушвы телеграмму. Ольга Койранская исполнила обещание. Скоро она увидит дорогую мать и снова расстанется с ней. А какая жизнь будет за границей? Сохранит ли там прежнюю непреклонность продолжать работу в революционном подполье? У нее уже были разочарования в людях, с которыми была готова идти по любым тропам революционной борьбы. Уже сомневалась в своих силах. Разные сомнения рождались от споров, от противоречий товарищей по ссылке. Как легко все менялось, когда не было надежного плеча, на которое можно опереться в минуты растерянности. На баррикадах Пресни все было предельно ясно, шло сражение, и лилась кровь. В Сибири начался спад уверенности в правоте избранного революционного пути. Но сумела не потерять веры в партию большевиков. Тогда реже стали посещать сомнения, даже когда слышала об иных путях революционного свершения. Да, она не утеряла веры, что именно большевики способны добиться утверждения единства рабочего класса, и она член этой новой партии. И нужно ли ей спорить, что приблизит в России революцию? Террор? Единство рабочего класса? Крестьянские восстания? Голод от недородов или новая война?
Со вчерашнего вечера все тревоги отодвинулись в сторону. Телеграмма от матери заставила Ксению вновь почувствовать себя девочкой, готовой с опущенной головой выслушать горькие материнские упреки обо всем совершенном вне стен родительского дома.
Слушала Ксения музыку, иногда не хотелось отходить от окна. Березовая роща манила, звала со спокойными мыслями побродить по ее сугробам, залитым светом полной луны.
– Знаете, о чем сейчас думаю, Ксения Власовна? – спросил Новосильцев. – Думаю, что без вас мне станет тревожно. Да, именно, тревожно! До вашего появления в доме жил ясно и продуманно. Была у меня эгоистичная цель жить только для себя, ни о ком не заботясь и ни о ком не утруждать себя думами и беспокойством. Но после вашего отъезда непременно буду думать о вашей судьбе, – разговаривая, Новосильцев не прерывал игры. – Вы так молоды. Уверен, что даже не сознаете, что по жизни вас ведет не разум, а слепая восторженность молодости. Вот стремитесь за границу, не задумываясь, что вас ожидает. Забываете о главном, что русским для жизни на чужбине нужны запахи полыни и дыма смолистых костров. Любите Урал? Выросли среди прекрасной, но суровой природы. За границей вас обступит и сожмет пустота одиночества, от которого сумели убежать из Сибири, а куда убежите за границей? Может быть, лучше, пока не поздно, поступить, как те ваши два товарища в начале побега?
– Признать покорность царизму? Никогда!
Новосильцев перестал играть. Зажег на столе свечи, взглянув на Ксению, сказал:
– Упрямства в вас предостаточно!
– Неужели, Вадим Николаевич, считаете мою решительность только упрямством? Конечно, у вас могло сложиться обо мне такое мнение. За дни, прожитые в вашем доме, вы были невольным свидетелем моих различных настроений и даже слез. Да, нервы у меня сдали. Разве с вами такого не случается? Уверяю вас, что вступила в партию не под влиянием временного революционного кликушества, не ради ореола ложного мученичества из-за любви к угнетенному русскому народу. Буду продолжать идти по выбранному пути! Стала большевичкой на баррикадах Пресни, отказаться от продолжения борьбы может заставить только смерть!
– Продолжать борьбу будете? В этом не сомневаюсь. И воли у вас тоже хватит. Для этого могучая заявка – побег и ваша убежденность, что революцию даст России рабочий класс. Вы сами сказали мне, что партия большевиков слишком молода. Уверены ли вы, что она сможет стать монолитной?
– Да, уверена.
– Уверены ли до конца, что партия поверит в вашу искренность, несмотря на вашу принадлежность к классу, с которым она поведет самую ожесточенную борьбу?
– Уверена! Мне нужно будет доказать свою верность партии, а сделать это у меня будет возможность. Я сумею влиться в ее единство, к которому призывает Ленин.
– Ленин? Он же Владимир Ульянов? О нем, Ксения Власовна, я узнал на поле боя под Мукденом, от смертельно раненного фельдшера, передавшего мне нелегальное издание книги Ленина «Что такое друзья народа».
– Вы не представляете, Вадим Николаевич, как рабочая Россия верит слову Ленина!
– Возможно. И даже согласен, что ему можно верить. Переданную мне фельдшером книгу я прочел. Не удивлен, что Ленину верят. У него все ясно. Но я знаю, Ксения Власовна, ибо не отупел от дворянства, знаю, что именно сейчас в России развилась масса всяких революционных кумиров. Все сословия страны хотят кому-то верить, создать для себя земных божков для обожания. Даже я среди сопок Манчжурии верил, что Куропаткин даст русской армии возможность подарить России победу над японцами. Сановный Петербург верит сегодня, что Россию спасет от бунтующей черни господин Столыпин, а помещики от страха перед его замыслами о реформах теплят лампады перед святителями. Они боятся Столыпина, боятся несмотря на то, что ему верит император. Уральские интеллигенты не знают, от кого замирать в революционном восторге. Сегодня превозносят социал-революционеров, а завтра – кадетов, и, боязливо озираясь по сторонам, все те же не хотят отказаться от Плеханова. Разве неправду говорю?
– Сами во что верите? В дворцовый переворот?
– Не предполагал, что кажусь вам таким ограниченным. На полях Манчжурии я перестал быть монархистом, убедившись на многих реальных примерах, что настоящее знатное окружение царя живет единственным стремлением обворовывать страну и даже самого обожаемого монарха. Моя озлобленность, Ксения Власовна, не позволяет мне сотворить кумира. Не могу обрести личность для кумира, ибо таковой в стране в данный момент и в помине нет. Нет человека, способного примирить в стране бедных и богатых. Способного твердым словом погасить в русском народе классовую ненависть. Злость моя от моих несбывшихся стремлений. Но представьте себе, что у меня есть заветное желание!
– Какое?
– Желание, чтобы революция в России была после моей смерти. Мне наплевать, что она лишит меня всех привилегий и прав собственника. Не переживу другое, когда она как дворянина лишит меня прав быть частицей русского народа из-за того, что на мою шею наследственность вместе с нательным крестом повесила ярлык крепостника, ношенный до меня предками. Ибо слишком неистребима ненависть у рабочих и крестьян к потомкам вековых душителей.
– Какая нелепость! Рассуждаете так из-за политической безграмотности.
– Да, в этом я, пожалуй, безграмотен, но все же уяснил из всего происходящего в стране, что империя одержима модным поветрием предрешения грядущих потрясений. Все сословия хотят несбыточных и удобных для них изменений в государственном строе. Это способствует нарождению новых и новых политических течений. А ловкие политические дельцы торопятся под шумок революционных мечтаний нажить для себя политический капитал. Самое отвратительное в этом политическом хаосе, что свою несостоятельность в потрясении основ империи все политические бонзы прикрывают жертвенной любовью к народу. Бесит меня эта беспринципная ложь. Разномастные политиканы даже не утруждают себя распознанием чаяний народа, а просто навязывают ему свои рецепты и мнят себя благодетелями. – Пройдясь молча по комнате, Новосильцев продолжал: – Ксения Власовна, революция – это обильная кровь. Пятый год тому подтверждение. Революция – сражение классовой ненависти. Какая партия способна со всей ответственностью внушать миллионам России в себя веру и указать путь к новой жизни?
– Марксистская партия нового типа.
– Надеетесь, что народ ей поверит?
– Поверит. Ибо в партии большевиков будет единство, спаянное волей мужества. Вчера мы говорили с вами об учении Маркса. И я вновь утверждаю, что воплощение в жизнь теории его учения возможно только в России вдохновенным бесстрашием ее рабочего класса.
– А я повторяю, что революция – ураган классовой ненависти. Вспомните, как пишет Гоголь о птице-тройке. Отпустите вожжи, и она все разнесет в щепки. У кого хватит силы остановить и сдержать гениальные и бредовые замыслы России, освобожденной от монархии? Не забывайте, не надейтесь, что обреченные классы собственников дешево уступят свои права и с христианским смирением выполнят смертельный для них приговор революции. Нет, Ксения Власовна, они будут цепляться за отнимаемое. От этого будет литься кровь, развенчивая легенду, что русский народ все творит от широкого плеча. Он не станет копировать французскую революцию. Наша революция будет страшной разрушительной силой, ибо рушиться будет не только царизм, а вековые обычаи и устои народов, населяющих страну. Вот почему не хочу революции при своей жизни. Пусть обломки империи приплюснут холмик моей могилы. Не хочу быть заколотым штыком в руках собрата с ярлыком принадлежности к классу рабочих и крестьян. Но в одном с вами согласен – Россия жить по-прежнему больше не может. Решать судьбу России должны сообща все классы.
– Это, Вадим Николаевич, решит только рабочий класс.
– Упаси бог! Зачем отнимаете у меня надежду на исполнение заветного желания?
Новосильцев сел к роялю. Прозвучали аккорды зачина Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского. Набат величественных звуков остановил Ксению возле свечей. Пробегали по ее телу мурашки озноба. Лицо стало бледным, на голове белел тонкий шнурок прямого пробора в волосах…
Глава IX
1
В горницу Анны Кустовой проникал сизый свет пасмурного мартовского утра. От оттепели на воле и от тепла в избе узоры инея на стеклах окон в подтеках.
Хозяйка и Лукерья Простова пили чай, когда у ворот заимки, звеня бубенцами, остановилась тройка.
– Кого это принесло? – спросила Анна.
Простова подошла к окну, выглянула и отшатнулась от него.
– Чего напугалась?
– Никак, муженек прикатил.
– Давно пора. Все-таки законный.
Простова растерянная вернулась к столу.
– Чего испугалась? Гость нежданный да и не больно желанный. Разволновалась. Садись и допивай чай.
Простова покорно села к столу. Отпила глоток из стакана. Снова встала, посмотрела в окно, накинула на плечи пуховый платок, туго завернула в него плечи и села в угол дивана.
Смеясь, в горницу пришла бабушка Семеновна.
– С чего развеселилась? – спросила вошедшую Анна.
– И не спрашивай! Гостя нам привезла Туфелька. Гляди, какой самородок.
В дверях показался Григорий Простое в синей поддевке, с оторванным правым рукавом и порванным воротом. На ногах купца полосатые шерстяные чулки. Лицо в ссадинах. Правый глаз завязан цветным платком, а рассеченная нижняя губа, посинев, припухла. Войдя в шапке, купец, не сняв ее, уставился на жену.
– Так, стало быть, вот где скрадываешься от семейного счастья?
– Шапку скинь, – услышав окрик Кустовой, купец поспешно снял шапку, пробормотал что-то невнятное. Оглядев гостя, Анна улыбнулась. – Что и говорить! Эдакий гостенек у меня в избе впервые. Шагай к столу и садись!
Купец сел к столу и тяжело вздохнул. Вошла Клава-Туфелька, низкорослая, коренастая женщина в распахнутом овчинном полушубке. На ее левой руке перевязаны пальцы тряпицей.
– Привезла.
– Вижу, что привезла. Наливай себе и гостю чаю. Поди, есть что порассказать?
– Найдется!
Скинув полушубок, Клава налила себе и купцу. Взяла с тарелки обливную шаньгу и стала есть. Анна похлопала по плечу Семеновну:
– А ты чего стоишь? Садись, послушай Клавин рассказ.
– Недосуг мне. Без рассказу все ясно от купецкого обличил. – Семеновна, вновь засмеявшись, вышла, плотно прикрыв за собой дверь.
Клава, запив чаем шаньгу, заговорила:
– Извиняй, Анна Петровна, только стакашник допью и все доложу по порядку.
– Не торопись, бабонька, времени у нас много. Ешь и пей досыта.
Потягиваясь, в горницу вошла кошка, пободав ноги хозяйки, вспрыгнула ей на колени и легла на них. Допив стакан, Клава налила себе второй и, взглянув на хозяйку с улыбкой, вытерла ладонью замасленный шаньгой рот.
– Стало быть, позавчерась поутру купец на прииск прикатил. Перво-наперво стал меня хайлать.
– А Пимен где?
– На прииске. Третий день хворает. Отлеживается от застуды, не вставая. Кричит купец на меня и все время норовит в нос кулаком ткнуть. «Я, говорит, здеся хозяин. Вон, говорит, отселева». Пимена всяко обсказывал. Сторожу, старику плюх навешал.
– А ты чего?
– Ну, знамо дело, кипела нутром, но отмалчиваясь, терпела. Нахайлавшись, купец пошел со своим ямщиком прииск глядеть. Все ли на месте. Не унесли ли мы пески с золотом из-под сугробов.
– Кто же тогда ему эту роспись на лик навел?
– Выходит, что я, Анна Петровна.
– Замолчи! – хрипло оборвал Клаву купец.
– Ну нет! Ежели там не молчала, так здеся все выскажу.
– Сказывай, Клава!
– Значит, далее так обернулось: воротился купец с обходу, велел мне самоварчик согреть. Согрела. За ним они с ямщиком распили две бутылки казенной под всякую закусь. Охмелел здорово, и давай от меня да от Пимена выпытывать, кто мы такие из себя на прииске. Мы отмалчивались. Потом стал меня спрашивать, не знаю ли, где его супруга обретается. Ее всякими словами обвеличал. Я слушаю его брань, а сама печь топлю. Хайлал он хайлал, да вдруг стянул с ноги пим и кинул в меня. И это стерпела, потому обуток в мягкость мне угодил. Вдруг слышу, он меня стервой окрестил. Тут во мне вся родная Тула вспыхнула в крови. Схватила его за рукав и напрочь его оторвала. В ответ он меня в грудь ткнул, а я его за ворот тряхнула, к окошку приволокла, да сгоряча не о косяк стукнула, а об раму, а он, не устояв на ногах, вместе с ней из окошка в сугроб вылетел. Но в сугробе, окаянный, не остыл, а обратно в сторожку прибег, сгреб самовар да о пол его грохнул. Пимен, увидав такое дело, стал с постели подыматься. Но я решила своим умом его в драку не пускать. Сама знаешь, какая в нем сила, когда распалится. Встала промеж них и ору. Чего ору, сама не знаю, но только во весь свой голос. Тут опять зачалось. Купец переколол всю посуду, стянул с ноги второй пим и им меня по голове огрел. Вот тут уж, прости меня, Господи, не стерпела и звякнула его по циферблату. Раз, два, а третий удар угодил ему по глазу и от него разом сел на пол…
– Все?
– Погоди, Анна Петровна! Распалилась я к здоровью, но сидячего бить не стала, а чтобы остудить кровь – пимы его в печь кинула. Зря, конечно. Потому пимы не повинны. Но понимай, что спалила обутки купеческие.
– С рукой что?
– Он укусил, когда за ворот его сгребла. Потом купец стал реветь, конечно, от обиды, что его баба одолела. Пимену недужному это надоело, и велел к тебе его везти.
– Ямщик где обретался, когда дрались?
– Он разом из сторожки вышел. Мужик тихого нрава. Вот теперь, кажись, все. Чего велишь с ним делать?
– Да ничего! Ступай отдохни. Как купца расписала – не больно хвастайся.
– Поняла, – взглянув на купца, Клава направилась к двери на кухню.
– Погоди! Скажи Семеновне, чтобы пару валенок принесла. Новые пусть несет.
– Черные у него были.
– Какие есть.
После ухода Клавы, Кустова спросила купца:
– Сейчас домой покатишь аль отдохнешь малость? Облик у тебя не больно привлекательный. В другой раз на чужом прииске не станешь величать себя хозяином.
– Чей прииск? Лукерьин он. Муж я ей. Значит, хозяин на нем.
– Мой прииск. Анны Кустовой. Откупила его от Лукерьи.
Купец вскочил на ноги. Растеряно глядел то на Анну, то на жену.
Взял в руку стакан с чаем:
– Выходит, ты, гадина…
– Потише! Не позабывай, что у Анны Кустовой в горнице дышишь.
Купец залпом выпил чай и сел на стул:
– Жизнь мою разрушила. Мало тебе моего горя, так стала добро разматывать, змея подколодная. Жаль мою грудь, жаль до смерти.
Анна встала, подошла к купцу. Он протянул к ней руки.
– Молчать буду, только не бей!
– Чего тебя бить. Только разговаривай с женой ладом. Лушу словом не задевай. Со мной обо всем говори. – Скрестив руки на груди, Анна отошла к окну.
– Закон на моей стороне.
– В законе много прописано. Смотри, не обмишурься!
– Бог на моей стороне! Бог с людьми на моей стороне, они мне жену для ответа достанут.
– Бога не вспоминай. Пусть он лучше не знает, что живешь на свете в Шадринске. Люди тебя хорошо знают, а потому сначала пристава спросят, можно ли тебе помочь в таком деле.
– Приставом грозишь? Всех подкупила? На всякого голодной волчицей кидаешься. Да я тебя вместе с приставом за решетку упрячу.
– Не может быть!
Семеновна принесла валенки:
– Вот нашла черные. Кажись, подойдут ему.
– Погоди! Гость больно сердитый. Вели, Семеновна, в Миасс за приставом съездить. Пусть поглядит на него да послушает, как он меня за решетку посадить собирается.
– Погоди, Анна Петровна! Ну обмолвился сгоряча, – виновато выкрикнул купец.
– Ишь ты! Сразу мое имя вспомнил.
– Дозволь, Анна Петровна, с женой поговорить наедине.
– Не о чем мне с тобой беседовать.
– Прости меня, Лушенька, в остатний раз!
– Поезжай домой! Не вернусь к тебе.
– А Господь? Он нас соединил навек. Кольцо у тебя на руке.
– Возьми! – Лукерья сняла кольцо с пальца и положила на стол.
– Накажет тебя за такое Господь.
– Наказал уж, отдав тебе в жены.
– Не свои слова говоришь, Лукерья. Одумайся! Она тебя греховностям обучила. Обе на меня встали. Обе на одного беззащитного!
– Аннушка! Дай ему пятак за купецкий балаган, да и пускай уматывает с заимки. Представляет-то уж больно не интересно, – сердито сказала бабушка Семеновна и ушла в кухню, хлопнув дверью…
2
Над Тургояк-озером весенний закат плавил медь. Небесные краски во всех переливах отражались в полыньях у берегов с остатками еще недавно таких глубоких сугробов, источенных солнечными лучами и загрязненных. Из-под них стекали в озеро мутные и прозрачные ручейки.
Уже начинал дуть ветерок, набирая силу, чтобы после заката остановить до утра кипучую суетность вешних вод.
Берегом шли Анна Кустова и ее муж Петр. Тропа извивалась по сосновому бору, в котором влажные набухшие от стаявших снегов хвойные настилы переползали узловатые корни.
Петр Кустов приехал вчера после полудня. Встреча супругов прошла с виду просто. Петр поцеловал Анну в правое плечо, она провела рукой по его голове. Потом долго не отпускали руки после крепкого пожатия. Встреча обоих так взволновала, что не сразу нашли слова для разговора. Говорили, сбиваясь с темы, позабывали, что уже несколько раз справлялись о здоровье, не в состоянии оторвать глаз друг от друга. Вечером она старалась не оставаться с Петром наедине, была рада, что бабушка Семеновна занимала его рассказами о старых годах, потом Лукерья Простова привела из девкиного барака Амине, и та допоздна пела под гитару башкирские и русские песни. Анна все время боялась, что Петр начнет говорить об их прошлой оборванной семейной жизни. Ночью Анна почти не сомкнула глаз и только утром перестала пугаться оживших воспоминаний, а на закате позвала Петра на прогулку, дав ему возможность остаться с ней наедине и расспросить обо всех годах, прожитых врозь.
Долго-долго шли молча. Петр поглядывал на Анну, а когда она оборачивалась на его взгляд, то отводил глаза в сторону. Поднялись на косогор. Анна остановилась. Их взгляды встретились, и Петр, не отводя глаз, спросил:
– Не стыдно тебе?
– Нет.
– Вот гляжу на тебя, и будто совсем ты прежняя, Аннушка.
– Седая уж.
– Глаза прежние.
– Петр!
– Что?
– Погоди! Вот ведь до чего растерялась от встречи с тобой, что только утром разглядела, что волосы у тебя начисто белые.
– Память о тебе их отмыла.
– И я о тебе помнила. Бывало, на старательстве до того устану от песков, а заснув, тебя во сне вижу. Только недавно стала тебя забывать, так ты сам приехал.
– Дорога ты мне, Аннушка! Жил любовью к тебе. А как долго искал тебя… Нашел под конец, да видно, только чтобы опять потерять.
– Ты лучше скажи, дочь у нас какая?
– Славная барышня! На курсах уже год проучилась. Характером в тебя. Гордая. А уж своенравная – не приведи Господь!
– Обо мне, поди, не помнит?
– Не позволял забывать. Любить тебя обучил. Обещалась скоро ко мне приехать. Уж тогда повидайся с ней обязательно.
– Страшно мне с ней встретиться. Без меня выросла. Может, обида у нее на меня, что бросила ее тогда.
– Вырастил, как сумел. Не осуди, ежели плохо.
– Спасибо, что на себя материнскую заботу взял. Мучилась, что дочку кинула, но не могла иначе в новую жизнь шагнуть.
– Батюшка мой, помирая, снял с тебя проклятье.
– На это мне наплевать. Я его не простила! На том свете повстречав, в глаза ему плюну за нашу загубленную судьбу.
– Родимая, скажи хоть одно ласковое слово!
– Поздно, Петр, приехал за ним.
– Понимаю, что запоздал. Как впервые в глаза твои посмотрел, то понял, что на запоре от меня твоя душа.
– А ведь есть у меня ласковые слова. Не перевелись в памяти. Не забыла, как надо их говорить. Ты, сделай милость, не пугайся правды, про которую сейчас скажу. Может, уже слышал? Люди любят про чужое радостное и горестное языки чесать.
– Ничего не слыхал про тебя. Потому ничему бы не поверил, ежели бы не от самой услышал.
– Все мои ласковые слова, Петр, ношу в себе для другого человека. Дороже всего он стал для меня. Вот потеряй его, и живым шагам на земле конец. Полюбила его за то, что возле него отогрела замерзшую от одиночества душу. Может, ты сразу и не уяснишь моего сказа. Седина у бабы в волосах, а она про любовь говорит. Не поймешь! Разлуку со мной по-иному прожил. Одиночество свое воспитанием дочери скрадывал. Не осуждал потерянную жену. Возле женского тепла не искал места. Ты ведь передо мной ни в чем не виноват. Его, окаянного, во всем виню, а пуще всего за то, что в те годы выбил из тебя мужицкую смелость заступиться за поруганную честь жены.
– Да в могиле он теперь. Нет его теперь на свете.
– И нас друг для друга не стало.
– Тогда, Аннушка, хоть дружбу со мной не отнимай!
– Об этом не проси. Всегда помни, ежели напугаешься чего возле золота, либо кто посмеет обидеть, немедля меня зови. Знай, что всегда за твоей спиной. Сам меня не бойся. Даже прозвища моего не бойся. Зря мне его таким словом привесили.
– Аннушка!
– Говори!
– Счастлива с тем человеком?
– Да!
– Не обидит тебя?
– Что ты! А если обидит…
– Тогда что?
– Не знаю. Потому, лучше не показывай меня дочери, осудит меня, да и для нее у меня ласковых слов не найдется. Поймешь ли, какую Анна любовь в себе вырастила в лесах возле озера. Не суди за высказанную правду. Все теперь чужое, кроме того человека. Не осуждай, что так говорю про свое чувство к нему. Сам сюда тоже лучше больше не приезжай. Позовешь, ежели понадоблюсь. Скажу верным людям приглядывать за порядками на приисках. А теперь пойдем в дом. Разговорами только намучим свои души.
Петр Кустов круто повернулся и пошел с косогора. Анна не двигалась с места, пока не увидела, как он закрыл лицо руками. Побежала за ним. Догнала. Отняла руки от лица, увидев мужнины слезы, быстро вытерла их ладонью.
– Петя, что ты?
– Аннушка, не могу жить без тебя.
– Да разве не понимаю! Так же, как я без того человека. Обещаю, что для тебя у меня молчаливая ласка осталась.
Анна неожиданно перекрестила Петра.
– Вот она! Поверь слову, что меня никто не перекрестит. Даже любимый не догадается это сделать. А все от того, что душа его страданием ласке не обучена…
3
Апрельским утром просторы Саткинского завода в пламени радостного солнца. В его позолоте на крышах изб переливаются краски в их омшелости. На шатровых скатах мхи укрывают одряхлевшее дерево цветастыми, бархатными лоскутами: то синевато-бирюзовыми, то красными, но чаще всего зелеными с примесью ржавщины.
В это утро в Сатке, приглушая шумы людской жизни, торжественно звучало голосистое пение скворцов. Весенних певцов в Сатке чтут. Нет людского жилья, возле коего не было бы двух, а то и всех трех скворечников.
Бородкин, сойдя с поезда на станции Бердяуш, от которой до Саткинского завода верст восемнадцать, на маневровом паровозе по железнодорожной ветке добрался до места назначения.
За это время побывав в Челябинске и в Уфе, Бородкин получил от подпольных комитетов одобрение своего плана наладить революционные ячейки среди приисковых рабочих. Возвратившись в Златоуст, советуясь с товарищами в семье Рыбакова, он обстоятельно обсудил план своей работы: прикрываясь торговлей, укреплять в людях революционную грамотность.
Местопребыванием для него были выбраны промыслы Софьи Сучковой. Когда все стало ясно, Кесиния Архиповна Рыбакова снабдила его собственноручным письмом к Луке Никодимовичу Пестову, обнадежив, что тот сумеет помочь осуществить доверенное ему партийное поручение.
Слушая с удовольствием птичье восхваление весеннего утра, Бородкин, зная точный адрес, миновав опрятную площадь, мимо торговых рядов дошел до дома Сучковых, рядом с которым на одноэтажном каменном доме увидел блещущую свежими красками вывеску над крыльцом. На ней по голубому фону золотыми буквами было написано «Контора золотых промыслов С.Т. Сучковой».
У коновязей возле крыльца три оседланных лошади.
Войдя в просторное помещение конторы, Бородкин увидел в ней за столами несколько человек, занятых разговорами и письменной работой. Один из них, сидевший за столом с резными ножками, увидев нового посетителя, сняв очки, спросил:
– Вам кого, уважаемый?
Бородкин вместо ответа задал встречный вопрос:
– С кем имею честь?
– Господин Зайцев.
– Мне необходимо повидать господина Пестова.
– Как прикажите о себе доложить?
– Бородкин моя фамилия.
Зайцев, вновь надев очки, ушел в дверь напротив его стола. Вернувшись, он, не закрывая двери, позвал:
– Лука Никодимыч ожидают вас.
Бородкин вошел в небольшую комнату с темными обоями.
У стены на ковре диван и два кресла. Посредине массивный письменный стол с серой плитой мраморной чернильницы. У стола кожаное кресло. Пестов, привстав при появлении просителя, предложил:
– Прошу садиться. Какая надобность у вас ко мне? Откуда прибыли в Сатку? – неторопливо спрашивал Пестов, внимательно осматривая гостя.
– Из Златоуста сейчас. К вам у меня письмо от Кесинии Архиповны Рыбаковой? Позвольте взглянуть.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































