Текст книги "Связанный гнев"
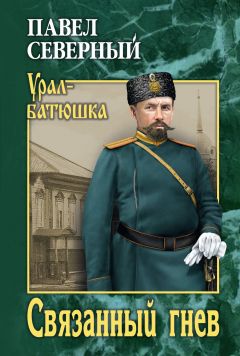
Автор книги: Павел Северный
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
В темноте пламенел костер в том месте, где речка обегала бугры в лесной чаще, где упала на нее одряхлевшая ель. Лесина запрудила речку, заставила разлиться заводью поверх кошмы непромокаемого векового настила хвои, мокретью заползти под кучи валежника.
Светился костер среди трухлявых пней. Пламя в нем веселое с говорком потрескивания. Но ветер и к нему подлетел. От его порывов огонь припадал к земле, терялся в клубах дыма, но как только проносился ветреный вихрь, пламя вновь вспыхивало с прежней яркостью, искалывая темноту багровыми язычками.
Дымок от костра утягивался к заводи, прикрывал ее, как тюлем.
В заводи костер отражался красным пятном, а от него в разные стороны уползали кровяные змейки.
У костра, прислонившись спиной к шершавому комлю сосны, сидел на земле доктор Пургин. Напротив него на кучке валежника пламя костра находило в темноте Нину Васильевну.
После заката они тронулись в путь, надеясь при лунном свете раньше полуночи дойти до известного места возле покинутого скита. Но наплыв туч прочно застелил небо, темнота воровала тропу, беспокойный лесной шум утомил слух, и путники решили отдохнуть.
На просеке выбрали за ветром укромный уголок, раздули костер и затихли около его тепла.
Дмитрий Павлович наблюдал за Ниной Васильевной. Временами видел на ее лице все черточки. Особенным казалось ему лицо любимой, а когда она низко склонила голову, он спросил:
– О чем опять задумалась?
Нина Васильевна, очнувшись от забытья, провела рукой по лбу, взглянув на доктора, ответила:
– О нас думала. Хорошо. Снова одни в ночном лесу. Вспомнила, как волновалась у Наума, ожидая твоего прихода. Напугало твое опоздание. Показалось, что не придешь. Оставишь одну развенчивать прекрасную мечту. Сейчас вспомнила, как встретились с тобой прошлым летом. Вспомнила, как встретила тебя после зимней разлуки. Сломя голову вбежала в холодную воду озера, не дожидаясь, когда лодка подплывет к берегу. Ты снова со мной. Самой придуманные страхи исчезли. Как легко жить, когда сознаешь, что кому-то важно, нужно твое существование. Во мне избыток счастья. Все еще не успела привыкнуть к нему, так люблю тебя.
Встретился доктор с ее пристальным взглядом. Нина порывисто встала. Встал и доктор. Подошел к ней, ласково обнял. Почувствовал, как она вздрогнула, а потом прижалась к его груди.
– Что с тобой?
– Ничего. Просто вдруг себя испугалась.
Освободившись от объятия, отошла в темноту, говорила, сдерживая волнение:
– Глупости! Нервничаю беспричинно. Ветер виноват. При нем в лесу начинаю бояться каждого хруста и шороха. Тревога природы путает ясность мышления. Больше всего не люблю, когда в лесу в непогоду не слышу своих шагов. Сразу начинаю думать, что способна заблудиться. Зачем говорю об этом сейчас?
Разговаривая, Нина Васильевна вернулась к костру. Бродила на свету около него. Смотрел на нее доктор, раскурив трубку.
– Ты так и не сказал, когда решил ехать в Петербург?
– В начале сентября.
– Какое счастье. Еще долго будем вместе.
– Нина!
– Что?
– Сегодня тоже не ответишь? Неужели не решила?
– Сразу решила, когда ты спросил. Почему молчу, сама не знаю. Мы повенчаемся, когда вернешься от мамы.
– Со мной не поедешь?
– Нет.
– Это огорчит маму. Она ждет нас.
– Хочешь знать причину? Боюсь.
– Глупая. Должна же ты увидеть Россию, почувствовать ритм ее бытия.
– Моя Россия – Урал. В нем все отголоски биения сердца прекрасной родины. Для меня здесь вся Россия. Мне не нужно смотреть на нее в столице, я чувствую ее в лесной душе родного края.
– Твой отказ путает мои планы. Мне будет тягостна разлука с тобой.
– А мне?
– Отказаться от поездки не могу. Мама ожидает меня с таким нетерпением. Даже отсрочкой поездки не смею ее огорчить. Мама была моим верным и чутким другом. Она не высмеивала мои фантастические мечты. Теперь встретимся с ней седыми. Она без слов поймет, отчего у меня седина. Тебе будет с ней легко.
– Милый… Постарайся понять. Ты должен встретиться с матерью один. Ведь это особенная встреча матери и сына. Она одинока?
– Да, очень одинока. Отец умер. Он был мне всегда чужим. Его суровая сухость самовлюбленного сановника отпугивала меня. Мне казалось, что он снисходительно терпит мое существование. Ценил отец только себя. Старался всех подчинить своей непреклонной воле. За деспотичность его не любили. При моем отъезде на Урал он не подал мне руки. Назвал меня глупцом, ломающим карьеру из-за сантиментов в угоду завистникам. Сцена прощания запомнилась мне очень хорошо. Запомнился отцовский холодный театральный кивок головой. Но еще ярче запомнились глаза матери. Глаза без слез, наполненные страхом за мою судьбу. В пятом террористы убили отца. Я решил повидать маму, когда получил от нее зимой письмо, в котором пишет, что счастлива, узнав о моей любви к тебе, Нина. А что, если уехав, потеряю тебя?
– Никогда. Слышишь, никогда. Сама пришла к тебе в ту дождливую ночь. Но сама от тебя не уйду. Люблю тебя искренне и глубоко.
– Прошу, поедем вместе.
– Не проси. Поезжай, как можно скорей. Побудь с матерью. Расстанься ради нее со всем. Пусть ее душа найдет покой, пусть поверит, что для тебя она дороже всего. Кроме того, встретишься в Петербурге с прошлым.
– Почему не хочешь быть при этой встрече со мной?
– Она должна быть с глазу на глаз. Для меня твоего прошлого не существует, встретила тебя в реальности лесной жизни. Да и тебе необходима разлука со мной. Проверишь свое чувство среди прошлого. И если…
– Нина!
– Хорошо. Уверена в тебе. Не боюсь отпустить. Уверена, что мама не отнимет тебя. Лучше всего, привези ее сюда. Троим нам будет покойно, радостно и просто хорошо. И всегда помни, что посмела встать на тропу твоей жизни с единым желанием принести радость. Буду ждать. Буду скучать, считать дни, а когда Урал укроют снега, ты вернешься ко мне навсегда, позабыв прошлое, повидав его мельком в последний раз. Счастье и радость рождения в себе женщины испытала с тобой полностью. Твоя навсегда, и хочу тебя считать навсегда своим. Уверена, что вернешься ко мне, в полюбившийся край, где на всякой лесной тропе любой путник верный друг «лапотного доктора».
В лесу залаяла собака. Нина Васильевна и доктор слышали, как на собаку кто-то прикрикнул, и лай стих.
– Кто-то идет на наш огонек.
Уже слышны шаги по гальке. Заплескалась вода в заводи.
Из темноты вышел на свет коренастый мужик, обвешанный котомками и снастью старателя.
– Золото на грязи, знакомцы!
– Того и тебе желаем, добрый человек, – ответила Нина Васильевна.
– Спирей Хохлом меня кличут в лесах, братаны. Не обессудьте, что на вашу светлинку вышел. Приплутал малость. Место незнакомое, шагаю к Настиному омуту.
Собака пришельца, осмелев, деловито обнюхала ноги Нины Васильевны и доктора.
– Может, дозволите чайком побаловаться?
– Сделай одолжение. Мы сейчас дальше пойдем. Отдыхали, – ответил доктор.
– В такую лесную баламуть не раз присядешь с устатку. Ветрило. От шума ноги тяжелеют. Путь ваш в какую сторону?
– На восход.
– Ну что ж, мягкой вам тропы, в добрый час. А я чаек налажу. Рогулька железная у меня при себе.
Пришелец освободил себя от котомок. Не спеша наставил над костром треногу. Ушел в темноту с чайником. Слышно, как черпал в него воду. Вернувшись, повесил чайник над огнем.
– Счастливо оставаться, Спиря, – сказал доктор.
– Добрый путь. Не серчайте, что от костра поднял на ноги. Кабы не дозволили, силой не стал бы греться. С понятием живу. Прощайте, значит.
Под ногами Нины Васильевны и доктора хрустел валежник, шли они по просеке напрямик, вышли на песчаную кромку речки. Впереди шел доктор. Нина Васильевна тихонько пела…
7
Софья Сучкова и Вадим Новосильцев возвращались с нового промысла после осмотра на нем парового котла и машинного оборудования для толченой и промывочной фабрики.
Не доезжая версты до Дарованного, Софья предложила гостю осмотреть озеро в Волчьих холмах. Новосильцев согласился, и они, отпустив тройку, пошли пешком.
Вначале шли по тропе, вившейся по краю овсяного поля. Легкий ветерок шевелил овсы, от этого по их пространству перекатывались воланы, похожие на спокойные волны в морском заливе.
Шли рядом. Софья, наклоняясь, срывала васильки. Новосильцев, задумавшись, смотрел под ноги.
Софья, зайдя вперед, обернувшись, улыбаясь спросила:
– Вадим Николаевич хотите копеечку за тайные мысли?
– Хочу.
– О чем думаете?
– О вашем новом промысле.
– Что-нибудь не понравилось?
– Мне кажется, одного котла для задуманных толченой и промывочной фабрик мало. Не хватит у него силы все машины привести в движение.
– Вы правы. Такого же мнения и управитель Саткинского завода. Но для меня лиха беда начало.
– Откуда у вас этот котел?
– С Саткинского завода. На нем он списан в негодность.
– Хватит его, конечно, ненадолго. Хотя вид у него настолько приличный, что даже не зарождается мысль, что он из списанных.
– Это благодаря моим слесарям, по совету механика и Бородкина.
– Купеческий приказчик понимает в котельном деле?
– Мой механик его советы принимает беспрекословно.
– Признаться, сама часто поражаюсь, как Бородкин отлично разбирается в машинах.
– На его руки обращали внимание?
– Нет.
– Мне они кажутся руками рабочего.
– Для меня они просто руки. Не заметила в них ничего особенного.
– Есть в них особенность. Удивительная точность движений и цепкость пальцев при рукопожатии. Слышанные его советы относительно омоложения и установки котла убеждают меня, что Бородкин в этом деле опытный человек. Но тогда странно, почему он купеческий приказчик. Он из Сатки?
– Нет, приезжий из Московской области.
– Каким же образом заполучили его?
– Пестову рекомендовали знакомые из Златоуста.
– Завидую, что у вас мудрец Пестов.
Тропа утонула в березовом перелеске, наполненном щебетанием пташек. Сразу стало душно от сухого дыхания земли.
– Вадим Николаевич, не уезжайте сегодня вечером, – попросила Софья.
– Мне необходимо побывать на Овражном. Обещал доктору Пургину. Он познакомит меня со своей невестой.
– Невестой?
– Да, у него невеста.
– Кто она?
– Учительница.
– Но Пургин такой странный. О нем ходят буквально легенды.
– Он необыкновенно хороший человек. У него редкостный дар милосердия к людям.
– Разве у вас его нет?
– И не могло быть в силу моего воспитания.
– Значит, уедете?
– Попрошу разрешения вернуться дня через два.
– Не обманете? Знаете, Вадим Николаевич… Впрочем, не рано ли говорить об этом?
– О чем, Софья Тимофеевна?
– Так, ни о чем. У меня иногда появляется неожиданное желание быть с вами откровенной. Но быть таковой еще рано.
Перелесок кончился неожиданно, и Новосильцев увидел среди луга каменистые холмы, покрытые бархатистыми мхами и лишайниками.
– Вот и Волчьи холмы.
– Красивы. Какая гамма красок на камне. Гамма, на которую способна только природа. Ольга Койранская видела их?
– Пока нет. Идемте скорей к озеру.
– Где оно?
– Среди холмов. Побежали!
Софья побежала к холмам, добежав до них, обернулась, а увидев, что Новосильцев стоит на прежнем месте, закрыла лицо руками.
– Что с вами, Софья Тимофеевна? – встревоженно спросил Новосильцев и быстро пошел к ней.
Отняв руки от лица, Софья пошла навстречу и, подойдя вплотную, прислонилась лбом к плечу Новосильцева.
– Простите, ради бога, дуреху. Простите, что посмела забыть, что вам трудно бегать. Мне стыдно за свою ветреность.
– А я в восторге от вашей самобытности. Она в вас во всем.
Софья удивленно смотрела на Новосильцева. Совсем близко видела его глаза, не поняв их взгляда, отшатнулась.
– Да-да, именно во всем, и впервые осознал ее, когда играли Ларису в «Бесприданнице».
Между каменистых холмов вышли к озеру. Небольшое, оно лежало в гранитной чаше. Вода, отражая небо, усиливая его окраску в своем зеркале, была ярко-голубой.
– Вот здесь, Вадим Николаевич, Лука Пестов обогащал мою детскую память волшебством русских сказок, запомнившихся мне на всю жизнь.
– Позже вы станете рассказывать сказки вашим детям, обогащая их память. А ведь, Софья Тимофеевна, и я помню сказки, услышанные от няни, которую буквально обожал. Она казалась мне похожей на Арину Родионовну, обучившую Пушкина величию своего народного русского языка. Если бы вы знали, как скучно стареть в одиночестве.
– О чем вы, Вадим Николаевич? Вокруг вас всегда люди. Люди очень интересные. Сами любите жизнь общества, любите саму жизнь среди природы Урала.
– Да. Людьми не обижен. Но почему не допускаете мысль, что мне хочется, чтобы возле меня был один человек, способный осветить своим присутствием мое существование, способный понять смысл моей жизни?
Софья слушала Новосильцева, склонив голову, и, сделав шаг, попросила:
– Пойдемте.
– Вам моя откровенность неинтересна?
– Нет! Я просто боюсь ее!
– Может быть, правы. Меня самого не раз пугала откровенность людей. Но моя откровенность… Впрочем, сами убедитесь со временем, что она не могла вас напугать.
Уйдя от озера, они до Дарованного шли молча…
8
По небу стелились розовые, оранжевые и алые ситцы заката.
На вершинах Чашковских гор, вокруг Тургояк-озера сосны еще грелись в прощальных солнечных лучах.
Берега озера в тени, на них с воды поднималась сизая мглистость. Поодаль от заимки Кустовой протянулся от скал к воде озера коврик изумрудной полянки. На ней лежал, подложив руки под голову, Михаил Болотин. Он приехал к Анне на лето из Миасса в тот вечер, когда она привезла с Овражного Зою-Рюмочку.
Сегодня на рассвете Кустова уехала по делам в Миасс, а Болотин, чтобы скоротать в одиночестве время, пошел бродить по окрестностям, сказав Анне, что после заката будет ожидать ее на любимом месте.
Наблюдая смену закатных красок, слушая кукушкину ворожбу, Болотин не услышал, а почувствовал, что около него кто-то остановился. Повернувшись, увидел в нескольких шагах Зою.
– Здравствуйте, Михаил Палыч.
– Добрый вечер, Зоя.
– Пришла ополоснуться, а вы как раз тут.
– Не помешаю. Купайся.
– Да вроде стыдно.
– Вот глупости.
– Как стану разболакаться при вас?
– Да кругом густые кусты. Я отсюда не уйду.
– Пошто уходить?
Зоя пошла к озеру. Потрогала воду босой ногой.
– Студеная, – снова подошла к Болотину. – Кажиный вечер купаюсь. Седни крупу пересыпала, запорошилась вся.
Болотин, глядя на девушку, невольно любовался ее стройностью.
Зоя заметила, что разглядывает ее, засмеялась, повернулась спиной и сказала шепотом:
– Сичас не глядите. Вон в тех кустах стану разболакаться. Право, зажмурьтесь, Михаил Палыч. – Зоя снова повернулась к Болотину лицом и лукаво прищурилась.
– Мне совсем неинтересно на тебя смотреть.
– Неправду сказываете. А чего уставились? – Зоя начала расстегивать кофту. – Экая у меня петля округ этой пуговки тугая.
Расстегнув кофту, она медленно пошла в кусты. Скоро стремительно выбежала из них обнаженная, побежала по воде и, упав, поплыла.
Болотин прикрыл глаза от внезапной мысли, в голову прилила кровь. Открыл глаза. Видел, как Зоя плавала возле берега, кричала ему, но слов разобрать не мог. Потом видел, как Зоя начала медленно выходить из воды и, разбрызгивая воду, скрылась в кустах.
Болотин закурил папиросу. Одевшись, Зоя вышла из кустов. Подошла к нему:
– Хорошо ополоснулась. Просто горю вся. Вода холоднющая, как иголками колется. Папироску дадите?
– Разве куришь?
– Балуюсь. Сичас охота.
Болотин протянул ей раскрытый портсигар. Зоя взяла папиросу, нагнулась, прикурила от папиросы Болотина.
– С вами посидеть можно?
– Садись.
– Вот тут сяду.
Села около ног Болотина.
– У тебя, Зоя, оказывается, зеленые глаза?
– Да серые они. Это от полянки зелеными вам кажутся. – Затянувшись дымом, Зоя закашлялась.
– Эх, курильщица.
– Волнуюсь, вот и задохлась.
– От чего волнение?
– Да все от того же. Нравитесь мне.
– Зоя…
– Знаю, что у вас с Анной Петровной любовь заметана. Но все одно нравитесь. Вот полюбили бы меня, то всю бы вам душу отдала.
Болотин засмеялся.
– Вам смешно? А мне обидно, что другая вас от меня отняла.
– Ну чего ты чепуху мелешь? Хорошая ты, Зоя. Красивая.
– Про это знаю. Красивая, а толку что? Ласкаюсь иной раз с кем, а покоя не нахожу. Прямо несчастная какая-то.
– Полюбить тебе надо горячо и беззаветно.
– Как это? Может, обучите?
– Нельзя этому научить.
– Вы, значит, любите Анну Петровну?
– Ну о чем спрашиваешь?
– Меня, стало быть, даже в шутку не поцелуете?
– Да перестань дурачиться.
Болотин встал на ноги.
– Не уходите. Право слово, больше ни одного слова не скажу.
– Вот что, Зоя. Пожалуйста, при мне больше никогда не купайся.
– Понимаю. Уж за этот разок извините. Нарочно пришла, чтобы вам показаться. Думала, понравлюсь, а выходит, только хуже сделала.
– Потому и прошу, что нравишься.
– Да вы не бойтесь, Анна Петровна не узнает.
– Уходи, Зоя.
– Прогоняете? Но все одно когда-нибудь вас поцелую. Потому, ежели не добьюсь своего, седая стану от обиды.
Болотин пристально посмотрел на Зою, но она не отвела взгляда. Болотин укоризненно покачал головой и пошел к озеру. Зоя тоже встала на ноги. Лениво потянулась. Пошла за Болотиным. Дойдя до берега, остановилась. Смотрела, как Болотин шел по песчаной кромке. Нагнувшись, подняла гальку, кинула в воду, а когда булькнула вода, услышала за спиной голос Кустовой:
– Зоя, Михаила Павловича не видела?
– Вон идет.
– Разговаривала с ним?
Зоя повернулась к Кустовой, глаза в слезах.
– Разговаривала.
– Никак, плачешь?
– Себя жалко.
Кустова обняла девушку.
– До чего же много в тебе беспокойства. Обязательно выдам тебя замуж, а то загубишь себя влюбчивостью. Ми-и-ша! – крикнула Кустова.
Болотин, услышав, обернулся. Кустова побежала к нему.
Зоя стояла и смотрела. Видела, как Кустова подбежала к Болотину, как он поцеловал ее, взял под руку, слезы в глазах Зои стерли всю ясность того, на что смотрела…
9
В открытые окна горницы доносился шум летнего дождя.
Приехавший к Кустовой Егор Муханов сидел на диване. Анна стояла, прислонившись к стене. Расчесывая бороду пальцами, Егор говорил:
– Сам разумом понимаю, Аннушка, что не в малых годах. Все хорошо понимаю, но все одно начисто покой утерял. Как увезла с прииска Зою, ни одной ночи ладом не скоротал. Работа из рук валится. На людей из-за всякого пустяка глотку деру. А ведь это в моем положении просто нехорошо. Как ни раздумывал, а понял, что не могу Зою позабыть. На слово верь. Раньше со мной никогда такого не бывало. Прямо будто с ума схожу, потому Зоя везде мне мерещится. Может, и слушать меня смешно, только не стыдно мне тебе об этом говорить.
– Говори, говори, чтобы правильно поняла, зачем приехал.
– Вчерась хозяин был на прииске. Нахмуренность мою приметил, да и спросил, что со мной приключилось: «Скажи, Егор, всю правду, как мужчина мужчине».
– Ну?
– Рассказал ему обо всем. Вадим Николаевич, выслушав, велел со своей заботой к тебе за советом податься. Невмоготу, Аннушка, мне вдовым жить. Помоги хозяйкой обзавестись. Зоя полюбилась мне. С первого дня, как по весне на прииск пришла.
– Вот теперь мне ясна причина, из-за которой просил ее от тебя увезти.
– Не мог смотреть, как за ней мужики да парни увиваются.
– Жениться решил?
– Все честь по чести. После свадьбы все накопленные деньги в ее руки отдам. Как думаешь, пойдет она за меня?
– А чего нам гадать. Возьмем разом и спросим ее.
Анна вышла из горницы, но скоро вернулась.
– Придет сейчас Зоя.
Муханов разволновавшись, встал на ноги и забродил по горнице.
– Волнуешься?
– Да шутка ли сказать, какое дело задумал.
– Садись! И волнение свое Зое не показывай. Ох, и дураки вы иной раз, мужики, из-за нашего брата.
Муханов послушно сел на диван на прежнее место. В горницу вошла, улыбаясь, Зоя, но, увидев сидевшего Егора, остановилась и поклонилась ему.
– Звали, Анна Петровна?
– Прикрой плотнее дверь и садись на любое место.
Зоя, прикрыв дверь, села на стул. Анна прошлась. Зоя смотрела на нее с удивлением. Анна остановилась возле девушки.
– Зоюшка, тут такое дело. Егор Филиппович сватает тебя.
Зоя встала на ноги.
– Ты ему полюбилась. Просит женой ему быть. Как решишь?
Зоя, не отрывая взгляда от Анны, растерянно провела рукой по лбу.
– Жарко седни!
– Ты вот что. С ответом не торопись. Подумай до вечера. Только ладом подумай, потому у Егора серьезные намерения. Да что я за него говорю. Он сам тебе все сейчас скажет. Говори, Егор. А я пойду о самоваре распоряжусь.
Анна ушла, неплотно прикрыв за собой дверь. Егор, встав, отошел к окну. Набил табаком трубку, не торопясь ее раскурил.
– Что скажешь, Зоя? – спросил Егор почти шепотом.
Девушка, потупившись, молчала. От волнения она даже вся обмякла. Казалось ей, что собственные руки тянут ее к полу. Слышала, как Муханов, откашливаясь, говорил:
– Весь перед тобой на виду. Руку твою прошу, потому жить без тебя тягостно.
– Спасибо, Егор Филиппович, за оказанную честь. Только ведь знаете, что обо мне сплетни ходят. Молва приисковая – отрава для любой семейной жизни. Ветреная да и ласковая я.
– Об этом забудь. Про мою жену никто не посмеет лишнего слова сказать. Сделай милость, обогрей душу. Худо тебе со мной не будет.
– Неужли, когда на прииске робила, нравилась вам?
– С первого погляда. Сам просил Аннушку, чтобы увезла тебя, потому не мог глядеть, как около тебя мужики вертелись.
– А ежели они и после нашей свадьбы станут возле меня вертеться?
– Тогда не посмеют!
– Так понимаю, Егор Филиппович, что тревожно вам будет со мной.
– Пойми, девушка, темно мне без тебя в жизни. Для твоей молодой радости у меня деньжонки водятся.
– Про это не говорите. Мне денег не надо. Ежели пойду за вас, то для вас только и стану жить. Самой одинокая жизнь до лысых чертей надоела. Всякий ко мне вяжется, а от скучищи иной раз и сама начинаю вязаться.
– Может, подумав, решишь до вечера?
– Надумаю. А теперь дозвольте идти.
Зоя пошла к двери. Дойдя до нее, остановилась. Обернулась. Спросила:
– Прошлой ветреностью не станете попрекать?
– Да разве посмею! Честью покойной матери клянусь!
Зоя пристально смотрела на Муханова. Постепенно на ее лице ожила нежная улыбка.
– Так скажу. Не стану до вечера думать. Сейчас, не сходя с места, скажу. Пойду женой к вам.
– Родимая! Выходит, могу тебя как невесту поцеловать?
– Ваша с этой минуты, Егор Филиппович…
10
На просторном балконе второго этажа, нависшего над террасой приисковой конторы, в жаровнях на треногах дымили гнилушки для отпугивания мошкары и комаров.
В тени под парусиновым тентом после ужина в плетеных креслах разместились Олимпиада Модестовна, Софья Сучкова, Новосильцев, доктор Пургин, Нина Васильевна и Владимир Воронов.
Ольга Койранская, скрестив руки на груди, ходила по балкону.
С реки доносилось слаженное хоровое пение. Пели женские голоса. Задушевная мелодия песни будила ночную тишину.
Наступившая ночь лишь слегка уменьшила духоту знойного дня.
Прииск Дарованный на полном лунном свету разукрашен живописью из переплетения световых бликов с рисунками причудливых теней. Всюду очарование контрастных красок: зеленовато-голубых, синих и черных.
Луна кинула на реку рваную рогожку своего отражения, она, переливаясь серебристыми блестками, то тонула, то всплывала на стылой речной глади.
На горизонте дальние заплоты лесов в дыму туманов, как богатырские рати, замерли на вечном дозоре.
Русская песня! Ей дана могучая сила подчинять себе людской разум. На исконной русской земле песня народилась от женского сердца в то далекое, давно потерянное памятью время, когда на истоках существования государства Руси следы женских ног печатались на седине росы студеных утренников. Тогда под тягучий вызвон струн на гуслях в жизни женщин угнездились труд и страдания.
Разными походками шагали женщины с песнями по крутым жизненным горкам, поднимаясь каменистыми тропками к уголкам своего счастья, радости и горести. В те времена женщины выплачивали тяжелую дань постылым врагам, выкупая беззащитность своего существования красотой, умом, хитростью, ибо плохо оберегали их покой трухлявые частоколы на рубежах Руси. Тогда женщин уводили в полон половцы, печенеги и татары, табунами угоняли, а они, покидая родимую землю, шли, омывая слезами бездорожье разлуки под печальные песни, схожие со стоном, шли разбуравливая волны степного ковыля, мимо курганов, спугивая с них каркающее воронье.
Женщины Древней Руси руками, не знавшими устали, взрыхляли девственную целину земли, приучая ее рожать хлеб, слезами отмывали вражескую пакость с половиц своих семейных очагов. Тягостна была женская доля, но ее безрадостность украшала колыбельная песня, разносимая по государству эхом дремучих лесов. Борьба за право владеть счастьем матери, жены и любимой приучала женщин к подвижнической выносливости и мужественной гордости. В их сердцах теплился негасимый огонь любви, его свет разгонял темноту бесправия, а тепло, согревая, облагораживало жизнь достойных и недостойных.
Женская любовь это та же песня. Песни западали в память народа, ибо только их напевность скрашивала все ненастья его жизни на ухабах всяких исторических путей.
Рука об руку с мужчинами вышагивали женщины, вызволяя Русь от татарского ига. Они владели мудростью исподволь остужать мужскую злобу. Лаской, повадкой с улыбками пеленали ревность мужей и суженых, обуздывали мужскую усобицу в государстве, скручивая на певучих веретенах пряжу, помогая народу суровыми нитками сшивать воедино на веки веков разбродную, сварливую, удельную Русь.
Какой предельно мужественной была судьба матерей, учивших детей больше жизни любить родную землю, учивших детей с песней ходить по ухабистой русской земле, не запинаясь и не падая.
И так из столетия в столетие. Из эпохи в эпоху. От землянок и курных изб до теремов со слюдяными окнами. От сарафанов покроя княгини Ярославны, до золототканой парчи бережливого Ивана Калиты.
Но никогда от того или иного испуга женщины не смежали век, даже перед битьем «правежа» Ивана Грозного, а только со вздохами обтирали со своих иконописных лиц холщовыми рукавами брызги крови мутного времени, бесстрашно утверждая свою жизненную правду.
Женские руки при свете лучины выткали рубаху под кольчугу Александра Невского, сшили плащ Дмитрия Донского, укрыв им Русь от татарского ига. С песней помогли обмять и обжить Каменный пояс и Сибирское царство.
Доброта и злоба в женских разумах зарождалась стихийно, ибо слишком непосильные тяготы перетаскивали они на своих плечах. Но, несмотря на все, они жили, не сгибаясь, и шли с песней сквозь бураны, по трясинам бесправной жизни, одаривая за свою радость и горемычность угнетенных и угнетателей рождением гениев, от жизни коих вздрагивала в ознобе история Российского государства…
Доносилась песня с реки, одухотворяла тайные мысли бывших на балконе. Все слушали песню, думали о своем, но слова песни помогали думать, ворошить память, устремлять мысли в мечту.
– Господа! – обратилась Ольга Койранская. – Заметили, как удивительно легко песня стреножила наши мысли, взбудораженные спорами за ужином. А ведь как спорили, стараясь доказать давно доказанное, поставив его с ног на голову!
Закинув руки за голову, Койранская постояла у перил, а, начав ходить, заговорила:
– Почему в настоящей жизни мужчины стараются не давать женщине одинаковое с собой право на пути их стремления к величию своего духа? Неужели нашим мужчинам страшно, что мы бываем, подстать им, умны? Разве можно отрицать, что красоту в их жизни утверждаем именно мы, несем им покой семьи и среди всех наносимых нам обид умеем гордо прощать обидчиков, сознавая, что в их душах и сердцах нет той, только нам принадлежащей вдохновенной ласки, способной согревать холод в мужской душе?
Но Койранская замолчала, заметив, как Владимир Воронов, встав, ушел в открытую дверь столовой. Остановилась, видела, как в темноте столовой вспыхнула спичка, а Воронов, вновь появившись на балконе с горящей папиросой во рту, сел на прежнее место. Койранская спросила его:
– Володя, тебе стало скучно от моих мыслей вслух?
– Извини, Оля! Захотелось курить, а папиросы оставил в столовой.
– Меня твой уход обидел. Ты сегодня невнимателен ко мне.
– Неправда!
– Может быть. Кажется, ревную тебя.
– К кому?
– Сама не знаю. Я сегодня слишком взъерошенная.
– Вот это правильно молвили, Ольга Степановна. Сегодня все вы не в своих тарелках. Из-за пустяков за ужином спор затеяли чуть ли не до крика, – подала голос Олимпиада Модестовна. – Взъерошливость ваша мне понятна. Духота всех намаяла, а сейчас к ней еще ворожба лунного света примешалась.
– Бабушка права! – подтвердила Софья. – Из-за плохого настроения я сегодня даже на бухгалтера Рязанова накричала.
– Чем прогневил?
– Не раз говорила ему, чтобы следил за своей внешностью, а он продолжает ходить небритым и неопрятно одетым. Стыдно! Интеллигентный человек.
– Правильно поступила. Так и впредь заставляй свое хозяйское слово ценить и уважать.
– Но ведь могла сказать без крика?
– Рязанов поймет, что накинулась на него не со злобы, а от девичьего каприза.
– Разве девичий каприз не одинаков с женским? – спросила Нина Васильевна.
– Конечно, не одинаков, – ответила Олимпиада Модестовна. – Девичий каприз иной раз всякой дикостью может обернуться, особливо ежели над ним силу влюбчивость возьмет. Баба иной раз разумом догадается примять досаду от любовной обиды, а девка, та всю горечь до единого слова на обидчика выплеснет.
В столовой часы тягуче прозвонили десять ударов.
– Десятый час минул. На покой пора, дорогие гости!
– Рано, Олимпиада Модестовна. Прислушайтесь к песне. Опять новую запели. А ведь завтра у них рабочий день, и начнут его чуть свет.
– Ольга Степановна, певуний, как и нас, луна баламутит. Поют молодухи с девками, а они и без сна на работу злые. Возле золота во всяком жадность заводится.
– Судить про лунную баламуть не берусь, но убежден, что певуний возле реки злостно грызут комары, – произнес доктор Пургин.
– Слышите, господа, сколько грусти в песне? – спросила Койранская.
– Грустные песни на приисках теперь в моде, Ольга Степановна.
– Почему, Нина Васильевна?
– Мне лично кажется, что песенной грустью женщины отгораживают разум от душевного страха.
– Что пугает их душу?
– Видимо, то же, что и всех нас. Россия живет ожиданием в будущем чего-то неведомого. Вот у женщин раньше всех и заводится страх перед ожидаемой неизвестностью.
– Что вы, Нина Васильевна. Допускаю, что у женщин на промыслах может появиться тревога, но только не страх. Подумайте, чем можно вообще испугать русскую женщину после буквально страшного исторического пути государства? Убеждена, и снова повторяю, что женское мужество одинаково с мужским, а порой даже выше. Скажите, чем можно их испугать?
– Как чем? – резко спросила Олимпиада Модестовна. – Простите, что вклиниваюсь в разговор. Необдуманно отнимаете у женщин наличие страха. Аль мало натерпелись они всякого за последние годы смуты в империи? Не успели, обревевшись, отереть слезы после войны с японцами, как новый страх окатил с головы до пят от бунтарства мастеровщины против государственной власти. По нашим бабам вижу, как их разум леденит страх. Понимают, что от бунтарства опять на их долю выпадут гробы да слезы. Вот бабы и мечутся в страхе, иной раз от собственной тени. На всех промыслах злобятся бабы от страха. Потому лучше мужиков сознают, что бунтарством против царской воли райскую жизнь не наладить. У баб в чем главная нужда? В семейном покое. А мастеровые мужики лишают их этого покоя. Потому рабочих всякие ученые умники-разумники дурными поучениями с доброго пути сбивают. Внушают им, что, дескать, у рабочего люда жизнь без свободы тяжелая. Внушают, что виноваты в том перво-наперво дворяне да всякие богатеи хозяева, душой и телом преданные царю-батюшке.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































